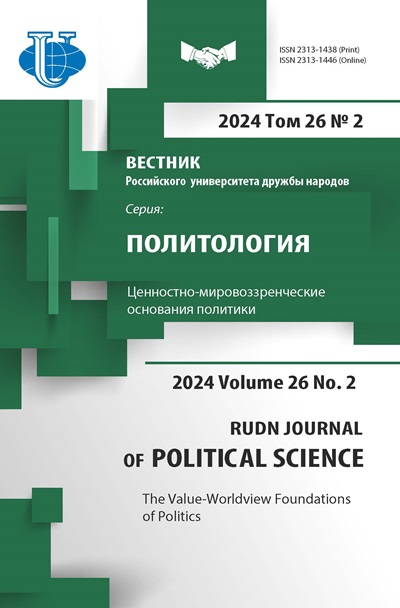ЭФФЕКТИВНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ: В ПОИСКЕ ОБЪЕКТИВНОЙ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ И ИЗМЕРЕНИЯ
- Авторы: Камоликова В.Р.1, Шулика Ю.Е.1
-
Учреждения:
- Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
- Выпуск: Том 20, № 2 (2018)
- Страницы: 255-268
- Раздел: Актуальные вопросы политической науки
- URL: https://journals.rudn.ru/political-science/article/view/19069
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-1438-2018-20-2-255-268
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В статье авторы критически анализируют некоторые подходы к пониманию эффективности государственного управления, ее операционализации и количественного измерения. Авторы ставят под вопрос точность и объективность некоторых концепций и методологий, используемых эмпирическими базами данных по оценке эффективности государства. В статье авторы ставят перед собой цель - выявить существование объективной эффективности, которая отвечала бы принципам ценностной нейтральности (отсутствие нормативности), и всеобщности. В частности, во главу угла ставится релевантность оценки эффективности государственного управления вне зависимости от политического режима, формы правления и государственного устройства. В качестве одного из возможных решений данной проблемы предлагается акцентирование внимания исследователей на способности государства преобразовывать имеющиеся у него ресурсы в общественно-значимые результаты с минимальными издержками - подход, в основе которого для количественного измерения используется «оболочечный анализ», или Data Envelopment Analysis.
Полный текст
НАСКОЛЬКО ТОЧНЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКЕ? Идея о построении концепции объективной эффективности государственного управления может по праву считаться нетривиальной задачей - в проблемное поле попадают различные подходы исследователей к понятийно-категориальному аппарату, операционализации, количественному измерению. При этом предлагаемое, в том числе авторами данной статьи, решение проблемы объективной оценки эффективности государства есть и останется субъективной точкой зрения ее авторов. В этом смысле ключевой вопрос заключается в том, почему несмотря на существование множества теоретических подходов к качеству государственного управления и наличие эмпирических баз по его оценке, которые в той или иной степени используются научным сообществом, поиск альтернативного подхода к концептуализации эффективности государства представляется нам необходимым. В данном случае речь идет именно о конвенциональном пересмотре принципов к построению данного концепта. Цель настоящий статьи заключается в предложении подхода к построению концепта эффективности государственного управления с учетом редукции фактора субъективности, выраженного в нормативности, политической ангажированности, несоответствии принципам ценностной нейтральности. Мы предполагаем, что поиск «более объективного» понимания и измерения эффективности качества управления обусловлен следующими причинами: а) необходимость разрешения проблемы идеологической ангажированности и нормативности некоторых подходов при составлении концепций и показателей качества государственного управления; б) проблема использования метода экспертных оценок при формировании количественного показателя; в) необходимость учета внешних условий и минимизации идеализированного понимания государства как института, обязанного реализовывать заявленную политику в любых условиях. Важно подчеркнуть, что первые два аргумента исходят из того, что различные концепции качества государственного управления и индикаторы отражают эффективность государства в той или иной степени, но при этом являются порождением определенных «представлений» об эффективности. Прежде чем мы более подробно раскроем истоки возникновения вашеуказанных аргументов за пересмотр оценки государственной эффективности, следует обозначить ряд допущений, которые мы накладываем в рамках данной статьи, а также ограничений рамок исследования. Касательно использования понятийно-категориального аппарата мы говорим об эффективности государственного управления и качестве государственного управления в единых терминах. Качество государственного управления (государства), эффективность государственного управления (государства) представляются нам близкими по значению категориями на том основании, что во главу угла поставлено общественное благо (public goods) в качестве абсолютной ценности. Говоря об объективном измерении эффективности, следует отметить, что самой по себе объективной эффективности как нечто «абсолютного» не существует. Основная причина заключается в том, что такое понятие, как «эффективность», связанное с деятельностью индивидов (самих по себе или в рамках общности), не может быть оценено объективно этими же индивидами. Иными словами, в политической науке исследователь не может быть отделен от объекта исследования. Несмотря на это ограничение, мы можем «приблизиться» к объективному измерению эффективности. В идеальном виде это означает, что мы искореним из операционализации такие факторы, в основе которых лежит субъективная составляющая (например, связанные с методом экспертных оценок, или показатели, заточенные под конкретный политический курс), таким образом, что в сухом остатке должно остаться субъективное мнение самих авторов данной статьи, заключенное в предложении подобного рода подхода к решению проблемы объективности. Рассмотрим некоторые подходы к пониманию эффективности государства и качества государственного управления на предмет возможного приближения к более «объективному» пониманию этих категорий. а) Качество государственного управления без привязки к политическому режиму Различия между демократиями и автократиями размываются, когда речь идет в первую очередь об особенностях всякого государства в отношении легитимности, эффективности, стабильности и консенсуса, поэтому, как писал в 1968 году С. Хантингтон, «самое важное политическое различие между странами касается не их формы правления, а степени (уровня) их правления (degree of government) [10. P. 1]. Идею о «минималистском» подходе к пониманию качества государственного управления можно проследить в работах, посвященных потенциалу государства (state capacity) - многосоставному концепту, также вбирающим в себя проблему эффективности государственного управления. Ч. Тилли, писавший о том, что ключевые функции государства - возможность извлекать ресурсы и создавать административные структуры для управления этими ресурсами с целью ведения войн [16], определяет потенциал государства (state capacity) в своей работе «Демократия» [15] через степень «вмешательства государственных агентов в существующие негосударственные ресурсы, деятельность и межличностные связи и соответствующее изменение распределения этих ресурсов, деятельность и межличностные связи и соотношение таких распределений». Другими словами, «принятие решений государственными агентами столь весомо, что оно обходится без взаимных консультаций и процедур обсуждения правительства с гражданами» [15. P. 32]. Он относит потенциал государства к важной характеристике режима, заключенной в способности государства проводить политические решения в жизнь. Ч. Тилли подразделяет все государства по наличию двух пар характеристик: «демократия/недемократия1» и «высокий потенциал/низкий потенциал». Аналогичной логике придерживаются и другие исследователи [7, 11] - потенциал государства рассматривается в терминах способности реализовывать политический курс, и его можно измерить. Кроме того, высоким уровнем потенциала могут быть наделены как демократические, так и недемократические режимы. Таким образом, минималистская интерпретация эффективности государственного управления в качестве способности государства реализовывать государственную политику по распределению общественных благ позволяет нам говорить об уровне государственного управления вне зависимости от вида политического режима. Эмпирическое сопровождение идеи о J-кривой, где автократии могут иметь потенциал ниже, чем демократические режимы, но выше, чем гибридные, частично подтвердило эту гипотезу2 [7; 11]. б) Проблема нормативного понимания качества государственного управления Предложенная Б. Ротштайном концепция «Good Governance» [12] в общем и целом описывает ситуацию, когда в распоряжении общества находятся политические, правовые и административные институты, которые дают возможность 1 Недемократические государства с высоким потенциалом Тилли описывает как имеющие «слабый голос общественности», за исключением прямого обращения к нему самого государства. 2 Зависит от выбора переменных, наложения ограничений и допущений при составлении теоретической рамки. принимать и осуществлять политику «общественных благ». Концепт «Good Governance» тесно связано с понятиями «потенциала государства» (state capacity), качество управления и возможность создания устойчивых систем управления «общим пулом ресурсов» (common-pool resources). Основная норма, описанная Б. Ротштайном касательно предлагаемой концепции, - «беспристрастность» (impartiality) в применении государственной власти (public power). Однако элемент «беспристрастности» у Б. Ротштайна должен одновременно без противоречий сосуществовать с главным требованием к определению самого «good governance» - оно должно основывается на нормативной теории, дающей некоторую ориентацию, что мы должны рассматривать как «хорошее». В этом смысле «good governance» является наглядным примером проблемы синтеза нормативности и эмпирического подхода, разрешение которой лежит в части политической философии. Тем не менее, такой подход явно сместил интерес от «входа» (input side) политической системы к «выходу» (output side) системы. Немаловажно отметить, что концепт, позволяющий рассматривать качество государственного управления в менее нормативном и идеализированном ключе, принадлежит М. Гриндл и называется «достаточно хорошим управлением» (good enough governance) [9]. В рамках этой концепции предполагается, что не все проблемы, связанные с качеством государственного управления, могут быть решены в момент их фиксации, и что институциональное развитие является производным от времени. Таким образом, различные вызовы экономического и политического развития должны быть проанализированы на предмет приоритетности, релевантности и необходимости с учетом сложившихся условий в отдельно взятом государстве. М. Гриндл акцентирует внимание на необходимости рассмотрения минимальных условий для качества государственного управления, которые позволят способствовать развитию. Этот подход позволил бы минимизировать требования к качеству государственного управления в авторитарных режимах, предъявляемых к тем же демократиям (исходит их необходимости учета контекста и приоритезации вызовов). Качество государственного управления в терминах «good governance» неизбежно сталкивается с проблемой операционализации. «Good governance» изначально несет в себе оценочный характер - мы не можем сказать, что такое «хорошо» (good) и для кого оно «хорошо» (для государства, для правящей элиты, для граждан и т.д). Как и потенциал государства, так и (достаточно) «хорошее управление» по сути являются теоретическими конструктами, в которые входит большое количество составляющих, и они фиксируют, насколько качество управление было высоким, только на основании отдельно взятого набора переменных. в) Проблема методологии баз данных по качеству государственного управления Важным также представляется вопрос о том, какая эмпирическая база и какие индикаторы берутся в настоящее время за основу в отношении государственной эффективности. Возвращаясь к заданному ранее вопросу, следует отметить, что понимание потенциала государства как способности претворять в жизнь заявленную политику может быть основано в целом на качестве государственного управления, или «governance», о чем мы упоминали выше. В принципе у этой позиции есть свои сторонники [5]: для измерения потенциала государства они используют индекс WGI (World Governance Indicators) в части эффективности правительства и качества управления3. Исследовательский институт Всемирного банка (World Bank Research Institute) видит данный концепт следующим образом: традиции и институты, с помощью которых реализуется власть (authority) в государстве4. Это широкое определение критикуют за то, что он содержит и политическую составляющую (заявленная политика) и процедурную составляющую (верховенство закона). Несмотря на то, что индикатор WGI Всемирного Банка активно используется исследователями, он имеет ряд ограничений и недостатков, что подталкивает нас к поиску альтернативного подхода к количественному измерению и операционализации государственной эффективности. Среди таких недостатков следует отметить следующие: · WGI, как и любой индекс, основанный полностью или по большей части на результатах экспертного опроса или интервью, подвергается критике за то, что в его основе лежат именно «представления», а не статистические данные. Ввиду этого база имеет относительно небольшой охват временного диапазона (с 1996 года); · WGI как индекс по большей части нормативен и указывает на предпочтения исследователей из Института Всемирного банка в отношении политического курса, вместо того, чтобы измерять степень удовлетворения запросов гражданского общества [8], а показатель Regulatory Quality вообще говорит без должной конкретики о некой «здравой», «рациональной» (sound) политике, которая способствует развитию частного сектора; · в-третьих, авторы не дают объяснений относительно того, где начинается «good governance», эта граница не совсем очевидна - например, вектор налоговой 3 Government Effectiveness (эффективность Правительства) - показатель охватывает восприятие качества социальных услуг, качества государственной службы и степени ее независимости от политического давления, качества формулирования политики и ее реализации, а также приверженность правительства такой политике. Индикатор отражает эффективность распределения благ (развитие инфраструктуры, социальное обеспечение и развитие). Regulatory Quality (Качество управления) - показатель восприятия способности правительства сформулировать и проводить рациональную политику и нормативно-правовые документы, которые разрешают и способствуют развитию частного сектора. 4 Это включает в себя: процесс избрания, контроля и смены правительства, способность правительства формулировать и проводить заявленную политику, уважения граждан и государства к институтам, которые регулируют экономические и социальные взаимодействия между ними. политики в тех или иных условиях может быть как эффективным, так и неэффективным решением5. В качестве еще одной альтернативы количественного измерения эффективности государства можно выделить отдельные группы показателей индекса конкурентоспособности Всемирного экономического форума. В силу того, что центральной темой в раскрытии данного набора показателей является продвижение интересов малого и среднего бизнеса, уровень поддержки рыночной экономики и экономическая конкурентоспособность, показатель государственного управления ориентируется именно на этот политический курс. На наш взгляд, объективный интерес представляет лишь часть показателей, а именно группа «результативность государственного сектора» (public-sector performance). В него входят следующие показатели: расточительность государства (wastefulness of government spending6) (насколько эффективно расходует государство свой бюджет), бремя государственного регулирования. Данные основаны на результатах метода экспертных оценок (что несет в себе субъективную составляющую) и имеют временные ряды по некоторым странам из 138 возможных, начиная с 2007 года. База «Quality of Governance» (качество государственного управления), составленная Гетеборгским университетом в качестве альтернативы WGI Всемирного банка ввиду критического восприятия слишком широкого определения «governance», может по праву считаться одной из самых основательных и широких баз по качеству государственного управления7. База сформирована в соответствии со следующими принципами: беспристрастность (объективность), качество бюрократического аппарата и уровень коррупции, а также более широкие категории (верховенство закона и прозрачность). Тем не менее, данная база частично использует индикаторы, основанные преимущественно на «восприятии» (метод экспертного интервью и оценок). Таким образом, ключевая проблема большинства баз данных по качеству государственного управления заключается в том, что их методологии порождают «представления» об эффективности вместо измерения самой эффективности. Это обусловлено как выбором переменных, так и использованием метода экспертной оценки при составлении показателей. Последнее также чревато тем, что базы имеют ограниченный временной диапазон, что сильно ограничивает возможности для исследования. Также стоит отметить, что в некоторые индексы входят такие 5 Некоторые исследователи используют Ibrahim Index, которые оценивает качество государственного управления 45 африканских государств на основании 5 критериев: а) безопасность, б) верховенство закона, коррупция и открытость, в) участие в процессе принятия решений и права человека, г) устойчивые экономические возможности, д) развитие человеческого капитала. Таким образом, категории переменных были приведены к виду, где они бы не накладывались друг на друга, однако при этом нормативность не была преодолена. 6 К сожалению, последние два года база не учитывает данный показатель. 7 База данных (стандартная версия) имеет большие временные рамки и включает в себя 2500 переменных, из которых 100 посвящены именно качеству государственного управления. нормативные показатели, как права человека, верховенство закона, гласность и подотчетность, которые заведомо делают акцент на политике государства, присущей в основном демократическим режимам. Таким образом, мы имеем дело с пониманием качества управления в рамках отдельно взятой методологии. «ОБЪЕКТИВНАЯ» ЭФФЕКТИВНОСТЬ: КАК ОТКАЗАТЬСЯ ОТ НОРМАТИВНОСТИ? Мы полагаем, что один из возможных путей для частичного разрешения проблемы объективной оценки эффективности государственного управления лежит в отказе от нормативной составляющей. В связи с этим необходимо выделить принципы, в соответствии с которыми мы будем проводить редукцию. В первую очередь концепт эффективности государственного управления необходимо избавить от терминов «good governance» и долженствования. Согласно принципу Д. Юма («гильотина Юма») одной логики недостаточно, чтобы перейти от наблюдаемого и описательного «есть» к категории «должен». Невозможно вывести единое утверждение о «хорошем» и «плохом», основываясь исключительно на описании имеющего место явления. Строя наше исследование на принципе отказа от нормативности, следует обратиться также к М. Веберу, который привнес в политическую науку концепцию идеального типа, которому присущ отказ от нормативного значения, а также принцип проведения исследования, свободного от ценностей (value free research)8. Именно поэтому, говоря о существовании объективной эффективности, мы исходим из понимания идеального типа, изложенного М. Вебером. Идеальный тип Вебера преодолевает нормативность и представляет собой нечто ценностно нейтральное, оставляя при этом логическое значение. В некоторой степени идеальный тип Вебера накладывается на «эмпирический тип» Г. Эллинека9, но «идеальность» придается за счет логической конструкции. Идеальный тип М. Вебера обладает следующими свойствами: · представляет собой упрощение существующей реальности; · используется в сравнительной политологии (допускается именно гетерогенная выборка кейсов); · смысл заключается в том, что, формируя тот или иной концепт (в нашем случае концепт «объективной эффективности»), мы берем за основу не «среднее 8 Еще в своей статье «Наука как призвание и профессия» М. Вебер акцентировал внимание на необходимости очищения политической науки от ретранслирования политическим ученым своих политических убеждений - политике нет места в аудитории ни для студентов, ни для преподавателя. 9 У Г. Эллинека «идеальный тип» есть не что-либо существующее, а «долженствующее существовать», и таким образом, он может быть использован в качестве мерила существующего. Затем в работе [2] вводится альтернативное понятие „эмпирического типа“, которое, напротив, «не претендует представлять высшее, объективное бытие», а зависит от особенностей восприятия индивида. Таким образом, объективен, по Эллинеку, идеальный тип (не существующее, а долженствующее), субъективен тип эмпирический. значение» изучаемых кейсов, а именно «идеальный тип». Его мы получаем посредством «односторонней расстановки акцентов на одной или нескольких точках зрения и синтезом многих расплывчатых, более или менее разрозненных, местами очевидных или неочевидных конкретных индивидуальных явлений, которые организуются в соответствии с этими односторонне подчеркиваемыми точками зрения в единую логическую конструкцию» [17]. Учитывая вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что отказ от нормативности сводится к следующим положениям: · во-первых, мы допускаем своеобразие; · во-вторых, мы отказываемся от поиска идеального/оптимального государственного устройства: мы придерживаемся той позиции, что поиски идеальной формы правления, идеального режима, идеальных институтов нецелесообразны по причине заведомой субъективности и не имеют ничего общего с научным знанием, так как никогда не смогут отвечать критериям верифицируемости; · в-третьих, мы ориентируемся на эмпирическое значение «идеального типа»: следуя логике М. Вебера, концепция объективной эффективности качества государственного управления будет складываться из нескольких пар показателей, ориентированных на вход и на выход, которые вместе будут образовывать общую картину объективной эффективности органов государственной власти. Для того, чтобы отказаться от нормативности, на наш взгляд, необходимо вернуться к сущности понятия «эффективности» в терминах экономической теории. Эффективность впервые появляется у представителей экономической теории, а именно у «классических экономистов» А. Смита, Д. Рикардо и Дж. Стюарта Милля. Один из крупнейших представителей классической политэкономии А. Смит не употребляет термин «эффективность» в своей работе «Исследование о природе и причинах богатства народов», если мы обратимся именно к исходному тексту. Он использовал термин продуктивность («productivity»). Первое, о чем говорит А. Смит в контексте продуктивности, - о производительных силах («productivity powers»). Относительно продуктивности страны в целом он отмечает, что страна с хорошей продуктивностью должна осуществлять три функции: 1) улучшать и возделывать земли; 2) обрабатывать и подготавливать их для производства; 3) транспортировать избытки для реализации или обмена на удаленных рынках [14]. Д. Рикардо в «The high price of bullion: a proof of the depreciation of bank notes» употребляет термин «эффективный» (effectual), когда рассуждает о количестве валюты на рынке. В поздней работе “On the Principles of Political Economy and Taxation” (1817) он впервые употребляет термин «эффективный» (efficient). Д. Рикардо переносит нас в такое пространство эффективности, где он рассуждает о снижении каких-либо параметров затрат, которое приводит к снижению стоимости. Он говорит, что меньшая затраченная рабочая сила приводит к меньшей стоимости продукта, но, когда ее объем увеличивается, она работает эффективнее. Само понятие «эффективности» (efficiency) появляется у него же. Рикардо рассуждает о ней с точки зрения объема затрат, размера прибыли, оптимизации производственного процесса. Оценка эффективности как соотношения благ и ресурсов становится центральной темой теории равновесия, разработанной Л. Вальрасов и В. Парето. Оптимальность по Парето - состояние, при котором значение каждого показателя не может быть улучшено при ухудшении других. Эффективность по Парето - это ситуация, в которой все выгоды от обмена сторон исчерпаны. Г. Саймон пишет о синонимичности употребления термина «efficiency» и «effectiveness» в конце XIX века. Саймон не признает существование эффективности в экономической теории [13], а говорит о том, что эффективность в административной теории соотносится с максимальной полезностью в экономической. Таким образом, понимание эффективности «as it is» сводится к выбору самой оптимальной из альтернатив при минимальных затратах и максимальной выгоды. Теперь необходимо провести различие между терминами «efficiency» и «effectiveness». А.С. Ахременко обозначает «efficiency» как эффективность, а «effectiveness» как результативность [1]. «Efficiency» - это эффективность, ориентированная на вход, «effectiveness» - эффективность, ориентированная на выход. Входная эффективность измеряет, насколько мы можем снизить затраты на входе, не снижая уровень выпуска на выходе. КАК ПРИБЛИЗИТЬСЯ К «ОБЪЕКТИВНОЙ» ЭФФЕКТИВНОСТИ? Опираясь на вышесказанное, наши поиски «объективности» заключаются в ее операционализации и «техническом» подходе к самой концепции. Вернемся к М. Фарреллу. Его вклад в экономическую науку и оценку эффективности трудно переоценить. Майкл Фаррелл впервые использовал оболочечный анализ (Data Envelopment Analysis (DEA)) в 1957 году, где изучалось применение метода технической эффективности к исследованию аграрного производства в США [6]. Целью этой работы было найти удовлетворительное измерение продуктивной эффективности, которое будет принимать во внимание «входы» и позволит избежать определенного количества проблем, показав, как эта продуктивность может быть посчитана на практике. Далее эта основополагающая работа была популяризована в работе профессора Техасского университета в Остине Абрахама Чарнеса, профессора Гарвардского университета Уильяма Купера и профессора университета штата Нью-Йорк в Буффало Эдуарда Родса. В этой работе впервые было предложено использование границы производственных возможностей именно в подходе DEA, которая строится с использованием методов линейного программирования [4]. Термин «конверт» происходит из идеи, что граница производственных возможностей охватывает набор наблюдений [3. P. 233]. Есть некоторый набор входов и некоторый набор выходов у каждой из фирм, они обозначаются через векторы. Соответственно, когда речь идет о нескольких единицах (DMU), то мы представляем матрицу векторов. Далее необходимо обозначить технологию. Таким образом входы превращаются в выходы. Дело в том, что в большинстве случаях технология не определена. В таком случае DEA применяет метод минимальной экстраполяции: он смотрит на наименьший набор вход*выход, который есть в базе данных и который удовлетворяет допущениям о свободном использовании и выпуклости. Конструируя этот маленький набор, содержащий настоящие наблюдения, DEA экстраполирует результаты на остальные данные. Далее мы не будем углубляться в формулы и технические тонкости работы самого метода, мы обозначили идею, которая заложена в этом методе. Мы намерены на его основе избежать нормативности и приблизится к более «объективной» эффективности. Наш подход к определению эффективности как способности преобразовывать ресурсы в общественно-значимые результаты, а также возможности оболочечного анализа, приводят нас к описанию способа операционализации эффективности. Таблица 1 Структура оценки эффективности государственного управления в рамках DEA Вход (Ресурсы на входе) Логика похода (связь между входом и выходом) Выход - output efficiency (результативность) · Не только бюджетные средства (монетарные показатели), но и все материальное обеспечение, позволяющее обслуживать население; · иные «факторы производства» (кадровые и капитальные · некоторые материальные ресурсы обладают внутренним потенциалом, выраженном в способности ресурсы); «быть полезным» в течение длительного времени (единица ресурса в момент времени t не расходуется полностью или совсем, при этом на выходе имеем единицу. Таким образом, бюджетные средства используются для получения других ресурсов; - Input efficiency - эффективность на входе (инструменты для достижения эффективности) - в частности политика, направленная на то, чтобы снизить бюджетные расходы при одновременной максимизации результата Принцип соответствия - единица ресурса на входе должна отвечать (минимум) одной единице общественно значимого результата на выходе. Каузальная связь исходит из свойства ресурса · Общественное благо как общественно значимый результат (socially significant result); · каузальная связь исходит из свойства ресурса - единица на входе должна соответствовать единицы ресурса на выходе; · эмпирические показатели в различных сферах (здравоохранение, инфраструктура, образование, безопасность и т.п.) поддающиеся количественному измерению Под ресурсами мы понимаем монетарные входы, входы-показатели потенциала определенной сферы. Например, если мы берем сферу здравоохранения, в качестве входа в модели могут быть использованы не только финансовые средства, затраченные на функционирование этой сферы, но также количество больничных коек, количество врачей и так далее. Под общественно-значимыми результатами мы понимаем показатели соответствующей сферы, тесно связанные с затраченными финансовыми средствами. Особенность оболочечного анализа в том, что связь между входным и выходным показателями должна быть обоснована и убедительна. Необходимо быть уверенным в том, что каждый рубль, потраченный сверх оцененного, приведет к повышению показателя этой сферы. Если мы потратим больше в сфере здравоохранения, расширим количество больничных коек, персонала, мы увеличим, например, продолжительность жизни населения. К сожалению, есть достаточное количество факторов, которые влияют на продолжительность жизни. В их числе есть наследственные заболевания, прохождение диспансеризации, а также образование, доход. Разумеется, данный подход вызывает довольно много вопросов, связанных с качеством анализируемых данных, их доступностью, а также сравнимостью стран и регионов между собой. Однако в данной статье мы ставим себе целью приблизиться к «объективной» эффективности, чтобы избежать нормативности в оценке качества государственного управления. Используя экономический подход к определению эффективности и оболочечный анализ для ее оценки, нам удается это сделать. ЗАКЛЮЧЕНИЕ Есть разные эффективности и разные подходы к ее оценке: нормативный подход всегда будет рассматривать эффективность в связке общественного блага и «governance» в понимании Всемирного Банка с его подотчетностью, прозрачностью, верховенством закона; функциональный подход отметит эффективность как способность государства реализовывать заявленную политику, а также учтет возможность различных групп населения участвовать в процессе принятия решений в соответствии с принципом беспристрастности. Однако в попытках оценивать эффективность как нечто «положительное для всех» возникают проблемы, связанные с операционализацией, количественным измерением и, как следствие, валидностью. Причина кроется в тщетных попытках «объективной» оценки нормативных характеристик («права человека», «верховенство закона» и так далее - все они могут быть оценены методом экспертных оценок, который заведомо будет отражать субъективную оценку). Так, мы предполагаем, что описанные нами в статье подходы к определению эффективности порождают не самую «эффективность», а лишь представления о ней. Выявив ключевые уязвимые места в подходах к пониманию и измерения эффективности, а также проанализировав экономическую протооснову понятия «эффективность» в терминах продуктивности, оптимизации и результативности, мы пришли выводу о необходимости исключить всякую нормативную составляющую, измерение которой представляется затруднительным. Обратившись к некоторым суждениям об объективности в политической философии, мы сделали акцент на важности эмпирического значения «идеального типа» в логике М. Вебера, позволяющий вести дискуссию с позиции «value free research», ставя во главу угла ценностную нейтральность и логическую конструкцию. Предложенный в нашей статье поход, позволяющий, по нашему мнению, приблизиться к «объективной» эффективности, основан на так называемом принципе соответствия - одна единица ресурса на входе должна на выходе давать (минимум) одну единицу общественно значимого результата. По нашему мнению, в качестве метода может быть взят Data Envelopment Analysis (оболочечный анализ), позволяющий построить производственную функцию эффективности, используя эмпирические данные на входе и выходе. Мы предполагаем, что такая логика на данном этапе будет валидна именно в рамках контекста о вынесения за скобки нормативной составляющей, показателей, получаемый методом экспертной оценки. Идеальный тип «объективной эффективности» в терминах М. Вебера имеет место быть, в то время как максимальное приближение к «объективной эффективности» с учетом нашего подхода существует в связке обозначенного контекста, то есть наш подход будет валиден при конкретизации тез или иных рамочных условий. То, как «поведет» наш подход при конкретизации условий, станет предметом дальнейших научных изысканий.
Об авторах
Валерия Романовна Камоликова
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Автор, ответственный за переписку.
Email: val2992@mail.ru
аспирантка департамента политической науки Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
ул. Мясницкая, 20, Москва, Россия, 101000Юлия Евгеньевна Шулика
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Email: polit-juliashulika@yandex.ru
аспирантка департамента политической науки Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
ул. Мясницкая, 20, Москва, Россия, 101000Список литературы
- Социальная эффективность государства в регионах России: методология, методика, оценки (2008-2012 гг.). Лаборатория математических методов политического анализа и прогнозирования МГУ имени М.В. Ломоносова. М.: МГУ, 2013.
- Эллинек Г. Общее учение о государстве. Издание 2. СПб., 1908. Том 1. 599 с.
- Afonso A., Aubyn M. Relative Efficiency of Health Provision: a DEA Approach with Nondiscretionary Inputs. - Working Papers 2006/33, Department of Economics, ISEG, Technical University of Lisbon, 2006. P. 233.
- Abraham Ch., Cooper W., Rhodes E. Measuring the Efficiency of Decision Making Units // European Journal of Operational Research. 1978. P. 431.
- Charron N., Lapuente V. Which Dictators Produce Quality of Government? // Studies of Comparative International Development. 2011. № 46(4). P. 397-423.
- Farrell M.J. The Measurement of Productive Efficiency // Journal of the Royal Statistical Society. Series A (General). 1957. Vol. 120. № 3. P. 253.
- Fortin J. A Tool to Evaluate State Capacity in Post-communist Countries // European Journal of Political Research. 2010. № 49(5). P. 654-686.
- Global Governance from Regional Perspectives: A Critical View. Triandafyllidou, A. (Ed.). Oxford University Press, 2017. P. 63.
- Grindle M.S. Good Enough Governance Revisited // Development Policy Review. 2007. Vol. 25. № 5. P. 533-574.
- Huntington S.P. Political Order in Changing Societies. New Haven: Yale University Press, 1968. 488 p.
- Moller J., Skaaning S-E. Stateness First? // Democratization. 2011. № 18(1). P. 1-24.
- Rothstein B. Good governance. The Oxford Handbook of governance, 2012.
- Simon G. Administrative Behavior. New York: NY, 1947. P. 258.
- Smith A. An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. London, 1776.
- Tilly Ch. Democracy. Cambridge University Press, 2007. P. 101.
- Tilly Ch. Coercion, Capital, and European States, AD 990-1990. Cambridge: Basil Blackwell, 1990. 288 p.
- Weber M. Die “Objektivität” sozialwissenschaftlicher und sozialpolitischer Erkenntnis // Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre. 1864-1920. S. 194.