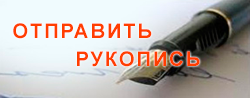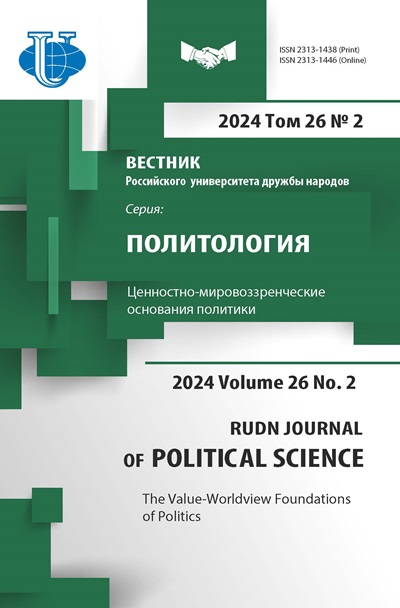О НЕКОТОРЫХ АКТУАЛЬНЫХ АСПЕКТАХ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ТЕОРИИ МОДЕРНИЗАЦИИ
- Авторы: Гуторов В.А.1
-
Учреждения:
- Санкт-Петербургский государственный университет
- Выпуск: Том 20, № 2 (2018)
- Страницы: 193-214
- Раздел: Актуальные вопросы политической науки
- URL: https://journals.rudn.ru/political-science/article/view/19065
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-1438-2018-20-2-193-214
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Цель статьи заключается в суммировании различных аспектов научной дискуссии, вращающейся вокруг самого понятия и сложных вопросов современной теории модернизации. Один из наиболее важных моментов дискуссии определяется новой взаимосвязью между столь различными концепциями, как модернизация, демократизация и глобализация. Эти концепции оказались взаимообусловленными в конце ХХ века, и с этого времени они обычно обсуждаются в их взаимосвязи, нередко сохраняя гетерогенный смысл. В общественном дискурсе понятия «модернизация» и «глобализация» приобрели эмоциональный оттенок. Для одних они предполагают международное гражданское общество, ведущее в новой эре мира и демократизации. Для других они предполагают угрозу американской экономической и политической гегемонии с таким ее культурным следствием, как гомогенизированный мир. Тем не менее действительно существуют некоторые отчетливые характеристики, определяющие общие тенденции процесса модернизации. Главной тенденцией является изменяющееся значение современности, или возникновение «альтернативных современностей». Все большее значение приобретает также феномен альтернативных глобализаций, т.е. культурных движений, имеющих глобальное измерение, возникающих за пределами западного мира и оказывающих влияние на последний. Другая тенденция связана с кризисом легитимности традиции национального государства, вынуждающим пересмотреть проблему роли демократии в современном мире. Мнение С.М. Липсета, сформулированное впервые в 1959 г., согласно которому демократия соотносится с экономическим развитием, породило широкий спектр исследований и затронуло разнообразные аспекты политической науки. И все же имеются два ясно выраженных довода в пользу такой взаимосвязи: или демократии могут возникать по мере того, как страны развиваются экономически (С. Хантингтон, Р. Инглхарт), или они могут быть установлены независимо от уровня экономического развития, но более способны к выживанию в развитых странах. Базовое утверждение теории модернизации в любой из ее версий состоит в том, что существует единый общий процесс, завершающей стадией которого является демократизация. Модернизация состоит в постепенной дифференциации и специализации социальных структур и завершается отделением политических структур от всех остальных, что и делает демократию возможной. Однако в настоящее время превалирует точка зрения, в соответствии с которой возникновение демократии не является побочным продуктом экономического развития (Г. О’Доннелл). Сторонники этого подхода не верят, что судьба демократического правления детерминирована исключительно имеющимися в наличии уровнями экономического развития. Они утверждают, что несмотря на все сдерживающие моменты демократизация является прежде всего следствием человеческих действий, а не экономических условий или же наследия исторического прошлого (Э. Гидденс, Р.М. Унгер).
Полный текст
В общенаучном смысле теория модернизации описывает и объясняет на междисциплинарном уровне процессы трансформации, развивающиеся в направлении от традиционных и недоразвитых обществ к обществам современным. В 1950-х гг. она становится наиболее перспективной в том направлении западной социологической науки, которое получило название «социологии национального развития». Наибольшее внимание теоретики модернизации уделяли «предсовременным» обществам (premodern societies), которые становятся современными («вестернизированными») посредством процессов экономического роста и изменения в социальных, политических и культурных структурах. Один из основоположников этой теории Ш. Эйзенштадт в 1966 г. следующим образом определял ее сущность: «Исторически модернизация - это процесс изменения в направлении от тех типов социальной, экономической и политической систем, которые развивались в Западной Европе и Северной Америке с XVII по XIX столетия и затем распространились на другие европейские страны, а в XIX и XX вв. - на южноамериканский, африканский и азиатский континенты» [17. P. 1]. Ученые изучали социальные, политические и культурные последствия экономического роста и условия, которые являются важными для индустриализации отсталых стран и регионов. В современных общественных науках концепция модернизации до сих пор нередко рассматривается как один из важных парадигмальных подходов, раскрывающих особенности современного мирового развития, неизбежно порождающего зависимость одних стран и регионов от других. Страны «третьего мира», «Юга», «развивающиеся народы» находятся в неравноправном положении и значительно уступают в плане жизненных шансов странам «первого мира», «Севера», или развитым странам. Термин «третий мир» был введен в научный оборот в 1952 г. французским экономистом Альфредом Сови для того, чтобы отличать страны, находящиеся на низкой ступени экономического развития от развитых капиталистических стран и стран «второго мира», входивших в мировую социалистическую систему. В целом понятие «третий мир» указывает на общества, для которых характерны унаследованные от колониального периода аграрная экономика, прогрессирующая бедность, слабое развитие систем здравоохранения и образования, неконтролируемый уровень рождаемости, низкие темпы урбанизации и жилищного строительства, постоянная долговая кабала, крайне слабые ростки демократии и преобладание военных способов решения политических конфликтов. Теорию модернизации (вернее, ее различные толкования) вовсе не обязательно следует рассматривать в категориях зависимости от философских дискуссий о природе «модерна» и «постмодерна». Понятие «модерн» в философском и эпистемологическом смысле ориентировалось на представление о существовании одной «истинной» объяснительной модели, в которой отражается современный мир. Сторонники концепции «постмодерна», напротив, отрицали существование единственной концепции мира, полагая, что знание, идеология и наука сами по себе основаны на субъективном понимании относительности природы мира и социальных отношений. Тем не менее теория модернизации, отражая характерное для классиков социологии и политической науки (К. Маркса, М. Вебера, Э. Дюркгейма, Т. Парсонса и многих др.) внимание к процессу движения различных обществ от традиционных к современным социальным порядкам, уделяла большое внимание ценностям, верованиям и нормам, которые рассматривались как важные аспекты прогрессивного социального изменения. Соответственно, Запад определялся одновременно как исходный пункт и цель глобального развития: в современных обществах традиционные формы жизни должны заменяться инновационными структурами, практиками и способами мышления. Важную роль в данном процессе будут играть рост урбанизации, развитие нуклеарной семьи, образования, средств массовой информации и систем рационального права. Еще в начале 1960-х гг. американский экономист и социолог У. Ростоу в своей работе «Стадии экономического роста» (1960) выделил пять стадий экономического развития: традиционное общество, предпосылки для подъема (takeoff), подъем, продвижение к зрелости и эра высокого массового потребления. В отличие от сторонников концепции спонтанного развития, Ростоу подчеркивал важность политической воли для формирования «элитарного социального капитала» (social overhead capital), например, сферы образования, способствующего развитию и укреплению социальных связей [32]. Книга Ростоу не случайно имела подзаголовок «Некоммунистический манифест», поскольку ее автор стремился с либеральных позиций осмыслить следующий принципиально важный тезис Маркса, по существу, предвосхищавший теорию модернизации: «Страна промышленно более развитая показывает менее развитой стране лишь картину ее собственного будущего» [5. C. 9]. В 1959 г. американский политолог Сеймур Мартин Липсет, развивая казавшуюся тогда убедительной гипотезу, согласно которой развитие является причиной и порождает демократию, сформулировал принцип корреляции между уровнем социально-экономического развития и способностью общества к демократии. «Чем более богата нация, - отмечал он в своей, ставшей классической, работе „Политический человек“, - тем больше у нее шансов поддерживать демократию. От Аристотеля и до наших дней люди считали, что только в процветающем обществе, в котором относительно немного граждан живут за чертой бедности, возможна ситуация, при которой массы населения разумно участвуют в политике и развивают ту степень самоограничения, которая необходима для того, чтобы не поддаться лозунгам безответственных демагогов» [27. P. 31]. Таким образом, важнейшее условие успеха демократизации заключается прежде всего в преодолении бедности. Развитие представлялось линейным процессом, в рамках которого отдельные страны и народы преодолевают внутренние преграды на пути к модернизации и демократизации. На протяжении более трех десятилетий установленная Липсетом корреляция неоднократно перепроверялась специалистами (путем выделения агрегированных индикаторов ВВП на душу населения и числа стран, определяемых по принципу «минимальных демократий») и оказалась крайне стабильной. Как отмечалось в одной из современных работ, «вследствие таких впечатляющих статистических подтверждений, прочную связь экономического развития и способности общества к демократии больше нельзя игнорировать. Многочисленные исследования ясно показывают, что уровень экономического развития (измеренный по ВВП на душу населения) должен рассматриваться как важнейшая переменная для объяснения степени демократизации определенной страны или различий между демократией и диктатурой на глобальном уровне» [6. C. 59]. Позднее с привлечением нового исторического материала некоторые весомые аргументы в пользу взаимосвязи экономической модернизации и демократизации были выдвинуты С. Хантингтоном. Он доказывал, что экономический рост всегда способствует легитимации демократий, поскольку модернизация способствует росту образованного среднего класса, смягчающего классовые противоречия и заинтересованного в стабильности и упорядоченном способе политического участия и принятия решений (См.: [10]). Тем не менее такого рода представления уже в 1960-е гг. стали подвергаться существенной коррекции, нередко сопровождаемой острой критикой. В результате влияние теории модернизации значительно уменьшилось. Главный контраргумент заключался в том, что сама схема, основанная на дихотомии «традиция-современность» и на ложной идее превосходства небольшой группы западных народов над всеми остальными, является слишком элементарной, чтобы отражать надлежащим образом все многообразие мирового социального опыта. Другой важный аргумент акцентировал внимание на том, что модернизация вовсе не может означать упадок традиционных верований и практик, особенно в тех случаях, когда они могут оказаться в высшей степени функциональными в процессе изменения социальных порядков. Сторонники марксистского подхода убедительно доказывали, что теория модернизации игнорировала воздействие западного империализма и колониализма на формирующиеся в странах «третьего мира» порядки и является поэтому глубоко неисторичной. Наиболее последовательная критика модернизации была выдвинута представителями латиноамериканской «школы зависимости», а также исследователями политики неоколониализма в странах, некогда входивших в западноевропейские колониальные империи. Историки Андре Гундер Франк и Уолтер Родни доказывали, что западноевропейские государства сделали недоразвитыми те ставшие независимыми страны, которыми они когда-то управляли. Именно Западная Европа и США способствовали недоразвитости и латиноамериканских стран, систематически делая их еще беднее по сравнению с эпохой имперского господства. Историк и социолог Иммануил Валлерстайн, начавший свою научную карьеру исследованиями проблем Африки, систематизировал в дальнейшем «теорию зависимости» в многотомном труде «Мир-система Модерна», в котором он поставил под сомнение излишнее акцентирование теоретиков модернизации на проблемах национального развития и доказывал, что с того момента, как мир начиная уже с XVI века становится единой мировой экономикой, стала необходимой и разработка на новом уровне принципов анализа экономического и политического развития. Сильные государства, составляющие «сердцевину» новой мир-системы (core states), эксплуатируют политически слабые периферийные общества как в форме прямого колониального господства, так и в форме косвенной, неформальной зависимости (См.: [2. С. 3-37; 3. С. 1-13]). На основе аргументации Валлерстайна сторонники мир-системного анализа доказывают, что такие «полу-периферийные» государства, создавая впечатление о возможности конвергенции для всех, на самом деле обеспечивают новые возможности для инвестиционной политики доминирующих государств. Конвергенция отсталых и передовых стран является в принципе недостижимой. Политолог Гильермо О’Доннелл критиковал аргументы о близости, если не тождестве модернизации и демократизации. В частности, он отмечал, что даже в богатейших странах Южной Америки в 1960-1970-х гг. были установлены военные диктатуры, и предполагал, что особая фаза индустриализации, через которую они проходили, была обусловлена потребностью привлечения иностранного капитала и технологий. Он разделял позицию сторонников теории зависимости, согласно которой временные рамки являются критерием экономического развития, определяя характер и последствия модернизации: страны, позднее вступившие на этот путь, более нуждаются в сильном государстве как двигателе экономического развития и в меньшей степени должны зависеть от такого фактора, как активность и самодеятельность граждан [31. P. 49-71]. Постмодернистстки настроенные ученые вместе со сторонниками теории зависимости критиковали теоретиков модернизации за излишний этноцентризм. Предполагая, что развитие заключается в движении от традиции к современности и отождествляя модернизацию с индустриальным Западом, они утверждали, что теоретики модернизации совершают двойную ошибку: во-первых, они исходят из того, что Запад чем-то лучше по сравнению с другими цивилизациями; во-вторых, они утверждают, что все «несовременные» общества одновременно являются «традиционными». Тем самым они не в состоянии выявлять различия между обществами, поскольку многие из них отличаются друг от друга в гораздо большей степени, чем от Запада. Равным образом они не осознают масштабы стресса от попыток народов приспособиться к западным конструктам, которые сами являются продуктами теории модернизации и разрушают жизненно важные основы и культуру тех стран, которые модернизацию никогда не выбирали. Следует отметить, что противники классической теории модернизации нередко сами увлекались и оставляли в стороне обсуждение принципиально важных проблем трансформации демократических институтов в современном мире, требовавшей новых интерпретаций теории демократии, включая анализ самого понятия «современная демократия». Термин «демократия» в современном смысле стал распространяться в XIX в. для описания системы представительного правления, в рамках которой представители выбираются в различные органы власти на свободных конкурентных выборах и большая часть граждан мужского пола обладает правом голосовать. В США такое положение дел было достигнуто в 1820-1830-е гг. по мере распространения избирательного права в различных штатах. В 1848 г. во Франции произошел внезапный скачок в предоставлении права голоса взрослым мужчинам, но принцип парламентского правления был гарантированно установлен только к 1871 г. В Британии парламентское правление было введено начиная с 1688 г., но большинство мужчин получило право голоса только к 1867 г. Следовательно, если не считать нескольких столетий развития демократии в древнегреческих полисах, в мировой истории демократия является сравнительно новым феноменом, который имеет тенденцию к быстрому распространению. За последние несколько десятилетий демократические институты и практики твердо установлены примерно в 30 из 192 ныне существующих государств. В дополнение к ним существуют более молодые, но очевидно стабильные демократические режимы в Испании, Португалии и Южной Африке, неопределенное количество режимов, которые лучше всего могут быть описаны как частично демократические, такие как Кипр, Мексика и Малайзия. Большое число режимов (преимущественно в Восточной Европе и Латинской Америке) с 1990-х гг. получили право именоваться демократическими. Одним из источников смутности и неопределенности в трактовке современного содержания понятия «демократия» заключается в том, что он используется для описания не только формы правления, но и системы общественных отношений. Так, американцы говорят, что их страна обладает не только демократической структурой политических институтов, но и является демократическим обществом. В начале ХХ в. некоторые британские социалисты (например, Сидней и Беатрис Уэббы) пропагандировали идею «промышленной демократии» как эффективного средства установления рабочего контроля над промышленными предприятиями. В послевоенный период в странах Центральной и Восточной Европы форма правления и характер общественной жизни определялись правящими коммунистическими партиями как «народная демократия». Однако такого рода неопределенность не может создавать особо сложных теоретических проблем при условии, если термин «демократический» используется в соответствии с заложенным в нем семантическом смыслом. Тогда демократическое общество в американском смысле может восприниматься как общество без наследственных классовых различий, в котором существует тенденция к обеспечению равенства возможностей для всех граждан. Именно так характеризовал общество и стиль жизни в США Алексис де Токвиль, используя термин «равенство возможностей» для обозначения не столько формы правления, сколько достигнутого американцами уровня социального равенства. Точно так же мало кто как за пределами, так и внутри стран «народной демократии» мог обманываться относительно формы правления и образа жизни населения жестко контролируемого СССР региона. Драматическое развитие в 1990-е гг. демократических практик по всему миру породило (преимущественно у американских теоретиков и их адептов в посткоммунистических странах) иллюзию о существовании жесткой взаимосвязи между ростом свободного предпринимательства, с одной стороны, и демократических институтов, - с другой. В работах наиболее амбициозных их них отражалась давняя утопическая вера в судьбоносное призвание США обеспечить конвергенцию всех обществ на основе «американского образа жизни». Такого рода теории были наглядным свидетельством крайне упрощенной универсалистской трактовки модернизации как синонима демократизации. Когда Германия в период между 1871 и 1914 г. и Россия на рубеже XIX-XX вв. стали следовать примеру Великобритании и США, стремительно проводя индустриализацию своих экономик, они делали это в рамках автократической системы власти. Несмотря на стремительный рост образованного класса и развития культуры (достаточно вспомнить культуру русского «серебряного века» и уровень, достигнутый немецкими университетами в этот период), который, по мысли некоторых теоретиков, является главным фактором, устанавливающим связь экономического прогресса с демократией, Германия не стала демократической (если, конечно, не считать короткого и отягощенного послевоенной разрухой и мировым экономическим кризисом периода Веймарской республики) до тех пор, пока американские, британские и французские оккупационные силы не «продвинули» ее в этом направлении. Переход России к «диктатуре пролетариата» и «социалистической демократии» (заставивший многих россиян, как ставших эмигрантами, так и переживших ГУЛАГ, вспоминать о Российской империи как об ушедшем в безвозвратное прошлое «золотом веке») не приостановил процесс экономической модернизации страны, но до начала 1990-х гг. ни на йоту не продвинул ее в сторону западной модели демократического общества. Точно так же индустриализация и экономический прогресс Японии вплоть до военной катастрофы 1945 г. никак не совпадали с западным демократическим пунктиром до тех пор, пока генерал Макартур и его советники резко не перевели эту страну на рельсы парламентской демократии. Таким образом, хотя представление о том, что адекватной формой политической организации, соответствующей цивилизованным отношениям, является либерально-демократическое государство, выглядит идеологически и ценностно ориентированным, в историческом плане оно отражало широкое распространение либеральных идей и институтов в XIX - нач. XX вв., затронувших все без исключения европейские страны, включая традиционные монархии. С кризиса этих институтов после первой мировой войны начался процесс развития в тоталитарном направлении в России, Италии и Германии. В тех европейских странах, где было достигнуто наибольшее равновесие между организацией производства и политической системой, коммунизма и фашизма удалось избежать. Однако исторический опыт показывает, что более глубокой причиной подобных резких изменений и переворотов является стремление к модернизации стран, отстающих в развитии, как ответ на вызов, брошенный техническим процессом. В длинном ряду современных военных диктатур и авторитарных режимов тоталитарные государства могут рассматриваться как своеобразная аномалия. Тем не менее при всем различии тоталитарных и авторитарных режимов возможно их сопоставление как современных государств, идущих по пути модернизации. «...Коммунистические режимы - отмечает, например, - Т. Мак Даниэл, - в целом могут быть сгруппированы с некоторыми некоммунистическими государствами, такими как Турция Ататюрка, в качестве осуществляющих модернизацию однопартийных диктатур. Хотя вполне подходит называть таких правителей, как Сталин и Ататюрк, автократами, такая автократия имеет отличие: не стремясь к личному правлению, основанному на традиционной легитимности, эти правители рвут с прошлым, пропагандируя идеологии обновления и обеспечивая массовое участие посредством развития массовых политических организаций... Такие автократические системы мобилизации ясно доказали способность создать основы современного индустриального общества. В определенном, самом крайнем случае, продемонстрированном сталинской системой, они действовали, фактически уничтожая отдельное существование гражданского общества - факт, указывающий на ту огромную цену, которую эти режимы были готовы платить за свою версию прогресса» (См.: [29. P. 10; 1. C. 191, 193, 206, 255]). Будучи антиподом цивилизации с ее неотъемлемым атрибутом - свободой, коммунистические режимы, уже для того, чтобы быть в состоянии бросить вызов, должны были пройти период модернизации с целью создания соответствующего технического потенциала. Этот период составил целую эпоху, в рамках которой возникла сложнейшая система международных связей, взаимопритяжений и взаимоотталкиваний. Вне ее невозможно понять ни причин возникновения фашистских режимов, ни объяснить, почему коммунистический режим возник в Китае, а не в Индии, находившейся примерно на той же стадии развития; или почему прокоммунистические революции произошли на Кубе и в Никарагуа, тогда как в других латиноамериканских странах развитие продолжалось в традиционном направлении медленного формирования системы, близкой к западной, через военные диктатуры и авторитарные режимы. Сравнительно недавние примеры индустриализации восточной Азии во главе с Сингапуром, Южной Кореей и Тайванем демонстрируют возможность чрезвычайно быстрого экономического роста в рамках политических систем, которые далеко не во всем можно считать вполне демократическими. Напротив, азиатские страны с давними демократическими традициями, например Индия и Шри Ланка, долгое время оставались экономически отсталыми. История свидетельствует о том, что гораздо легче декретировать демократические институты, чем развить политические условия и практику, необходимые для создания стабильной системы демократического правления. Для этого необходима не только система свободных выборов, но и свобода СМИ, политических партий, беспристрастное судопроизводство, готовность избирателей и политических элит принять результаты поражения на выборах и передать власть своим политическим соперникам, готовность военных и корпоративных экономических групп воздерживаться от соблазна использования своих возможностей для вмешательства в демократический процесс. В противном случае демократия неизбежно вырождается в ту или иную разновидность авторитарного режима. Наглядным примером подобного вырождения являются девять государств восточной и юговосточной Европы, в которых после окончания Первой мировой войны были установлены демократические институты. Из них только Чехословакия оставалась демократической до 1939 г. В других восьми странах авторитарные режимы того или иного рода были установлены в следующей последовательности: Болгария - июнь 1923 г., Польша - май 1926 г., Литва - декабрь 1926 г., Югославия - январь 1929 г., Австрия - март 1933 г., Эстония - март 1934 г., Латвия - май 1934 г., Румыния - февраль 1938 г. Ни один из этих поворотов в сторону авторитаризма не был вызван этническими расколами в обществе, экономическим коллапсом, революцией или гражданской войной, но либо нежеланием военных воздерживаться от участия в политике, либо маневрами правящих элит, стремящихся удержать власть в своих руках и не дать вытеснить из нее своих «друзей». Не менее обескураживающими были и результаты попыток ввести демократическое правление в странах Африки после завершения процесса деколонизации в 1945-1965 гг. В бывшем бельгийском Конго и португальской восточной Африке (Ангола и Мозамбик) с начала 1950-х гг. не прекращались беспорядки, этнические чистки, диктатуры и гражданская война. Аналогичные явления, отягощенные масштабной коррупцией и разворовыванием иностранных помощи и кредитов, наблюдались и в бывшей британской Африке. Вершиной этого процесса можно считать гражданскую войну в Нигерии, унесшую около миллиона жизней. Наиболее стабильные системы сложились в странах бывшей французской Африки, главным образом благодаря тому, что французская колониальная администрация изымала власть из рук племенных вождей и усиленно формировала слой франкоговорящей образованной элиты, которой впоследствии передавались бразды правления. В результате эти страны долгое время переживали период однопартийного правления, и их шансы на превращение в подлинно демократические остаются под вопросом. В странах Латинской Америки демократические институты и практики оказались более укорененными, в том числе и вследствие притягательности примера стабильного президентского правления в США. Тем не менее демократические режимы были свергнуты в Бразилии в 1964 г., в Уругвае в 1973 г. и в Аргентине в 1976 г. С 2003 г. новый фокус интереса к процессам модернизации и демократизации переместился на Средний Восток не без влияния неоднократно повторявшихся заявлений Дж. Буша-мл. о том, что он намерен продвигать демократию в этом регионе и не видит никаких оснований не верить, что мусульманские общества будут поддерживать демократические системы. Такого рода заявления тогдашнего политического лидера американских консерваторов шли вразрез, например, с концепцией С. Хантингтона, согласно которой исламская культура (как и конфуцианская) несовместимы с демократией и в этом смысле составляют противоположность западной культуре (либерализм, протестантизм), Латинской Америке, православной и даже индуистской и африканской культурам, которые в той или иной степени способны к восприятию и применения на практике демократических идей и принципов [9. С. 33-48]. Современные реалии свидетельствуют о том, что в заочном споре между маститым ученым и американским президентом победа пока остается за первым. Имеются многие соображения относительно того, чтобы сомневаться в самой возможности быстрого внедрения и развития демократических институтов в мусульманском мире. Один из доводов, обычно называемый специалистами теологическим, выводится из следующего базового учения исламской религии: все законы, в которых нуждается человечество, могут быть найдены в Коране, а также в самом раннем своде судебных уложений, развивающих установленные им юридические и моральные принципы. Демократическое представление о том, что парламент является суверенным законодательным органом, естественно, вступает в конфликт с приведенным выше фундаментальным исламским верованием. С ним соотносится, например, политическая практика в современном Иране, где совет невыборных религиозных лидеров («стражей») обладает правом отменять законы, принятые парламентом исламской республики, если они вступают в противоречие с Кораном (См.: [16]). Разумеется, демократизация исламской страны является сложной, но не невозможной, о чем свидетельствует пример современной Турции, где с 1928 г. был введен в действие светский режим власти, на основе которого постепенно сформировалась парламентская система. В этом плане Турция может сравниваться с Индией, где приверженность правящей элиты демократическим принципам помогала преодолеть многие сложные проблемы, с которыми страна сталкивалась со времени обретения независимости в 1947 г. [15. Р. 128-132]. В целом общая тенденция может внушать аналитикам определенный оптимизм: со времени окончания Второй мировой войны почти все европейские страны, включая посткоммунистические, обладают более или менее стабильными, ориентированными на демократию политическими системами, в то время как в мире развивающихся стран влияние демократических идей и институтов также продолжает расширяться. Именно эта тенденция постоянно придает дополнительный импульс представлению о том, что и в будущем векторы модернизации и демократизации могут совпадать. В этом плане общие принципы, сформулированные еще в 1960-е гг. в рамках классической концепции соотношения модернизации и демократизации, также вряд ли могут быть до конца поставлены под сомнение. «Недавние исследования, - отмечает Б. Джеддис - автор главы „Что является причиной демократизации?“, написанной для „Оксфордского справочника по сравнительной политике“, - подтвердили то, что мы думали, что мы [уже] знали несколько десятилетий назад: более богатые страны, вероятно, являются и более демократичными. Дискуссия продолжается относительно того - увеличивает ли демократическое развитие вероятность перехода к демократии? Пшеворский и его соавторы настойчиво доказывали, что развитие не является причиной демократизации; скорее, развитие снижает вероятность поломки демократического механизма, тем самым увеличивая число богатых демократических стран, даже если это не связано с причинным воздействием на переход к демократии. Тем не менее другие образцы тщательного анализа смены режима продолжают обнаруживать взаимосвязь между развитием и переходом к демократии. Некоторые другие регулярные наблюдения эмпирического характера добились статуса стилизованных фактов, хотя и им всем был брошен вызов. Опора на нефть и, возможно, другие виды минерального экспортного сырья уменьшает вероятность демократии. Страны с большим мусульманским населением, вероятно, являются еще менее демократичными... Эксперты по Ближнему Востоку объясняют связь между нефтяным богатством и диктатурой следствием функционирования государства-рантье, которое может использовать свою ренту от продажи природных ресурсов для распределения субсидий среди обширных частей населения и тем самым поддерживать уступчивость народа по отношению к режиму. В качестве параллельного аргумента Даннинг доказывает, что нефтяная рента при определенных обстоятельствах может быть использована для поддержки демократии» [34. P. 317-318]. Конечно, и сегодня влияние постмодернистских идей порождает гораздо больший разброс мнений относительно того, какие страны и в каком смысле можно называть демократическими. К примеру, современный анализ итогов «бархатных революций» и перспектив демократизации политических систем в странах Центральной и Восточной Европы, а затем в посткоммунистической России и странах, некогда входивших в состав СССР, нередко сопровождается стремлением усилить аргументацию противников теории модернизации. В частности, эта тенденция проявляется и в упрощенном подходе к проблеме соотношения уровня экономического развития и стабильности демократических институтов и традиций. Сторонники такого подхода стремятся, как правило, «вынести за скобки» проблему взаимосвязи современной модели политической демократии с уровнем экономического прогресса, а заодно и с концепцией социального государства и социальных прав, ссылаясь на то, что на Западе данная модель представляет собой лишь «идеальный тип», а на деле она отнюдь не безупречна и к тому же в последние десятилетия именно в этом регионе самой идее социальных прав был нанесен значительный ущерб (См.: [23. Р. 2-4; 11. С. 14-15]). Естественно, после того как проблема уровня доходов, формирования стабильного среднего класса и социальных гарантий оказывается теоретически «снятой», в распоряжении ученых остаются исключительно «политические» критерии, значение которых можно толковать как угодно. Например, можно объединить Молдову - одну их беднейших стран в Европе в одну «демократическую группу» с Болгарией и Румынией, противопоставив их автократиям в России и Республике Беларусь [30. P. 108]. Или же, напротив, считать, что в современной России демократия, пришедшая на смену тоталитаризму, вполне сопоставима с демократий западной, одновременно не отрицая при этом и того факта, что в современном мире «глобальная зона нищеты значительно расширилась за счет большинства постсоветских республик, включая, с некоторыми оговорками, Российскую Федерацию» [7. С. 76, 80]. Такого рода концептуальные заключения не имеют большого распространения в современной политической теории. Преобладающей выглядит тенденция к появлению компромиссных версий теории модернизации на основе новых аргументов в пользу демократизации. В одной из них, разработанной Р. Инглхартом и его сотрудниками, явно просматривается попытка примирить многообразные противоборствующие точки зрения. Отмечая решающую роль экономических и технологических изменений, Инглхарт утверждает, что изменения культурных ценностей и уровней политического участия следуют за экономическим развитием. Экономическое развитие способствует появлению предсказуемых изменений в ценностях и дальнейшей перспективе демократизации. Что касается так называемых традиционных обществ, то они могут сохранять свои характерные атрибуты культурной жизни в процессе конвергенции с западной моделью общества и культуры. Более того, культурные различия продолжают определять характер ответа различных обществ на вызовы экономической модернизации. Изменения в материальных условиях могут служить причиной изменения позиций в отношении к власти, гендерным ролям, сексуальным практикам и политическому участию, но они возникают в контексте существовавших прежде культур. Экономические изменения будут трансформировать ценности западного иудео-христианского, конфуцианского и исламского обществ, но их результатом не станет единая мировая культура. Инглхарт выделяет три измерения экономического развития, стимулирующего культурные и политические изменения: 1) рост экономической продуктивности и стремление государств «всеобщего благосостояния» увеличивать размеры потребления и снижать масштабы бедности будут способствовать возникновению такого уровня материальной безопасности, который позволят индивидам отдавать большее предпочтение ценностям, не имеющим отношения к элементарной заботе о деньгах на пищу и кров; 2) рост образовательного уровня, распространение средств массовой информации и работа в отраслях промышленности, основанных на знании, дают индивидам большую независимость и стремление к автономии; 3) увеличение социальной сложности является причиной большей социальной независимости индивидов. Инглхарт стремится доказать, что эти процессы имеют различные степени воздействия на то, что он называет индустриальными и постиндустриальными фазами экономического развития. В условиях индустриализации эти силы подрывают власть религии, но они часто заменяют религиозный авторитет авторитетом государства и индустрии. На постиндустриальной стадии доминирование светских властей подвергается эрозии в результате стремления к индивидуальной автономии во всех сферах жизни [25. P. 48 sq., 97 sq.]. Постепенно теория модернизации стала испытывать все большее влияния многообразных версий концепции глобализации, нередко с ними сливаясь. Как отмечают американские политологи Ч. Эль-Оджейли и П. Хэйден, сегодня «...оба подхода - модернизация и зависимость - продолжают функционировать в рамках обширного дискурса глобализации» [18. P. 40]. Концепция глобализации является сравнительно новой в современном политическом дискурсе и общественных науках. Первая социологическая статья, в которой появляется данное понятие, была опубликована в 1985 г. К февралю 1994 г. каталог библиотеки конгресса США включал только 34 названия работ, в которых упоминались либо само понятие, либо производные от него термины, причем все они не публиковались раньше 1987 г. К концу 1990-х гг. термин «глобализация» становится заметным, и только на рубеже тысячелетий количество книг и статей, где он постоянно встречается, стало исчисляться сотнями [15. P. 43]. Исследовать оттенки категориальных значений данного понятия не имеет смысла, поскольку оно не содержит в себе сколько-нибудь бросающихся в глаза противоречий. По справедливому замечанию А. Бэча, это «просто всеобщий термин, используемый свободно в качестве стенографического ярлыка для обозначения чего-либо или всего, или же, в наиболее общепринятом смысле, некоей комбинации пяти, скорее, различных тенденций в мировых делах, которые легко могут быть перечислены» [15. P. 43]. В перечислении А. Бэча в эту комбинацию входят: 1) возрастающая обеспокоенность и международные действия в сфере проблем окружающей среды, имеющих глобальное значение; 2) рост мирового рынка как следствие снижения транспортных расходов, всеобщего сокращения таможенных платежей в соединении с созданием Всемирной торговой организации (ВТО) с целью защиты торговых соглашений и снятия барьеров, препятствующих торговому обмену; 3) учреждение международных судов для защиты прав человека или в особых регионах, или в более широком масштабе; 4) новый взгляд, согласно которому либеральные правительства или их коалиции должны обладать правом (а возможно, его следует трактовать и как долг) вмешиватьс
Об авторах
Владимир Александрович Гуторов
Санкт-Петербургский государственный университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: teor@politology.pu.ru
доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой теории и философии политики Санкт-Петербургского государственного университета
Университетская наб., 7, Санкт-Петербург, Россия, 199134Список литературы
- Арон Р. Демократия и тоталитаризм. М.: Текст, 1993. 303 с.
- Валлерстайн И. Мир-система Модерна. Том I: Капиталистическое сельское хозяйство и истоки европейского мира-экономики в XVI веке / Предисл. Г.М. Дерлугьяна; пер. с англ., литер. редакт., комм. Н. Проценко, А. Черняева. М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2015. 552 с.
- Валлерстайн И. Мир-система Модерна. Том II. Меркантилизм и консолидация европейского мира-экономики, 1600-1750 гг. / Пер. с англ., литер. редакт., комм. Н. Проценко. М.: Русский фонд содействия образованию и науке, 2015. 528 с.
- Виноградов А.В. Китайская модель модернизации. Поиски новой идентичности. Издание второе, исправленное и дополненное. М.: НОФМО, 2008. 363 с.
- Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 1 // Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд. М.: Государственное издательство политической литературы, 1955-1981 гг. Т. 23. 907 с.
- Меркель В. Теория трансформации. Структура или актор, система или действие? // Повороты истории. Постсоциалистические трансформации глазами немецких исследователей. Том 1: Постсоциалистические трансформации: теоретические подходы / Ред.-сост. Петра Штыков, Симона Шваниц. СПб.: Европейский университет в Санкт-Петербурге: Летний сад, 2003. C. 55-88.
- Оганисьян Ю.С. Новая Россия в изменяющемся мире: социально-политический ракурс // Полис. Политические исследования. 2014. № 3. C. 76-90.
- Симония Н.А. Новые стратегические факторы в борьбе за модернизацию России // Полис. Политические исследования. 2014. № 3. C. 67-75.
- Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? // Полис. Политические исследования. 1994. № 1. С. 33-48.
- Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце ХХ века. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2003. 368 с.
- Хёффе О. Есть ли будущее у демократии? О современной политике. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2015. 328 с.
- Beck U. Living Your Own Life in a Runaway World: Individualization, Globalization and Politics // Global Capitalism. Ed. by Will Hutton and Antony Giddens. New York: The New York Press, 2000. P. 163-173.
- Beck U. What is Globalization? Cambridge: Polity Press, 1991. 192 p.
- Berger P.L. The Cultural Dynamics of Globalization // Many Globalizations. Cultural Diversity in the Contemporary World. Ed. By Peter L. Berger and Samuel P. Huntington. Oxford; New York: Oxford University Press, 2002. P. 1-16.
- Birch A. H. The Concepts and Theories of Modern Democracy. 3rd Edition. London and New York: Routledge, 2007. 315 p.
- Dahlen A. P. Islamic Law, Epistemology and Modernity. Legal Philosophy in Contemporary Iran. New York & London: Routledge, 2003. 392 p.
- Eisenstadt S.N. Modernization: Protest and Change. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1966. 166 p.
- El-Ojeili Ch., Hayden P. Critical Theories of Globalization. New York: Palgrave Macmillan, 2006. 241 p.
- Giddens A. Beyond Left and Right: The Future of Radical Politics. Stanford: Stanford University Press, 1994. 284 p.
- Giddens A. The Consequences of Modernity. Cambridge: Polity Press, 1991. 200 p.
- Giddens A. The Third Way and Its Critics. Cambridge: Polity Press. 2000. 190 p.
- Giddens A., Hutton W. Fighting Back // Global Capitalism. Ed. by Will Hutton and Antony Giddens. New York: The New York Press, 2000. P. 213-224.
- Gill G. Democracy and Post-Communism. Political Change in the Post-Communist World. London and New York: Routledge, 2002. 272 p.
- Höffe O. Democracy in the Age of Globalization. Dordrecht: Springer, 2007. 350 p.
- Inglehart R. Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic, and Political Change in 43 Societies. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1997. 464 p.
- Inglehart R., Welzel Chr. Modernization, Cultural Change, and Democracy. The Human Development Sequence. Cambridge: Cambridge University Press, 2005. 333 p.
- Lipset S.M. Political Man. The Social Basis of Politics. Expanded Edition. Baltimore: Johns Hopkins University Press., 1981. 586 p.
- Many Globalizations. Diversity in the Contemporary World. Ed. by Peter L. Berger and Samuel P. Huntington. Oxford; New York: Oxford University Press, 2002. 374 p.
- McDaniel T. Autocracy, Modernization and Revolution in Russia and Iran. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1991. 239 p.
- Moeller J. Post-Communist Regime Change. London and New York: Routledge, 2009. 177 p.
- O’ Donnell G. Poverty and Inequality in Latin America: Some Reflections // Latin America: Issues and New Challenges. Edited by Victor E. Tokman and Guillermo O'Donnell Chicago: University of Chicago Press, 1999. P. 49-71.
- Rostow W.W. The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto. Cambridge: Cambridge University Press. 1960. 179 p.
- Sakwa R. Russian Politics and Society. Fourth Edition. London and New York: Routledge, 2008. 585 p.
- The Oxford Handbook of Comparative Politics. Ed. by Carles Boix and Susan C. Stokes. Oxford: Oxford University Press, 2007. 1021p.
- Understanding Contemporary Society: Theories of the Present. Ed. by Gary Browning, Abigail Halcli and Frank Webster. London: Sage Publications, 2000. 502 p.
- Unger R.M. What Should the Left Propose? London; New York: Verso, 2005. 179 p.