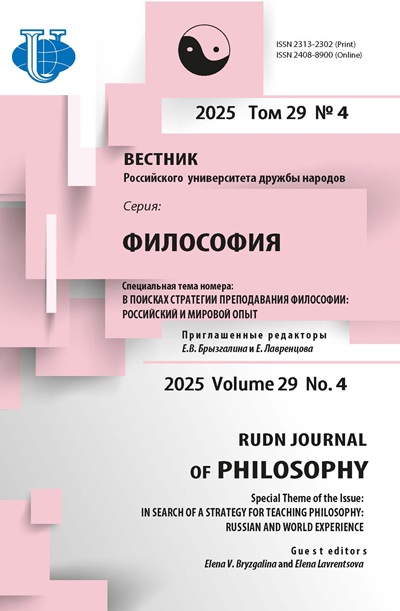Alexey Ivanovich Vvedensky: Between Kantianism and Neo-Kantianism
- Authors: Rozhin D.O.1
-
Affiliations:
- Immanuel Kant Baltic Federal University
- Issue: Vol 29, No 4 (2025): IN SEARCH OF A STRATEGY FOR TEACHING PHILOSOPHY: RUSSIAN AND WORLD EXPERIENCE
- Pages: 1204-1222
- Section: HISTORY OF PHILOSOPHY
- URL: https://journals.rudn.ru/philosophy/article/view/47744
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-2302-2025-29-4-1204-1222
- EDN: https://elibrary.ru/JJUQVP
- ID: 47744
Cite item
Full Text
Abstract
To date, in the history of Russian philosophy, Professor Alexei Ivanovich Vvedensky of the Moscow Theological Academy is a little-studied figure, which may be due to the fact that he did not leave behind any original philosophical system, being a supporter of V.D. Kudryavtsev-Platonov’s ‘system of transcendental monism’. But at the same time, Vvedensky deserves attention because he left a trace in Russian Kantianism that neither his contemporaries nor contemporary researchers have noticed. Hence, the aim of the present study is to determine Vvedensky’s relation to the Kantian and neo-Kantian traditions on the basis of a number of his works. For this purpose, Vvedensky’s views on cognition and metaphysics are analysed, his attitude towards Kant and Neo-Kantianism is determined, and finally, the philosophical attitudes of the Russian philosopher are examined through the prism of the criteria of German and Russian Neo-Kantianism. It is established that Vvedensky proposed to return to Kant’s ideas to revise them in the light of the latest scientific data. At the same time, to understand Kantian texts, the Russian philosopher turns to neo-Kantian interpreters G. Feichinger and G. Cogen. It is shown that Vvedensky conducted the revision of Kantian intuitions with the support of A.F. Trendelenburg’s and V.D. Kudryavtsev-Platonov’s criticism of Kantian subjectivism, as well as of H. Helmholtz’s and A. Riehl’s views on the origin of spatial representations. It is revealed that Vvedensky criticised neo-Kantianism in the person of F.A. Lange for epistemological scepticism and the gap between moral and aesthetic feeling and cognitive ability, which can be overcome by the transformed voluntarism of G.R. Lotze. As a result of examining Vvedensky’s philosophical attitudes through the prism of the criteria of German and Russian Neo-Kantianism, it is concluded that he can be referred to Neo-Kantianism in a broad sense as a thinker who proclaimed a return to Kant, who sought to correct and supplement Kant, and who actively appealed to the texts of the Neo-Kantians.
Keywords
Full Text
Введение
В современной историко-философской науке до сих пор нет специальных исследований, посвященных основательному разбору философских установок Алексея Ивановича Введенского, ученика и приемника по кафедре логики и метафизики Московской духовной академии (далее – МДА) В.Д. Кудрявцева-Платонова (далее Кудрявцев). Уже тот факт, что в 1904 г. Введенский для газеты «Московские ведомости» подготовил заметку «Великий рационалист. По поводу столетия со дня смерти Канта (1704 – 31 января 1804)» [1. С. 158–169], и делал его фигуру небезынтересной для русской кантианы. Тем не менее, русский философ по-прежнему остается в тени своих более именитых современников, о чем свидетельствуют немногочисленные упоминания о нем в исследовательской литературе[1].
Таким образом, до сих пор вне поля зрения историков русской философии, так же как и историков рецепции кантовской философии в России, остается без внимания тема влияния Канта и развивавших его идеи философов на Введенского. Кроме того, в исследовательской литературе совсем никак не освещается тема отношения Введенского к неокантианству, набиравшему в годы его активной научной деятельности популярность в Германии. Отсюда цель настоящего исследования состоит в том, чтобы на основании анализа ряда научных статей Введенского, определить его отношение к кантианской и неокантианской традициям. Для чего сначала будут рассмотрены философские установки Введенского и определена связь этого проекта с кантовскими идеями. Затем проанализировано отношение русского философа к неокантианству. В силу того, что основные критерии немецкого и русского неокантианства среди отечественных исследователей разнятся, будут представлены основные критерии, позволяющие отнести того или иного мыслителя к неокантианской традиции, и свете указанных критериев будут рассмотрены философские взгляды Введенского.
А.И. Введенский и его философские установки
Введенский выпустился из МДА в 1886 г., а уже в 1887 г. его пригласили в Alma mater на кафедру истории философии по рекомендации Кудрявцева [7. С. 394]. В 1891/92 уч. г. Введенский отправился в ученую командировку: на зимний семестр в Берлинский университет, на летний в Париж (Collège de France, Сорбонна). После смерти Кудрявцева в 1892 г. Введенский перешел на кафедру логики и метафизики МДА, а в 1896 г. утвержден в звании экстраординарного профессора. В 1897/98 уч. г. снова поехал в заграничную командировку, о которой в источниках информации достаточно мало [1. С. 154–155]. В 1905 г. возведен в звание ординарного профессора [7. С. 394].
Еще до своей поездки в Германию Введенский современную ему философию характеризовал как находящуюся в поиске нового гносеологического принципа или нового органа философского познания, который помог бы снять покров с вещи в себе, указанной в философии Канта [8. С. 305]. Поиски указанного принципа велись в трех направлениях: в теоретическом разуме, в воле и в нравственно-эстетическом чувстве, при этом каждое из указанных направлений стремилось опереться на философию Канта – «каждое хотело ее восполнить и исправить» [8. С. 306].
В Берлинском университете Введенский прослушал ряд курсов: 1) «Введение в философию» Ф. Паульсена [9. С. 30]; 2) «История новой немецкой философии» А. Дёринга [10. С. 288]; 3) лекционные курсы по теории познания – А. Лассона, В. Дильтея и Г. Гижицкого [11. С. 230]. На основании услышанного, русский философ пришел к выводу, что современное состояние немецкой философии может быть описано двумя характерными чертами: «дробление философских школ» и «невыясненность общего отношения философии к точным наукам» [9. С. 23].
В своих первых публикациях Введенский обращается к проблеме метафизики как науки. Предметом метафизики, согласно философу, должен выступать «мир в целом, в конкретном единстве своей первоосновы», задачей – «определение отношения, существующего к его идеальным началам и целям», методом – умозрение, не исключающее опыта. С помощью данного метода сначала уясняются необходимые понятия и идеи разума, затем под их руководством выстраивается необходимая и исчерпывающая схема мира [12. С. 142]. В результате метафизику Введенский определяет как «научное понимание и оценку совокупности существующего с точки зрения его идеальных начал» [12. С. 145].
Важно заметить, что к подобному определению Введенский приходит, исправляя А. Фулье кантовским взглядом на метафизику. Фулье считает, что метафизика – это «систематизация и критика познания и практической деятельности, с целью образовать понятие о всей совокупности действительно существующего и о наших отношениях к нему» [13. С. 12]. Введенский не соглашается с таким определением, так как в нем заложены не достигаемая цель и невыполнимые задачи. При этом русский философ отмечает, Фулье следовало бы у Канта многому поучиться, ведь Кант предложил именно такое определение метафизики, которое делает из нее самостоятельную науку – «систематическое и расчлененное единство чистого познания a priori или познания чистых принципов в его отношении к существенным целям (задачам, идеалам) человеческого разума, каковы суть Бог, свобода, бессмертие» [12. С. 134][2].
Вместе с тем Введенский выступает сторонником обозначенной еще Кантом трансцендентальной онтологии, предохраняющей метафизику от «растворения» в специальных науках [12. С. 136]. По мысли русского философа, заслуга трансцендентальной онтологии Канта состоит в том, что абсолютное, по самому понятию своему, не может осуществиться в мире нашего опыта, и потому должно навсегда остаться трансцендентальным идеалом нашего разума. В то же время немецкий философ заблуждался в том, что настаивал на безусловной и всецелой трансцендентности, а следовательно, и непознаваемости абсолютного [12. С. 135].
У Фулье Введенский также обнаруживает изъяны в методе метафизики, а именно, в том, что французский философ не придает почти никакого значения методу умозрения [12. С. 140]. Здесь Введенский вновь апеллирует к Канту, приводя цитату из «Пролегомен»: «Чтобы метафизика как наука могла произвести действительное познание и убеждение, для этого критика разума должна представить всю совокупность понятий a priori, разделение их по различным источникам…» [12. С. 142].
Сама метафизика для наибольшей полноты, согласно Введенскому, должна иметь вид синтетической системы, построенной по типу системы Г.Р. Лотце[3], а именно, «она должна не обойти рациональный элемент <…> но – победить его, понять, сознать недостаточность и восполнить новым началом» [12. С. 142–143]. Следует отметить, что Введенскому была симпатична мысль о синтезе эмпирии, спекулятивного разума, чувства и воли, который, по его мнению, мог вполне привести к истине. Но трудность здесь состояла в том, как должен быть выполнен синтез? В поисках основания для указанного синтеза Введенский приходит к заключению, что «…ничего другого не остается, как возвратиться к общепризнанному учителю, – Канту, и „вникнуть в зерно его философии“…». «Итак, что-же можно найти у Канта такого, что бы могло спасти современную философскую мысль от ее, исторически нажитых, неурядиц?» [16. С. 82]. Согласно русскому философу, это «преобразованный волюнтаризм», в котором Кант и явился «пророком философии будущего в Германии». Такой логики развития взглядов Канта как системы преобразованного волюнтаризма, пишет Введенский, придерживался именно Лотце [16. С. 81–83].
Нельзя не обратить внимание на программную статью Введенского 1893 г., раскрывающую особенности его видения национального философского проекта [17]. Введенский считает, что своеобразие русской философии придает акцент на вопросе о ценности жизни: «Самая глубокая дума русского человека всегда сосредотачивалась на вопросе о жизни, о ее смысле и ценности» [17. С. 149]. Русская философия, по его мнению, не занимает здесь ни позицию оптимизма, ни позицию пессимизма, но свою особенную позицию, которую он предлагает назвать «мелиоризмом», согласно тенденции к улучшению и преобразованию жизни, несмотря на зло в мире [17. С. 150].
Другой вопрос, тесно связанный с ценностью жизни, – «открыт ли наш несовершенный мир для влияния мира идеального». Введенский указывает, что русская мысль не принимает крайности панфизизма и панпсихизма, «признав необходимым удержать дуализм материи и духа, хотя и подчиненный, понимаемый как продукт дифференциации и поляризации высшей Силы и потому разрешаемый в трансцендентальный монизм, или монодуализм» [17. С. 152]. Здесь Введенский предлагает следовать за философской концепцией Кудрявцева – «системой трансцендентального монизма».
Система трансцендентального монизма стремится обосновать философию как познание идеальной стороны существующего [18. С. 12]. Методом такой философии должен стать общенаучный метод, представляющий собой соединение синтетического и аналитического метода [18. С. 14–15]. Для достижения данной задачи Кудрявцев обращается к анализу нашего познания, где в первую очередь рассматривает утверждение «я сомневаюсь во всем» и, как следствие, устанавливает реальное начало знания, а именно существование трех истин нашего познания: духовного мира, физического мира и абсолютно-совершенного Существа – Бога. Если предпринять попытку свести три указанные истины к одному основанию, то таковым окажется бытие Существа абсолютного [18. С. 19]. Что касается формального начала нашего познания, то им оказывается самодостоверность правильного мышления, на основании которой возможна «поверка философских учений пред судом логики, сличение философских выводов с законами мышления» [18. С. 20].
Главным принципом теории познания Кудрявцева, согласно Введенскому, является идея Божества, «могучее действие которого», прежде всего, сказывается в метафизическом анализе познания, исследующем проблему объективного значения познания [18. С. 20]. Данная проблема может быть решена преодолением материалистического и идеалистического монизма, а также субстанциального дуализма, посредством трансцендентального монизма, где объединяющее начало (Бог) возвышается над условным бытием, в котором дух и материя выступают двумя основными началами [18. С. 22]. Подобное решение вопроса позволяет решить проблему объективности нашего чувственного познания путем концепции соответствия. В познании присутствуют субъективный и объективный элементы, при этом воспринимаемые нами субъективные свойства вещей могут служить к познанию их объективных свойств, несмотря на некоторые несходства первых с последними [18. С. 24].
Указанные несходства в эмпирическом познании связаны с созерцаниями пространства и времени – всеобщими, необходимыми и априорными, а по значению – объективными. Ввиду того, что пространство и время являются в нашем сознании с признаками бесконечности, то возникает проблема отношения двух их признаков – объективности и бесконечности. Выход из сложившейся ситуации, предложенный Кудрявцевым, Введенский видит в признании пространства и времени одновременно формами действительного и возможного (идеального) бытия. В последнем случае пространство и время как основанные на идее бесконечного и являются бесконечными. Именно такой мыслительный ход Кудрявцева Введенский объясняет тем, что для Кудрявцева истина бытия личного Бога тверже всего [18. С. 24–25].
Тот «умеренно-критический реализм», который Кудрявцев предложил применительно к пространству и времени, обнаруживается в отношении к формам рационального познания – понятиям, которые могут применяться как к условному, так и к безусловному бытию. Также объективное значение признается и за идеями, соответственно, можно заключить об объективной идеальной действительности, которая доступна посредством особого органа для восприятия сверхчувственного – ума [18. С. 26–28].
Наконец, возвращаясь к особенностям русского философского проекта, третий вопрос, волнующий русское мышление – вопрос о достоверности знания. По мнению Введенского русская философия и здесь пройдет своим путем, но в русле борьбы с «философией относительности» или «релятивизмом», выступающей против «удвоения субъективности» [17. С. 153–154]. Новое гносеологическое начало Введенский предлагает искать в принципе жизни, в «соборности сознания». Последнее означает, во-первых, что истина открывается совокупными усилиями – «общение в истине всех или, по крайней мере, многих», во-вторых, понимание истины зависит от нашей жизни [17. С. 154–155].
Таким образом, мелиоризм, трансцендентальный монизм и соборность сознания – по мнению Введенского, «три основных идеи или тенденции», характерные для русской души, к которым должен прислушиваться всякий мыслитель-философ, если он хочет выдержать свой самобытно-русский характер [17. С. 156–157].
Ревизия А.И. Введенским трансцендентальной эстетики Канта
В вопросах теории познания Введенский не был полностью привержен взглядам Кудрявцева, что становится заметным при рассмотрении вышедшей в 1895 г. статьи «Учение Канта о пространстве», посвященной детальному разбору кантовского взгляда на пространство (см. [14. С. 95–97, В37–40]).
Русский философ с первых строк дает понять о своих установках по отношению к кантовскому трансцендентальному идеализму. Сначала Введенский приводит в качестве эпиграфа [19. С. 390] цитату из «Логических исследований» А.Ф. Тренделенбурга: «Критический взгляд часто прославляли за скромность, но при такой скромности науке скоро пришлось бы ходить с сумою по миру» [20. С. 148]. Под критическим взглядом в данном случае Тренделенбург подразумевает философию Канта, которая своими установками относительно только субъективного значения априорных форм чувственности и чистого рассудка подрывала аподиктическую достоверность научного познания [20. С. 146–148]. Введенский же вслед за Кудрявцевым [21] в указанной критике соглашается с предтечей марбургского неокантианства.
Вторая установка Введенского, отраженная в первых двух абзацах статьи, говорит о значимости кантовской философии и одновременно о необходимости преодоления крайностей последней: «Канта нельзя обойти тому, кто хочет заниматься философией серьезно. Его идеи необходимо изучить и критически продумать: иначе он будет вечно стоять пред сознанием темным и смущающим признаком» и «[…] к сознанию несостоятельности Кантовой философии можно подняться именно только путем углубления в ее подлинный смысл: философию Канта необходимо прежде всего продумать… и тогда сама собою откроется ее роковая односторонность» [19. С. 390]. Поэтому свою задачу Введенский видит в том, чтобы показать «коренную несостоятельность» трансцендентальной эстетики Канта, что «требует сопоставления идей Канта, для правильного определения их ценности, с другими, научно обоснованными, положениями в области того-же вопроса» [19. С. 390–391].
Главным источником в объяснительной части кантовских взглядов на пространство для Введенского по его признанию выступил «Комментарий к „Критике чистого разума“ Канта»[4] неокантианца Г. Файхингера. Также Введенский использовал и ряд других работ, в том числе: «Теорию опыта Канта» Г. Когена, «Логические исследования» Тренделенбурга и «Пространство и время» Кудрявцева. Вместе с тем следует заметить, что «Критику чистого разума» Введенский цитирует по изданию Э. Адикеса 1889 г., которое он считает лучшим изданием, поскольку оно имеет «исправный текст и ясные, при краткости, примечания историко-терминологического характера» [19. С. 391].
Кант, указывает Введенский, самой важной чертой пространства считает априорность (изначальность). Под априорностью немецкий философ понимает, во-первых, независимость от опыта по происхождению, во-вторых, необходимость для опыта. В тезисе Канта о том, что пространство не есть эмпирическое понятие, Введенский видит утверждение о предшествовании пространства опыту и стремится разобраться, какое предшествование здесь имеется в виду: психологическое или логическое, а в случае психологического – непосредственно сознаваемое или непосредственно несознаваемое [19. С. 392].
Введенский склоняется к тому, что Кант, скорее всего, имеет в виду логическое предшествование, то есть независимость представления пространства от опыта, соответственно, зависимость элементов опыта от представления пространства [19. С. 397–398]. Опираясь на комментарий Файхингера, Введенский делает заключение, согласно которому пространство для Канта есть необходимый «прецедент» явлений, а также их неустранимый «ингредиент» [19. С. 399]. Но Кант, по мысли русского философа, сам себе здесь противоречит. Развитое представление о пространстве, отмечает Введенский, образуется под влиянием опыта, что Кант сам и признает, но это противоречит его утверждению о неустранимости пространственного представления вместе с чувственными восприятиями, что у немецкого философа выступает доказательством априорности представления пространства [19. С. 402]. При этом представление пространства может быть вытеснено при отвлечении от внешнего опыта. Таким образом, необходимость пространственного представления оказывается условной, и с научно-психологической точки зрения оно приложимо только к внешнему миру и является познавательной формой не при всех возможных условиях [19. С. 403–404].
Одной из самых крупных ошибок кантовской теории познания Введенский называет жесткое разграничение между созерцаниями, понятиями и идеями как гносеологическими формами [22. С. 74]. Русский философ, основываясь на данных современной психологии, утверждает, что как нет понятия без созерцательного элемента, так и нет созерцания, в которое не вплетались бы логические элементы. Отсюда он выводит: «созерцание есть понятие на низшей ступени отвлечения, а понятие – на высшей» [22. С. 76]. Поэтому Введенский заключает, что «наше знание о пространстве может принять любую гносеологическую форму» [22. С. 80], а именно: созерцания, понятия и даже идеи.
Последнее, что разбирает Введенский в кантовском взгляде на пространство – учение о субъективности пространства. Кант, по мнению русского философа, под субъективностью пространства понимает то, что в действительности пространству ничего не соответствует, или наши пространственные представления не имеют никакого объективного коррелята [22. С. 86]. Отдельное внимание Введенский здесь обращает на два пункта, во-первых, на то, что представление пространства у Канта превращается в «форму внешнего чувства» [22. С. 90–91], во-вторых, пространство определяется, как только субъективная форма чувственности [22. С. 94].
Для выяснения того, что Кант понимает под понятием «форма», Введенский обращается к «Теории опыта Канта» Когена. Из толкований маргбургского схоларха Введенский делает то заключение, согласно которому кантовская форма внешнего чувства – это «психологический процесс синтеза многообразных элементов пространственной созерцательности, элементов, которые рассудку доставляет наша воспринимающая сила (рецептивность)» [22. С. 93]. С таким пониманием пространства как формы Введенский соглашается, но при этом он не может не обратить внимание на противоречие указанного понимания с кантовским же представлением о пространстве как о чем-то изначально данном в готовой форме [22. С. 93–94].
Что касается критики кантовского взгляда на пространство, как на только субъективную форму чувственности, то с формально-логической точки зрения, замечает Введенский, она была исчерпывающе представлена в сочинении «Пространство и время» Кудрявцева [23], который вслед за Тренделенбургом увидел здесь главную ошибку трансцендентальной эстетики Канта [22. С. 95]. Со своей же стороны, Введенский стремится разобраться в толковании, согласно его взгляду, важного положения философии Канта об эмпирической реальности и одновременно трансцендентальной идеальности пространства. Русский философ пишет, что в данном положении взята «совершенно верная точка отправления: для внешнего чувства и для разума один и тот же внешний предмет может быть дан совершенно различным способом», но в то же время общий вывод Канта о субъективности пространства «совершенно ошибочен» [22. С. 97–98].
В 1906 г. Введенский обращается к проблеме генезиса пространственного представления. Внимания Канту здесь практически не уделяется, но, что очень важно, Введенский анализирует в этой статье взгляды на пространство различных ученых и философов, среди которых встречаются ученые, возвестившие возврат к Канту – И. Мюллер и Г. Гельмгольц, а также кантианец и основоположник критического реализма А. Риль. Ближе всего взглядам самого Введенского оказались именно генетические теории происхождения представления пространства Гельмгольца и Риля [24. С. 695], основанные на эволюционно-логической почве [24. С. 709]. В частности, Гельмгольц пришел к выводу, что в процессе образования пространственного созерцания имеет значение априорная категория причинности [25. S. 453–455]. Риль, в свою очередь, считал, что пространственные представления образуются путем ряда сознательных умозаключений, приведенных к связи посредством единства и тождества нашего сознания. [26. S. 150–156]. Сам Введенский на основании рассмотренных теорий происхождения пространства приходит к следующему выводу: «Идея пространства происхождения априорно-апостериорного, то есть она образуется из апостериорного, от вне данного, материала, но по априорному закону или схеме и именно по выносимой нами из природы нашего сознания категории единства, в ее специальном для данного случая преломлении» [24. С. 709].
Итак, на основании разбора двух статей Введенского можно сделать вывод, что русский философ действительно возвращается «назад к Канту», но с целью совершить ревизию с позиций современной науки и психологической точки зрения. Примечательно то, что в неясных местах кантовского текста Введенский отдает предпочтение не собственному пониманию, а толкованиям Файхингера и Когена. В своих же взглядах на пространство Введенский оказывается ближе к Гельмгольцу и Рилю, что не мешает ему, несмотря на обнаруженные противоречия и ошибочные выводы, признать значение кантовской теории пространства.
Что касается разницы между взглядами на пространство Введенского и Кудрявцева, то последний принимал кантовское метафизическое истолкование пространства [21. С. 50–52; 27. С. 236], но отрицал его трансцендентальное истолкование, в то время как Введенский подвергает критике практически все положения кантовского воззрения на пространство. Причина такого разногласия кроется в том, что Введенский под априорностью пространства у Канта понимает изначальную данность в готовой форме. Кудрявцев считает иначе Кант, по его мнению, признавая априорное и, соответственно, прирожденное происхождение пространства и времени, отмечал, что они не лежат в нас как готовые понятия, но возникают вместе с опытом и по поводу опыта [23. С. 231, 236].
Указанная коллизия между мнениями Кудрявцева и Введенского возникла, скорее всего, в связи с комментарием Файхингера к кантовской «Критике чистого разума». Кудрявцев этот комментарий не упоминает и, соответственно, не ссылается на него, в то время как Введенский берет его за основу понимания кантовского учения о пространстве:
«Вопреки довольно распространенному мнению, по которому будто бы „Канту никогда в голову не приходило утверждать прирожденность представления о пространстве и времени“ (типичным выразителем этого мнения служит, например, Виндельбанд…), – вопреки этому неправильному мнению Файхингер, путем правильного сличения относящихся сюда мест, с непререкаемой ясностью показывает, что Кант разумеет под этим словом именно прирожденное представление, т.е. совершенно определенную заложенную в нашей душе в готовой форме (bereitliegende) мысль о пространстве (созерцание, представление), которая не только предшествует во времени всем нашим внешним восприятиям, но предшествует именно, как определенная, совсем готовая, актуальная форма (Commentar, II, 84–8)…» (курсив. – А.В., прим. – Д.Р.) [19. С. 395].
Таким образом, Введенский осуществил ревизию кантовской трансцендентальной эстетики, опираясь в большей степени именно на неокантианскую литературу, а не на взгляды своего учителя Кудрявцева.
Критика А.И. Введенским неокантианства в лице Ф.А. Ланге
Первые упоминания о неокантианстве Введенский делает в пробной лекции «Отношение Лянге к вопросу о познании», прочитанной в МДА 7 сентября 1887 г. и посвященной гносеологии Ланге. Русский философ отмечает, что Ланге известен в первую очередь своей знаменитой «Историей материализма» (1865), после издания которой в Германии довольно быстро образовалась школа последователей Ланге известных под именем «новокантианцев» [27. С. 53–54]. Ланге, действительно стоял у истоков неокантианства [15. С. 39], хотя некоторые исследователи считают его также и первым представителем Марбургской школы неокантианства [15. С. 42–43].
В указанной лекции Введенский последовательно рассматривает взгляды Ланге на эмпирическое, рациональное и идеальное познание. Русский философ обращает внимание на то, что Ланге в теоретические прозрения Канта привносит современные ему данные физиологии, которая суть «развитый и исправленный кантианизм» [27. С. 57]. Поэтому субъективными априорными формами должны быть признаны не только пространство и время, но и качества чувственных впечатлений. Вместе с тем Ланге признает существование вне субъекта вещи самой по себе, которая обуславливает опыт, хотя опыт не соответствует ей всецело из-за наличия субъективных элементов познания. Объективным такой опыт может быть только в том смысле, что весь человеческий род (сюда же, согласно Ланге, можно отнести и различные «животно-организованные» существа) в силу своей психофизической организации признает нечто существующим именно так, а не иначе. Отсюда мир опыта для Ланге – это не абсолютная объективность, а условная, соответственно, за миром явлений всегда будут вещи сами по себе [27. С. 57–58].
Рациональное познание у Ланге, продолжает Введенский, строго связано с эмпирическим, поскольку психология уже на пороге открытия того, что «общее находится в частном, логическое – в физиологическом». Отсюда, по мнению Введенского, Ланге отрицает существование чистого мышления, которое своим содержанием имело только одно общее, так же как и чистого ощущения, которое не заключало бы в себе ничего общего. Данное положение русский философ называет одним из слабейших пунктов философии Ланге [27. С. 60–61]. Дело в том, что отрицание существования чистого мышления, во-первых, ведет к бессмысленности кантовского вывода рассудочных категорий из одного принципа и их трансцендентальной дедукции. Во-вторых, если чистого мышления нет, то истина только в опыте [27. С. 61–64].
В случае с чувственными созерцаниями и рассудочными понятиями человек связан так называемой организацией рода, но в третьем виде познания – идеальном – главные элементы, идеи, являются непосредственными продуктами творчества, которое не связано со свойствами родовой организации. Здесь Ланге, согласно Введенскому, отходит от кантовского взгляда на идеи как на выводы из умозаключений. При этом истинность идей условная, хотя возможно, что за миром явлений стоит такая абсолютная действительность, к которой и относится творимый нами мир идей. Как следствие, идеи для Ланге, резюмирует Введенский, имеют не теоретическое, а лишь практическое значение [27. С. 64–66].
В результате Введенский делает вывод, что для Ланге теоретически-познавательное значение философии придается ровно настолько, насколько она отождествляется по своим приемам и задачам с приемами и задачами науки. В противном случае философия может претендовать только на практическое значение. Вместе с тем Ланге, продолжает русский философ, ставит познанию два предела: вещь саму по себе и нашу психофизическую организацию. Именно на защиту такой теории, заключает Введенский, выступил Ланге и основанная им школа новокантианцев [27. С. 71–72].
В 1891 г. Введенский вновь возвращается к обсуждению «новой, оригинальной теории познания» Ланге и неокантианцев. Появление неокантианства русский философ называет реакцией на предшествовавшую идеалистическую философию, в частности, Фихте, Шеллинга, Гегеля и Шопенгауэра. Неокантианцы, продолжает он, предлагали «возвратиться на преждевременно оставленную позицию, приобретенную для философии Кантом», то есть вновь признать «вещь в себе» предельным понятием умозрения [8. С. 318–319].
Философия для Ланге, пишет Введенский, это продукт высшего синтеза, стремящегося установить гармонию между идеями, бессознательно производимыми эстетическим, нравственным и архитектоническим влечениями нашей природы, и действительностью, то есть «совокупностью необходимых явлений, данных принуждением чувств». Отсюда русский философ заключает, что, согласно Ланге, речь идет не о философском познании истины, а о философском творчестве истины: сердце может творить себе истину, не подчиняясь суровому контролю разума. Соответственно, философия в таком случае будет обладать субъективной истинностью, что, по мысли Ланге, определяется ценностью, жизненным значением [8. С. 319–320].
Введенский признает определенную заслугу Ланге и неокантианцев, но одновременно видит проблему в постулируемом ими «разрыве головы и сердца», а также в их «полусознательном скептицизме» [8. С. 321]. Ланге и его школа, согласно Введенскому, не хочет исследовать «трансцендентные корни субъективной истины» и поэтому не удовлетворяет коренным требованиям нашей природы. Основную ошибку неокантианцев русский философ видит в том, что они нравственно-эстетическое чувство, рассматриваемое в качестве руководящего начала, отделили от объективных логических процессов, превратив теорию познания в «исповедание нашего неведения». В том же направлении, замечает Введенский, двигался и Лотце, по сути, предложивший свою модификацию подхода неокантианцев к познанию действительности. Согласно Лотце, сущность вещей может быть открыта всей совокупности наших духовных сил, поэтому верховная задача философии достигается нравственно-эстетическим смыслом, открывающим идеальные начала, а также мышлением и опытом, развивающих из этих начал всю совокупность существующего [8. С. 321–322].
Можно ли А.И. Введенского отнести к неокантианству?
Основной трудностью для определения принадлежности того или иного мыслителя к неокантианству является отсутствие единой общепринятой системы критериев, четко определяющей границы неокантианской традиции. Решение данной проблемы – удел историков философии, которым для этого требуется основательная проработка взглядов всех философов, так или иначе связанных с кантианством и двумя известными неокантианскими школами. Что касается текущего положения дел, то на сегодняшний день существует подробный разбор системы критериев, представленный в монографии Н.А. Дмитриевой [15], через призму которых будут дальше рассмотрены философские взгляды Введенского.
В первую очередь Дмитриева стремится провести демаркационную линию между кантианством и неокантианством. Для неокантианства отправной точкой является кантовский «Коперниканский поворот», так же как и для кантианства, но при этом неокантианцы осознают невозможность продолжать односторонние и противоречивые идеи Канта, особенно это касается «вещи самой по себе». Еще одна черта, позволяющая разграничить неокантианство и кантианство – отношение к метафизике. Кантианцы проводят критику познания с целью создания основательного здания метафизики, в то время как неокантианцы критикуют подобный замысел, применяя критику познания для объяснения научных фактов [15. С. 41–42].
Далее Дмитриева предлагает критерий, разграничивающий неокантианство в широком и строгом смысле. В строгом смысле неокантианцами могут называться представители Марбургской и Баденской неокантианских школ, для которых были принципиально важны следующие установки: 1) рационализм; 2) критика познания; 3) сциентизм; 4) системность и автономия философии; 5) историчность философии; 6) соединение кантианства и социализма; 7) единство знания как основа единства культуры [15. С. 57]. Немецкое неокантианство в широком смысле, согласно Ф. Ибервегу, включает в себя семь направлений. Помимо Марбургской и Баденской школы, представляющие логицисткое направление и ценностно-теоретический критицизм, соответственно, Ибервег указывает еще на физиологическое (Г. Гельмгольц, Ф.А. Ланге), метафизическое (О. Либман, И. Фолькельт), реалистическое (А. Риль, О. Кюльпе), релятивистское (Г. Зимммель) и психологическое (Л. Нельсон) направления [15. С. 58]. Отдельно Дмитриева упоминает представителей так называемого раннего неокантианства или предтеч неокантианства, то есть идейных предшественников неокантианцев в строгом смысле, например, таких как Ланге, Лотце, Тренделенбург, Куно Фишер [15. С. 60–61].
Наконец, Дмитриева предлагает критерий для различения между немецким и русским неокантианством. Собственно, все трудности, связанные с идентификацией немецких неокантианцев, обнаруживаются и в отношение русских неокантианцев. Отсюда отечественный автор приходит к утверждению, что русское неокантианство в узком смысле полностью совпадает с немецким неокантианством в узком смысле. Что касается русского неокантианства в широком смысле, то оно имеет следующие признаки: 1) обращение к идеям Канта; 2) принадлежность к поколению тех мыслителей, которые провозгласили «Назад к Канту!»; 3) распространение и укрепление философского критицизма [15. С. 140–141].
Если рассмотреть Введенского через призму приведенных выше критериев, то можно увидеть, что для него «Коперниканский поворот» также является отправной точкой. Вместе с тем русский философ стремится понять Канта, чтобы преодолеть его односторонние и противоречивые идеи. Кантовскую «вещь саму по себе» Введенский не делает предметом специального анализа, но, исходя из его философских установок, можно предположить, что для него это понятие является проблематическим, в чем он сближается с неокантианской традицией. В то же время, высказываясь в пользу метафизики как научного знания, Введенский сближается с кантианской традицией.
Отнести Введенского к неокантианству в строгом смысле решительно невозможно, поскольку он не был представителем одной из неокантианских школ. При этом его философские основания вполне созвучны в той или иной мере представленным выше установкам неокантианских школ. Вместе с тем Введенский может быть отнесен к неокантианству в широком смысле, где встречаются направления и авторы, с идеями которых русский философ соглашался.
Нельзя обойти стороной взгляды В.Н. Белова на русское неокантианство и его отношение к немецкому. Белов отмечает, что для русского неокантианства был характерен интерес к кантовской критической философии, недостатки которой русские неокантианцы стремились преодолеть. В частности, речь идет о теории познания Канта. Еще одним признаком русского неокантианства, согласно отечественному автору, является «процесс эманации неокантианства в философию культуры в широком смысле». При этом, сравнивая задачи философии у русского и немецкого неокантианства в лице А. Введенского и Г. Когена, он не видит здесь кардинального различия, поскольку оба указанных философа видят задачу философии в обосновании возможности научного познания и научности самой философии [28. С. 344–345].
В контексте критериев и интуиций, предложенных Беловым, в отношении Введенского остается неразрешенным вопрос, был ли он сторонником философского критицизма? С одной стороны, русский философ занимается анализом собственных оснований мышления и стремится выяснить границы применимости фундаментальных понятий и методов, соответственно, он выступает сторонником метода критической философии. С другой стороны, его установка на реализацию проекта метафизики будущего, по-видимому, не совместима с принципиальным антидогматизмом.
Заключение
Анализ философских взглядов Введенского, с одной стороны, подтвердил оценку Зеньковского об эклектичности его взглядов и приверженности трансцендентальному монизму Кудрявцева. С другой стороны, мнение Зеньковского о неоригинальности и незначительной ценности научных плодов Введенского является односторонним, поскольку не учитывает историко- философскую специфику взглядов русского философа.
Введенский стремился оттолкнуться от идей «пророка философии будущего в Германии» Канта, получивших наиболее верное развитие, по мнению русского философа, в концепции преобразованного волюнтаризма, предтечи баденского неокантианства Лотце. Вместе с тем Введенский заявляет о своей приверженности «системе трансцендентального монизма» и «умеренно-критическому реализму» Кудрявцева, но не следует установкам своего учителя безоговорочно. В частности, Введенский, привлекая новейшие данные современной ему науки, в критике трансцендентальной эстетики Канта идет дальше Кудрявцева. Русский философ не соглашается не только с учением Канта о субъективности пространства как формы чувственного восприятия, но и с тем, что пространство является априорным созерцанием. Отдельного внимания здесь заслуживает тот факт, что Введенский указанную критику проводит с опорой на интерпретации «Критики чистого разума» Файхингером и Когеном. В вопросе происхождения пространственного представления Введенский примыкает к Гельмгольцу и Рилю. В целом, критика Введенским трансцендентальной эстетики Канта представляет собой ее ревизию с опорой преимущественно на неокантианскую литературу.
Само неокантианство у Введенского, в первую очередь, ассоциируется с Ланге и получает неоднозначные оценки. Введенский признает определенную заслугу Ланге и неокантианцев, но одновременно видит проблему в их гносеологическом скептицизме и разрыве между нравственно-эстетическим чувством и познавательной способностью. Нежелание Ланге и неокантианцев исследовать «трансцендентные корни субъективной истины», так же как и преодолеть разрыв «головы и сердца», Введенский предлагает исправить идеями Лотце.
Попытка рассмотреть взгляды Введенского через призму критериев немецкого и русского неокантианства показала, что русский философ не может быть отнесен к неокантианству в узком смысле, хотя на условной историко-философской шкале он по взглядам ближе к неокантианству, чем к кантианству. Но, в то же время, русского философа можно отнести к неокантианству в широком смысле как мыслителя, провозгласившего возврат к Канту, стремившегося исправить и дополнить Канта в свете новейших научных результатов и в своих размышлениях активно обращавшегося к текстам философов, принадлежавших неокантианской философской традиции.
1 В.В. Зеньковский, например, упоминает о Введенском, но не придает ему должного значения, называя его «плодовитым, но мало оригинальным… следовавшим в общем своему учителю В.Д. Кудрявцеву» [2. С. 558]. Ученик Введенского Ф.К. Андреев, напротив, считает, что его учитель «в ряду крупных русских имен перейдет в потомство» [3. С. 234]. В современных исследованиях можно найти два упоминания о Введенском в известной монографии А.Н. Круглова [4. С. 426, 478]. В работе В. Поцци «Кант и русское православие» вообще нет никаких сведений о русском философе [5]. В новейшей монографии Т. Немета «Философия в русских императорских духовных академиях» Введенскому уже посвящен небольшой раздел, представляющий в общих чертах некоторые его взгляды [6. P. 252–256].
2 Введенский здесь делает вольный парафраз на кантовское определение понятия «мировой философии» из архитектоники чистого разума: «философия есть наука об отношении всякого познания к существенным целям человеческого разума…» [14. С. 1051, В867].
3 Согласно Н.А. Дмитриевой, Лотце был предтечей баденского неокантианства, который двигался не «назад», а «вперед к Канту», как следствие, он воспринял эпистемологический скептицизм кантианского толка. Важнейшим компонентом философии Лотце стало учение о ценности и значимости, из развития и критики которого сложилась критическая теория познания – теоретическое ядро всего неокантианства [15. С. 43–46].
4 Commentar zu Kants Kritik der reinen Vernunft.
About the authors
David O. Rozhin
Immanuel Kant Baltic Federal University
Author for correspondence.
Email: DRozhin1@kantiana.ru
ORCID iD: 0000-0003-4877-2598
SPIN-code: 9777-4228
СSc in Philosophy, Research Fellow, Kantian Rationality Lab, Academia Kantiana
14 Aleksandra Nevskogo St., Kaliningrad, 236041, Russian FederationReferences
- Vvedensky AI, Rozhin DO. “The Great Rationalist”: Alexey Vvedensky on Kant in the Context of Russian Kantiana. Kantian Journal. 2024;43(1):149–180. (In Russian). doi: 10.5922/0207-6918-2024-1-7 EDN: DEDDHE
- Zen’kovskij VV. History of Russian Philosophy. Moscow: Akademicheskij proekt, Raritet; 2001. (In Russian).
- Andreev FK. The stone rejected by the builders: (One hundred years of struggle for ontologism): [Introductory lecture on the subject of systematic philosophy and logic]. Bogoslovskij vestnik. 1914;3(10–11):233–244. (In Russian).
- Kruglov AN. Kantʼs Philosophy in Russia in the Late 18th century and First Half of the 19th century. Moscow: Kanon+ publ.; 2009. (In Russian). EDN: QWWIHJ
- Pozzi V. Accademie ecclesiastiche e filosofia in Russia tra XVIII e XIX secolo. Firenze: Firenze University Press; 2017.
- Nemeth T. Philosophy in Imperial Russia’s Theological Academies. Berlin, Boston: Walter de Gruyter GmbH; 2023.
- From Academic Life (25th Anniversary of Professor A.I. Vvedensky). Bogoslovskiy vestnik. 1912;1(2):394–454. (In Russian).
- Vvedensky AI. Basic Epistemological Principles of Post-Kantian Philosophy. Historical-critical Essay. Vera i razum. 1891;19:305–326. (In Russian).
- Vvedensky AI. The Current State of Philosophy in Germany and France: [Section 1: Philosophy in Modern Germany]. Bogoslovskiy vestnik. 1892;3(10):23–45. (In Russian).
- Vvedensky AI. The Current State of Philosophy in Germany and France. Bogoslovskiy vestnik. 1893;2(5):283–318. (In Russian).
- Vvedensky AI. Philosophy in Modern Germany. III. Theory of Cognition (Gnoseology). Bogoslovskiy vestnik. 1893;3(8):230–261. (In Russian).
- Vvedensky AI. Fouillée and the Metaphysics of the Future. III (ending). Voprosy filosofii i psihologii. 1892;11:127–145. (In Russian).
- Vvedensky AI. Fouillée and the Metaphysics of the Future. Voprosy filosofii i psihologii. 1891;10:1–30. (In Russian).
- Kant I. Critique of Pure Reason. 2nd ed. In: Works in German and in Russian. Vol. 2. Pt. 1. Moscow: Nauka publ.; 2006. (In Russian). EDN: QWLRTJ
- Dmitrieva NA. Russian Neo-Kantianism: ‘Marburg’ in Russia. Historical and philosophical essays. Moscow: Rossiiskaya politicheskaya entsiklopediya (ROSSPEN); 2007. (In Russian). EDN: QWPEYN
- Vvedensky AI. Philosophy of the Future in Germany. Bogoslovskij vestnik. 1894;1(1):77–99. (In Russian).
- Vvedensky AI. On the Tasks of Modern Philosophy, in Connection with the Question of the Possibility and Direction of Original Russian Philosophy. Voprosy filosofii i psihologii. 1893;5(20):125–157. (In Russian).
- Vvedensky AI. Founder of the System of Transcendental Monism. I-III. Voprosy filosofii i psihologii. 1892;14:1–28. (In Russian).
- Vvedensky AI. Kant’s Doctrine of Space: (Explanation and Criticism). Bogoslovskij vestnik. 1895;2(6):390–404. (In Russian).
- Trendelenburg FA. Logical Investigations: in 2 parts. Pt. 1. Мoscow: Tip. Gracheva i Ko.; 1868. (In Russian).
- Rozhin DO. Between Kant and Trendelenburg: On the Genealogy of Kudryavtsev-Platonov’s Theory of Cognition. Kantian Journal. 2023;42(4):35–68. (In Russian). doi: 10.5922/0207-6918-2023-4-3 EDN: YZHYLG
- Vvedensky AI. Kant’s Doctrine of Space: (Explanation and Criticism). Bogoslovskij vestnik. 1895;3(7):73–102. (In Russian).
- Kudryavtsev-Platonov VD. Space and time. In: Works by V.D. Kudryavtsev-Platonov in 3 volumes. Vol. 1. Pt. 2. Sergiev Posad: Tip. Sv.-Tr. Sergievoj Lavry; 1914. P. 210–310. (In Russian).
- Vvedensky AI. Analysis of the Idea of Space. Bogoslovskij vestnik. 1906;1(4):692–709. (In Russian).
- Helmholtz H. Handbuch der physiologischen Optik. Leipzig: L. Voss; 1867.
- Riehl A. Der philosophische Kriticismus und seine Bedeutung für die positive Wissenschaft: in 2 Bdn. Bd. II. Th. 1. Leipzig: Engelmann; 1879.
- Vvedensky AI. Lange’s Attitude to the Question of Cognition: [Sample lecture]. Pribavleniya k izdaniyu tvorenij Svyatyh Otcev v russkom perevode. 1888;41(1):53–72. (In Russian).
- Belov VN. Philosophy of H. Cohen and it’s Reception in Russian Philosophical Thought. History of Philosophy Yearbook. 2004;18:333–353. (In Russian).
Supplementary files