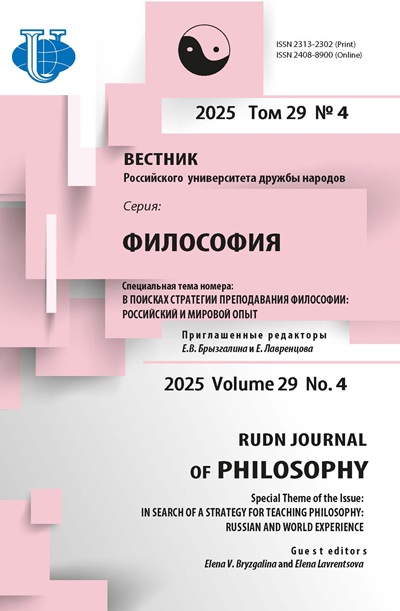Hellenic Theology at the End of the Late Classics
- Authors: Naidysh V.M.1
-
Affiliations:
- RUDN University
- Issue: Vol 29, No 2 (2025): CONTEMPORARY SOCIETY AND SOCIAL SECURITY
- Pages: 420-434
- Section: HISTORY OF PHILOSOPHY
- URL: https://journals.rudn.ru/philosophy/article/view/44924
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-2302-2025-29-2-420-434
- EDN: https://elibrary.ru/SESOKT
- ID: 44924
Cite item
Full Text
Abstract
The sunset of the late classics (second half IV century BC) is a time of crisis of the polis lifestyle, the way out of which was found in the transition from a “small cozy polis” to huge multi-ethnic multicultural empires, which was accompanied by profound transformations of spiritual culture and religious consciousness. In the new socio-political reality, where social relations mediated in space and time dominate, the system of consciousness is becoming more complicated. The areas of personal and social needs are divided, political particularism gives way to motives of ethnointegration, cosmopolitanism, the individual has the opportunity to delve into his own personality, the world of human feelings is enriched, the role of moral self-regulation increases, spiritual culture differentiates into elite and mass, actively reproducing a mystical worldview. With the increasing complexity of the thinking system, the process of cognition rises to a theoretical level. The cognitive and value-semantic components of the cognitive process are separated, which in theology manifested itself in the formation of two approaches. The first one is aimed at searching for generalized meanings expressing the relations of the profane and sacred worlds, in the lifestyle and actions of a person. He was represented by the so-called Socratic schools (Cynics, Cyrenaics, Megarian school, etc.). The history of these schools has shown that such meanings are not expressed by generalizing the experience of individualized personality sensuality. Cultural and historical experience is needed here, which was realized as the need to give cosmic meaning to mental constructions. Therefore, the Cynics evolve towards Stoicism, the Cyrenaics towards Epicureanism, and the Megarians towards Neoplatonism. The second approach (the construction of “authentic divinity”, a conceptual model of the sacred world) was developed by Aristotle. He integrates ontology, cosmology and theology on the basis of the extremely abstract concept of God - the only, eternal, immobile, indivisible, incorporeal, not set in motion by anything else, the beginning of all beginnings and the cause of all causes, a pure theorist and a perfect philosopher contemplating his own thinking. At the same time, Aristotelian theology is not devoid of residual elements of unreflected subjectivity (mythologism, hylozoism, ethical and aesthetic features), which further opened up the possibility of its synthesis with the theologies of the Abrahamic religions, formed on the abstract-conceptual reconstruction of the Old and New Testament mythologies.
Keywords
Full Text
Введение
Поздняя классика (IV в. до н. э.) – это период упадка полисной культуры и преддверье культуры эллинизма, возникшей в результате синтеза духовных традиций Древней Греции и Востока, порожденного завоеваниями Александра Македонского[1]. В истории поздней классики принято выделять два этапа: становление поздней классики (первая пол. IV в. до н. э.) и ее завершение (вт. пол. IV в. до н. э.), которое ознаменовало закат всего классического периода древнегреческой истории и ее культуры[2].
Завершение к началу IV в. до н.э. кровопролитной, ожесточенной и разрушительной тридцатилетней, по сути общегреческой, Пелопоннесской войны не принесло ожидаемого спокойствия и длительного мира [5]. Наоборот, кризис греческого мира еще более обострился и приобрел затяжной характер. Сказывалась ограниченность ресурсных возможностей полиса; его небольшие размеры сдерживали рост производительных сил, ограничивали сферу денежно-рыночных отношений, международную торговлю и др. [6; 7]. Все более обострялись внутриполисные противоречия. Постоянным явлением стали гражданские смуты (стасисы), которые вызывались требованиями «передела земли» и «отмены долгов».
Для выхода из кризиса необходимо было объединение греческих полисов. Но постоянные разорительные войны показали, что оно не может произойти на межполисной основе. Потому роль эллинского интегратора и гегемона взяла на себя монархическая Македония[3]. Так было положено начало формированию новой социально-политической реальности. После завоевательных походов Александра Македонского она превратилась в огромную полиэтнокультурную мировую империю, в которой еще больше ускорились процессы вытеснения натурального хозяйства, разделения труда, развития товарно-денежных отношений, торговли, в том числе работорговли, а также усилилась социально-классовая поляризация. При этом не исчезает и «маленький уютный полис». Он превращается в компонент монархической государственности, с которой у него складывались сложные отношения. Подчиняясь монархии в вопросах внешней политики, полис остался самоуправляемой общиной, регулирующей внутренние, повседневные, «домашние» дела (снабжение, финансовая система, гражданские культы, правовая система и др. [8]. Новая социальная реальность требовала от граждан не только традиционно высокой политической активности, но и большей рационализации форм предметно-практической, организационной, управленческой деятельности, международной торговли и др. Полис проявил свою жизнеспособность, но ценой серьезных трансформаций духовной культуры, в том числе религиозного сознания [9].
Трансформации духовной культуры
Сознание – ядро духовной культуры, которое включает в себя не только знание о мире, но и переживание отношений субъекта к миру. Сознание возникает и воспроизводится (в филогенезе и онтогенезе) как необходимое звено в цепях социального общения и отражает их характер. Смена типов социальных отношений неизбежно влечет за собой и преобразования в системе сознания. Полисное сознание определяется прямыми, непосредственными, межличностными связями, зримо контролируемыми в пространстве и во времени. На их основе сложилась и соответствующая система мыслительных операций. Она носила двухуровневый характер, противопоставляла чувственно-образное и абстрактно-понятийное, но не позволяла осваивать «внутреннюю логику» объекта, конструировать его теоретическую модель [10]. Поэтому ранние философские учения представляли собой совокупность отдельных абстрактных обобщений, связанных между собой не логическими связями, а наглядно-образными ассоциациями.
В новой имперской социально-политической реальности (военно-бюрократической монархии) доминируют социальные отношения, опосредованные в пространстве и времени. Это определило дифференциацию потребностно-мотивационной сферы сознания, противопоставление повседневно-бытовых и общественных потребностей, интересов государства и личности и др. Полисный партикуляризм и этноцентризм уступают место мотивам этноинтеграции, космополитизма.
Освобожденный от диктата общинных и полисных императивов, индивид переключается на сферу быта, семьи, стремится замкнуться в узком кругу соратников, единомышленников, друзей. Он получил возможность углубиться в свой внутренний мир, развивать личностные качества. Развивается индивидуальное самосознание, возрастает роль моральной саморегуляции. Исчезают гражданские чувства полисной эпохи. Им на смену приходит полная повседневных переживаний, интимно-личностная индивидуальность. Чувственно-эмоциональная сфера обогащается теплотой и сердечностью. Это зримо проявляется в изобразительном искусстве, для которого характерны отказ от групповых тем, интерес к выражению личных переживаний, «передаче личных эмоций – тоски, страха, боли, веселости нрава, любовного томления, а также религиозного таинства» [11. С. 761–762]. Скульпторы (например, Пракситель) ищут способы выражения игривости, беспокойного состояния и чувственного напряжения. Выражение религиозных мотивов характеризуется обращением «скорее к личному религиозному чувству… нежели к групповому духу литургической государственной религии» [11. С. 762]. В скульптурных композициях бессмертные и величественные боги все чаще смотрят на пришедших с симпатией, как бы показывая возможность установления личной связи между человеком и богом.
Вместе с тем не могли не отразиться в сознании и глубинные трансформации полисного образа жизни. Они осознавались как непредсказуемая катастрофическая игра социальных сил. Обострялось восприятие (и переживание) времени, которое насыщалось самыми противоречивыми оценками. В памяти прошлого возрождались гесиодовские идеалы «золотого века Кроноса». В то же время образы воображаемого будущего насыщались понятиями осквернения, очищения, божьего возмездия, а также ощущениями тревоги, страха. Укреплялась также новая тенденция ассоциировать будущее с потусторонним существованием, окрашенным в розовые тона (надежды, счастья, удовольствия и др.) [12; 13].
Характерная особенность рассматриваемой эпохи – дифференциация духовной культуры на элитарную (высшую) и массовую («низовую»), различавшиеся мерой рационализации культурно-исторического опыта. В культуре элиты утверждаются высокие критерии профессионализма, стремление к утонченности поведения, изысканность манер, художественный вкус, покровительство творцам и др. Художник все чаще уже творит не для всех членов общества, а для избранных лиц, с учетом их вкусов и запросов. Вместе с тем в этой среде усиливается религиозный скептицизм, благоговение перед антропоморфными богами уходит в прошлое, мифология становится предметом насмешек и подчас даже грубого издевательства. Растет число мыслящих личностей, убежденных, что богам некогда заботиться о каждом индивиде, судьба каждого человека зависит от его личных качеств, а уж потом от богов. Рождаются запросы на новых богов; на смену старым полисным богам приходят новые культы и божества. Одновременно размываются границы между человеческим и божественным. Все чаще обожествляются реальные исторические личности. Так, приписывал себе сакральные качества Александр Македонский, сначала как потомка героев (Гераклид), впоследствии как сына Зевса-Аммона[4], а в конце жизни он обосновывал это утверждением, что «Царь это явившийся на Землю бог».
Качественно иные ориентиры характеризовали массовое, «низовое», сознание. Оно оставалось нацеленным на воспроизводство субъектоцентрического видения мира, в котором индивид не заинтересован в объективном отражении реальности, его устраивает «растворение» чувственного образа в собственных переживаниях, скрывающих мотивы его деятельности. В таких условиях субъект слабо разделяет реальное и воображаемое, чувственно- образное и абстрактно-понятийное, эмоциональное и когнитивное. Массовое сознание нацелено на мифологию, магию, мистику, нравственно-религиозное проповедничество и др. В нем воспроизводится мистическое мироощущение, фанатическая вера в целителей, колдунов, чудотворцев, прорицателей. Суеверность расценивается как положительное качество человека: значит, он богобоязнен. Суеверие – это смирение перед богами. Средний грек этого времени был весьма суеверным человеком, жил в обстановке постоянного страха, на каждом шагу опасался злых козней духов и стремился обставить любое значимое действие ритуальными процедурами.
Важная особенность эпохи – на основе возрастания разнообразия форм деятельности и типов общения началось качественное усложнение структуры мышления. Система мыслительных операций приобретает многоуровневый, иерархический характер. Апробированные практикой операции высших уровней получают возможность выполнять методологические функции по отношению к операциям низких уровней. Процесс познания поднимается на теоретический уровень, т.е. позволяет через анализ отношений между абстракциями, систематизацию понятий выявлять внутреннюю сущностную структуру объектов. Не случайно, что именно в это время возникают основные философские школы античности.
Теоретизация знания затронула и теологию. В осмыслении связей человеческого и божественного миров выделяется два подхода, которые по-разному трактовали принципы софистического свободомыслия (и свобододействия) и сократовского самопознания. Первый представлен рациональной реконструкцией наглядно-образной мифологии, ее трансформацией в абстрактно-понятийную модель сакрального мира. В его формировании решающая роль принадлежит Платону, а на закате поздней классики этот подход развивал Аристотель. Второй подход базируется на понимании философии не как знания, а как образа жизни. В нем общее не абстрагируется от частного и выражается в неповторимости поведения личности, ее действиях, поступках. Связи человеческого и божественного усматриваются не в сфере теории, а в повседневном процессе жизни, личном опыте индивида, поступках личности, ее субъектности. Этот подход был представлен сократическими школами (киники, киренаики, мегарская школа и др.). В «гигантской битве за понятие бытия» [15. С. 376] они были в оппозиции к платонизму. Во второй половине IV в. до н. э. здесь ведущую роль играла школа киников, в которой понимание философии как образа жизни именовалось «перечеканкой монеты (ценностей)» (paracharattein to nomisma) [16. С. 18]. Как говорил Диоген: «Я считаю важным приносить человеческому роду пользу больше других людей не только тем, что у меня есть, но и самой своей личностью» [17. С. 250].
Теологический поиск субъектности
Поздняя классика обострила вопросы связи в человеке духовно-рационального и материально-природного. Иначе говоря, как связаны между собой в личности закономерная рациональная духовность и материальная стихия жизни? Поиски ответа на эти вопросы оказались в центре «проблемного поля» сократических школ. Все они так или иначе исходили из того, что человек может противостоять потоку все разрушающей природной событийности, если он найдет в себе силы проникнуть в свои духовные глубины и прояснить их связь с естественными жизненными устоями. Сократ напрямую не связывал свободу «субъективного духа» с сознательным регулированием жизненного процесса. По его мнению, такой процесс протекает сам по себе. «Ум, пока находится в твоем теле, распоряжается им как хочет» [18. С. 30]. Но при этом, по его мнению, результаты познания лучше «доказывать не словами, а делом», ведь «ни один… поступок не может остаться скрытым от богов» [18. С. 30]. Следуя этой заповеди, сократические школы в условиях агонии полисной системы искали такие формы поведения личности, которые адекватны божественным абсолютам. Так, киники и киренаики находили их в принципах субъективного удовольствия, наслаждения, автаркии и адиафории (безразличия). А мегарики, оперируя исключительно абстрактными понятиями и формализмами, принижали материальную жизнь, отрицали чувственное познание [19. С. 122]. При этом все они так или иначе стояли на позициях свободомыслия, презрения к условностям.
Представители сократических школ создали богатый пласт остроумной, пародийной, сатирической литературы на темы: жизни и смерти, добродетели, организации государства, социального неравенства, религии и др. Она полна фольклорных образов, народной мудрости, просторечья, афоризмов, аллегорий, метафор и др. При этом, гипертрофируя свои базовые принципы, они нередко теряли чувство реальности, впадали в эскапизм, эпатаж, демонстративно обессмысливали общепризнанные ценности, представляя их в виде абсурдов, аскетических причуд, о чем было сложено немало легенд и анекдотов.
Мудрец – это прежде всего насмешник, который не верит ни во что и смеется над всем – над мифом, религией и суеверием, над поэзией и философией, над собой, в конце концов. Он должен противопоставить бессмысленности познания мира свою невозмутимость (атараксию) и молчание. Некоторые представители сократических школ абсолютизировали свои принципы (автаркии, стремления к удовольствию и др.), доводя их до явного абсурда. Как, например, киренаик Гегесий, которого называли «Учитель смерти» [20. С. 131], исходя из того, что страдания тела превышают его удовольствия, заключает, что «счастье вообще невозможно», а значит, жизнь не имеет ценности и освободиться от страданий можно только через самоубийство. Бытие не только глубже наших знаний о нем, но и намного богаче наших переживаний и ощущений. Так граница между человеческим и божественным приобретает не только гносеологическую, но и экзистенциальную трансцендентность.
Сократики без должного уважения относились к мифологии, утверждали, что всякий миф является спорным и невозможным, поскольку в самом себе содержит опровержение, «миф есть изложение предметов, не могущих возникнуть и ложных» [21. С. 108], посмеивались над показным благочестием, внешней обрядовостью, образами и сюжетами эллинской религии. Это приводило их к конфликтам с полисными моральными нормами. В народе их называли «безбожниками», «неверующими», «нечестивыми» и др. Вместе с тем радикальный критицизм приводил их и к позитивным понятийным обобщениям, в частности, намечал переход к монотеизму. Так, Антисфен, стоявший у истоков кинической философии, утверждал, что «согласно мнению людей, существует множество богов, по природе же – один», который «ни на кого не похож, поэтому-то никто не может узнать его по изображению» [22. С. 124]. Кроме того, киники насыщали противопоставление бессмертных богов и смертных людей психологическими оппозициями. Боги не только прекрасны, бессмертны и невидимы нами, но, вполне возможно, что они другие и по своим духовно-психологическим качествам. И тогда возникают вопросы: говорим ли мы с богами на одном языке? можно ли вообще достичь с богами взаимопонимания? И вот уже киник Дион сомневается: «А ты не боишься того, что боги говорят одно, а подразумевают другое?» [23. С. 346].
Так, на закате поздней классики сократические школы выразили свойственное эпохе интеллектуальное отчаяние, общий индифферентизм, безразличие, утерю веры в способности человека влиять на ход жизни, даже с помощью богов. Пессимистическая тональность сократических школ свидетельствовала об исчерпании культурно-творческого потенциала эллинской религиозности. Она теряла историческую перспективу. На повестку дня встала потребность в поиске новых оснований религиозного сознания. Они были выстраданы в течение нескольких столетий и утвердились в дезэтнизированном, монотеистическом, сотериологическом христианстве. Но для генезиса христианства необходима была более глубокая философская основа. Принципы сократовских школ, базировавшиеся на обобщении личного опыта, индивидуализированной чувственности, здесь были недостаточны. Требовалось перейти к обобщению культурно-исторического опыта, придать философским позициям универсально-космический смысл. Так начался переход киников к стоицизму, киренаиков – к эпикуреизму, а мегариков – к неоплатонизму.
Рациональная теология Аристотеля
Заложенную Платоном традицию рационально-понятийной реконструкции эллинской мифологии в эпоху заката поздней классики продолжил Аристотель. Он исходил из того, что предметом науки является все закономерное, причинно обусловленное, а предметом мнения все случайное, т.е. то, что является отклонением от целесообразности. Закономерное в объекте является предметом доказательного знания; а случайное лишь констатируется наблюдением и мнением. «О случайном, пишет Аристотель, нет знания через доказательство» [24. С. 308], т.е. науки, ведь наука «направлена на общее и основывается на необходимых [положениях]; необходимое же есть то, что не может быть иначе» [24. С. 312]. Наука – это знание, которое может быть доказательно организовано в системе логически следуемых выводов из некоторых самоочевидных предпосылок. Поскольку в мифологии есть закономерные стороны, наука о мифе имеет право на существование.
Аристотель окончательно разрывает с традицией антропоморфизации богов, заявляя, что подлинные боги ничего общего с образами народной мифологии не имеют. Он сближает миф, с одной стороны, с философским, а с другой стороны, с поэтико-эстетическим творчеством. По его мнению, мифы порождаются такими чертами человеческой природы, как удивление, подражание и удовольствие. Миф это первичное, упрощенное, недоказательное, необоснованное знание, что делает его более понятным для массового сознания, для толпы. В мифе много ложного, логических ошибок и попросту нелепостей, но они соответствуют общим требованиям, предъявляемым к художественному произведению. Они вызывают удивление, несут эстетическое наслаждение: «Сочинять чудесное надобно и в трагедии, но в эпопее еще охотнее допускается немыслимое, а они-то и есть главная причина чудесного… [А само по себе] чудесное приятно» [25. С. 675]. Вместе с тем в мифотворчестве есть свои закономерные стороны. Он усматривает их в событийной стороне мифа, в его сюжете. Поэтому он часто употребляет термин «миф» в значении фабула, сказание, сюжет: «Подражание действию есть сказание (mythos). Сказанием я называю сочетание событий» [25. С. 652]. Под наукой о мифе он понимает сбор и систематизацию мифологических сюжетов, в которых через отношения между героями, людьми, богами отражены обобщенные ситуации, события, устойчиво повторяющиеся, закономерные отношения между людьми.
Аристотель заложил основания фабульной мифографии – популярного в эллинистическо-римскую эпоху жанра античной филологии. Предмет фабульной мифографии – это, говоря современным языком, область архетипов культуры, в которой отражены некоторые глубинные закономерные связи природного и культурного в человеке. По сути, Аристотель является родоначальником науки об архетипах культуры.
Как же быть с образами мифологических богов? На каких путях следует искать «подлинную божественность»? По мнению Аристотеля, подлинная божественность лежит в области первопричин бытия, которые не даны чувственному восприятию и постигаются только разумом, мысленно, понятийно. И в таком своем качестве они является предметом особой науки – теологии. Божественные первопричины бытия, как и все остальные области мира (и движение светил, и строение тела всех живых и растительных существ, и устройство полиса и др.) вполне познаваемы человеком, ведь «бог и природа ничего не делают всуе» [26. С. 273]. Он придает теологии статус раздела онтологии (метафизики), науки о первопричинах бытия, которые постигаются рационально-понятийной деятельностью. Теологическое знание у него носит логико-доказательный характер[5]. При этом Аристотель сближает теологию еще и с космологией. Проблему «подлинной божественности» он решает в контексте логико-понятийного моделирования Космоса.
Аристотелевский Космос един и единственен, упорядочен, соразмерен и вполне определен; он ограничен в пространстве и бесконечен во времени, конечен и вечен. Космос никогда не рождался и никогда не погибнет, никогда не возникал и принципиально неуничтожим. За пределами Космоса чистое ничто, которое не может быть предметом познания: нельзя судить о том, чего нет. Аристотель не противопоставляет полностью профанное сакральному. Он переносит сакральные качества (бесконечное совершенное движение по идеальным окружностям, не требующее приложения силы и др.) на наблюдаемый Космос, приписывая их надлунному миру. Все движущиеся тела приводятся в движение каким-либо иным телом, и в свою движут другие тела. Чтобы избежать замкнутой на самое себя бесконечности, Аристотель вводит понятие перводвигателя, который есть одновременно и начало мира, и его первопричина. «[Первое] движущее есть необходимо сущее, и поскольку оно необходимо сущее, оно существует надлежащим образом, и в этом смысле оно начало» [27. С. 310]. Перводвигатель единственен, неподвижен и вечен: «...так как движущееся должно чем-то приводиться в движение, а первое движущееся – быть неподвижным само по себе, причем вечное движение необходимо вызывается тем, что вечно» [27. С. 312]. Он всегда равен сам себе, неделим, не имеет ни частей, ни величины [28. С. 262], находится за сферой неподвижных звезд[6]. Это наивысшая чистая форма, «форма всех форм», которая, являясь неподвижной, может быть только бестелесной, т.е. лишенной материи. Все эти качества являются по сути свойствами подлинной, а не мифологической, антропоморфной, божественности. Перводвигатель и есть подлинный Бог как «некая вечная, неподвижная сущность» [27. С. 306–307], которая необходимо «должна быть без материи» [27. С. 307] ибо вечное нематериально. Бог – это чистая нематериальная форма, которая может быть только действительностью, но никак не возможностью. («Материя» есть лишь возможность «формы»).
Таким образом, Бог является и первопричиной конечной цепи космического детерминизма, началом всех начал и причиной всех причин, Он – чистая форма и первая сущность, высшее, совершенное существо. Совершенство Бога проявляется в его духовности. В отличие от Платона, Аристотель не наделял духовность, мир идей («душ»), субстанциальностью[7]. Он исходил из того, что душа имеет основу в материи, она порождение живой телесности: «Душа есть первая энтелехия естественного тела, обладающего в возможности жизнью» [30. С. 395]. А высшей деятельностью души является мышление, которое всегда имеет свою цель, либо внешнюю (практическая мысль), либо внутреннюю – теоретическая мысль, созерцание.
В аристотелевском синтезе онтологии, космологии и теологии понятие созерцательности играет ключевую роль (такую как у Платона понятие Блага). Во-первых, созерцательности придается экзистенциальное значение. Созерцательность это блаженство, ведь она «отличается сосредоточенностью (spoydei) и помимо себя самой не ставит никаких целей, да и к тому же дает присущее ей удовольствие… самодосточность, наличие досуга и неутомимость (настолько это возможно для человека) и все остальное, что признают за блаженным» [31. С. 282–283], благодаря созерцательности в человеке «присутствует нечто божественное» [31. С. 283], Во-вторых, созерцание имеет и гносеологический смысл. Теория (θεωρία) – это прежде всего созерцание, рассмотрение, понимание мира не только во всем его чувственном великолепии, но и в сущностном единстве. Именно созерцание обеспечивает переход от чувственного к рациональному познанию, от единичного к общему, постижение общего. Общее (причины, формы, сущности вещей) непосредственное созерцается (усматривается) разумом. Поэтому у Аристотеля понятие это не результат развития когнитивного процесса от чувственного образа к абстрактной мысли, а инициирование созерцанием перехода понятия из его потенциального существования в реальное.
Таким образом, по Аристотелю, Бог как высшая действительность есть мышление о мышлении, «чистый» ум, обращенный на самое себя, абсолютно рефлексированное, самосозерцающее мышление. Бог это теоретический, созерцающий ум, направленный на самый совершенный предмет, которым является не нечто, существующее вне Бога, и даже не сам Бог, а теоретическая, т.е. философская, мысль.
Заключение
Аристотель завешает рациональную абстрактно-понятийную реконструкцию античной мифологии предельно обобщенным понятием о Боге. В его теологии олимпийский политеистический пантеон редуцируется до представления о Боге как единственном, вечном, неподвижном, неделимом, всегда равным себе, бестелесном, ничем другим не приводимым в движение, началом всех начал и причиной всех причин. Такой Бог – чистый теоретик и совершенный философ, созерцающий собственное мышление.
Вместе с тем аристотелевской теологии присущи значительные элементы нерефлексируемой субъективности. Это остаточные черты мифологизма; гилозоические элементы, наделение Космоса красотой и любовью «низшего к высшему», одушевлением, этическими и эстетическими признаками и др. В них проявлялся ценностно-смысловой полюс поздней античной теологии, выражавший личностное отношение к сакральному миру, его сущностному единству на основе Созерцания. В эпоху раннего Средневековья это препятствовало осознанию специфики аристотелевской теологии христианскими мыслителями. Боэций, Дионисий, Эриугена и др. понимали ее в духе неоплатонизма, сближая с воззрениями Прокла и Плотина. И только когда в Европу (благодаря переводам с арабского, затем с древнегреческого языков) начал приникать аутентичный аристотелизм (XII–XIII вв.), христианские теологи с удивлением выяснили, что Аристотель уже давно создал абстрактно-понятийную монотеистическую модель сакрального мира. Им остается только согласовать две теологические позиции, христианскую и аристотелевскую (Фома Аквинский). Но это оказалось не просто, ведь несовпадение теологий определялось наряду с другими факторами (уровень мышления, мировоззренческие позиции и др.), и различием их мифологических истоков – эллинской (олимпийской) и библейской (ветхозаветной и новозаветной) мифологий.
1 Предыдущие статьи в авторской серии публикаций по теологии эллинской религии см. [1–4] и др.
2 Начало эпохи эллинизма относят или к 337 г. до н. э. (дата покорения Эллады Македонией), или к 323 г. до н. э. (год смерти Александра Македонского).
3 После битвы при Херонее (338 г. до н. э.), в ходе которой вооруженные силы Филиппа II Македонского разгромили армию альянса полисных государств, было достигнуто соглашение об общегреческом мире, положившее начало объединению эллинских полисов.
4 На что Демосфен с иронией заявил, что «Александр тоже мог бы быть сыном Зевса и Посейдона, если бы захотел» [14. С. 31]. Вместе с тем попытки Александра распространить среди греков и македонян персидский протокол почтения царю («падение ниц», проскинесис) отклика у них не нашел.
5 Так, Аристотель формирует проблематику логических «доказательств бытия Бога», которая обладала высоким статусом в христианской теологии.
6 Правда, Аристотель не избежал противоречий между теологией и космологией. Концепция перводвигателя была им разработана раньше модели Космоса как системы гомоцентрических сфер. Количество основных и компенсирующих сфер Аристотель оценивал величиной 55. (Но еще в древности было замечено, что он ошибся в подсчетах: сфер получалось 49.) [29. P. 127–128]. По сути, каждая такая сфера предполагала существованием своего перводвигателя, можно сказать, своего «подлинного бога».
7 Это одна из причин неприятия аристотелизма патристикой и схоластикой. Ведь если душа не субстанциальна, то как она может быть бессмертной?
About the authors
Vyacheslav M. Naidysh
RUDN University
Author for correspondence.
Email: v.naidysh@bk.ru
SPIN-code: 1852-0407
DSc in Philosophy, Full Professor of the Department of Ontology and Theory of Knowledge, Faculty of Humanities and Social Sciences 6 Miklukho-Maklaya St., Moscow, 117198, Russian Federation
References
- Naidysh VM. Hellenic Theology of the Epoch of High Classics. RUDN Journal of Philosophy. 2023;27(1):79–93. (In Russian). doi: 10.22363/2313-2302-2023-27-1-79-93 EDN: PDLULR
- Naidysh VM. Hellenic theology of early classical period. RUDN Journal of Philosophy. 2020;24(4):669–680. doi: 10.22363/2313-2302-2020-24-4-669-680 EDN: IJCCAF
- Naidysh VM. Mythology and theology. Article two. RUDN Journal of Philosophy. 2019;23(2):210–221. (In Russian). doi: 10.22363/2313-2302-2019-23-2-210-221 EDN: ONAWLI
- Naidysh VM. Philosophy of mythology. From antiquity to the era of Romanticism. Moscow: Gardariki publ.; 2002. (In Russian).
- Kagan D. Peloponnesian war. Moscow: Alpina non-fiction; 2023.
- Welskopf EC. Hellenische Poleis. Kriee – Wandlung – Wirkung. Bd. 1–4. Berlin: Akademie-Verlag; 1974. doi: 10.1163/9789004674219
- Rhodes PJ. Polis and its alternatives. In: The Cambridge Ancient World. The Fourth Century BC. Vol. VI. Moscow: Ladomir publ.; 1994. P. 673–705. (In Russian).
- Habicht ChH. Athen. Die Geschichte der Stadt in hellenistischer Zeit. Moscow: Ladomir publ.; 1999.
- Zelinsky FF. Hellenic religion. Minsk: Econompress; 2003. (In Russian).
- Naidysh VM. Mythmaking in the Activities of Consciousness. Voprosy Filosofii. 2017;(5):26–34. (In Russian). EDN: YPQETV
- Polito JJ. Greek Art: from Classical to Hellenistic. In: The Cambridge Ancient World. The Fourth Century BC. Vol. VI. Moscow: Ladomir publ.; 2017. P. 766–780.
- Mikalson JD. Athenian Popular Religion (405–323 B.C.). Chapel Hill: University of North Carolina Press; 1983.
- Wilamowitz-Moellendorff U. von. Der Glaube der Hellenen. In 2 volumes. Berlin: Weidmannsche Buchhandlung; 1932.
- Hypereides. Speech’ against Demosthenes about Herpal’s money. Article 31. Gluskina LM, transl. Available from: https://vk.com/wall-36850439_33712?ysclid= maec7m8cu9758346963 (accessed: 01.11.2024). (In Russian).
- Plato. The Sophist. An essay in four volumes. Vol. 2. Saint Petersburg: Publishing House of St. Petersburg University; 2007. (In Russian).
- Nakhov IM. An essay on the history of Cynic philosophy. An anthology of Kinism. Fragments of the writings of Cynic thinkers. Moscow: Nauka publ.; 1984. P. 5–52. (In Russian).
- Diogenes. Letters. In: An anthology of Kinism. Fragments of the writings of Cynic thinkers. Moscow: Nauka publ.; 1984. P. 218–251. (In Russian).
- Xenophon. Memories of Socrates. Moscow: Nauka publ; 1993. (In Russian).
- Losev AF. History of ancient Aesthetics. Vol. 2. Sophists. Socrates. Platon. Moscow: Iskusstvo publ.; 1969. (In Russian).
- Diogenes Laertius. About the life, teachings and sayings of famous philosophers. Moscow: Mysl’ publ.; 1979. (In Russian).
- Sextus Empiricus. Against scientists. In: Works in 2 volumes. Vol. 1. Moscow: Mysl’ publ.; 1976. P. 7–206. (In Russian).
- Antisthenes. Additions. In: An anthology of Kinism. Fragments of the writings of Cynic thinkers. Moscow: Nauka publ.; 1984. P. 122–132. (In Russian).
- Dion of Prussia. Speeches. In: An anthology of Kinism. Fragments of the writings of Cynic thinkers. Moscow: Nauka publ.; 1984. P. 315–347 (In Russian).
- Aristotle. The Second Analysis. In: Works in 4 volumes. Vol. 2. Moscow: Mysl’ publ.; 1978. P. 255–346. (In Russian).
- Aristotle. Poetics. In: Works in 4 volumes. Vol. 4. Moscow: Mysl’ publ.; P. 645–680. (In Russian).
- Aristotle. About heaven. In: Works in 4 volumes. Vol. 3. Moscow: Mysl’ publ.; 1981. P. 263–378. (In Russian).
- Aristotle. Metaphysics. In: Works in 4 volumes. Vol. 1. Moscow: Mysl’ publ.; 1975. P. 63–368. (In Russian).
- Aristotle. Physics. In: Works in 4 volumes. Vol. 3. Moscow: Mysl’ publ.; P. 59–262. (In Russian).
- Duhem P. Le systeme du monde. histoire des doctrines cosmologiques de Platon à Copernic. Vol. 1. Paris: Hermann; 1958.
- Aristotle. About the soul. In: Works in 4 volumes. Vol. 1. Moscow: Mysl’ publ.; 1978. P. 369–450. (In Russian).
- Aristotle. Nicomachean ethics. In: Works in 4 volumes. Vol. 4. Moscow: Mysl’ publ.; 1983. P. 53–294. (In Russian).
Supplementary files