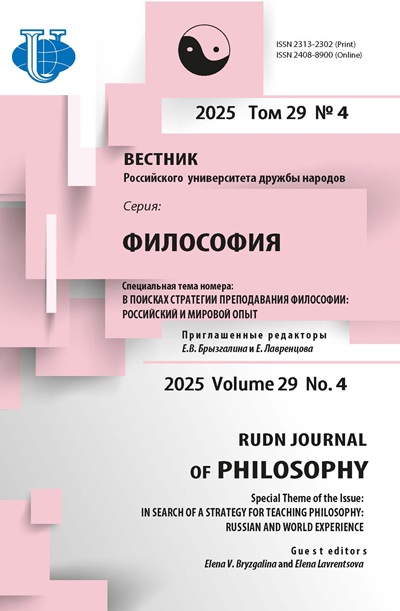I. KANT AND RUSSIAN SYMBOLISM: CRITICISM OF THE «ENCHANTED DISTANCE»
- Authors: Romanov D.1
-
Affiliations:
- Peoples' Friendship University of Russia
- Issue: Vol 27, No 4 (2023): PHILOSOPHY OF CONSCIOUSNESS AND NEUROSCIENCE
- Section: HISTORY OF RUSSIAN PHILOSOPHY
- URL: https://journals.rudn.ru/philosophy/article/view/36604
- ID: 36604
Cite item
Full Text
Abstract
The article explores the ways of Kantianism reception in Russian symbolism philosophy. The emphasis is made on the philosophical systems of A. Bely, V.I. Ivanov and P.A. Florensky as the most holistically reflecting the development of epistemological, aesthetic, and general theoretical tendencies of the symbolist school, whose representatives are united by the similarity of critical positions regarding the teachings of I. Kant, which indicates the homogeneity of symbolist philosophy itself in its relation to transcendental idealism. The Kantian influence is analyzed through understanding the symbolist philosophy of culture and the influence of neo-Kantianism, identifying the foundations of religious and mythological metaphysics and solving the problem of antinomianism in the theory of cult as a space of religious creativity. Evolution peculiarity of Kantian influence on symbolism is explicated from the absolute acceptance of the criticism concepts of pure reason and the ability of judgment to their complete denial and search for the possibility of resolving antinomianism through the specific mission of social aesthetics. It is argued that with Kant's strong influence on the development of symbolist aesthetics, the symbolists themselves are looking for ways to bridge the gap between the world of noumenons and phenomena in it, highlighting a special role for theurgic creativity. It is concluded that the symbolist criticism of Kantianism is generally religious and mystical-intuitionistic in general, justifying the possibility of comprehending the noumenal world as a principle of spiritual making.
Full Text
Рецепция кантианства в философии русского символизма
Проблема преемственности является одним из ключевых вопросов в исследовании русской философии как в самой России, так и зарубежом. Понимание природы ее интегративного потенциала в отношении концепций западноевропейской мысли, их адаптивности и комплементарности требует выдвижения различных гипотез, подчас крайне разнящихся. Во-первых, можно встретить мнение, что русская философия чрезмерно эклектична и несамостоятельна вследствие превалирования в ней историцизма [1. C. 84]; во-вторых – утверждения о ее полной самобытности в связи с восточно-христианской ориентацией и подъемом национального самосознания в период Отечесвтенной войны 1812-го г., как раз когда в Европе складывались классические философские учения [2]; в-третьих – понимание ее генезиса как умеренно и органически заимствующей, критически перерабатывающей чужие концепции телеологической и теологической системы. Данное исследование методологически придерживается третьего подхода, поскольку русский символизм как явление художественно-литературное, безусловно, уходит корнями в западноевропейский символизм и романтизм (Ш. Бодлер, С. Малларме, И. Гете и тд.), шеллингианство, ницшеанство, античную драму, немецкую мистику, но в качестве философской школы, вырабатывающей глубинные основы миропонимания, утверждается вполне самобытным. Две этих составляющих – литературно-эстетическая и философски-мировоззренческая, апеллируя к российскому религиозному наследию, дают уникальный синтез русского символизма. Исключения не составляет и рецепция учения И. Канта.
В среде исследователей русской мысли Серебряного века распространены мнения следующего характера: «Конечно, религиозным философам России конца XIX – начала XX в. было свойственно отрицательное отношение ко всей западноевропейской философии в целом, поскольку она символизировала для них победу рационализма над верой, но все же отдельные положения гегелевской и шеллинговской систем нередко вызывали благоговейное восхищение, тогда как философия Канта была объектом <…> благоговейного ужаса» [3. C. 186]. Однако, как будет показано далее, «западная философия в целом» явилась плодотворной почвой для развития мистико-интуитивного аспекта символизма, а кантианство, во-первых, было глубоко им осмысленно и послужило преодолению догматизма традиционной каноничности, во-вторых, поставив проблему антиномичности тотальных идей, стимулировало философствующих представителей символистской школы искать и находить с определенной долей успеха выход из гносеологического тупика. И «благоговейный ужас» часто оборачивался утонченной критикой и беспристрастным обнаружением слабых мест – например, в трудах Н.О. Лосского, С.Л. Франка и П.А. Флоренского. Иными словами, через критику кантианства символисты выстраивали метод системы выходящего за пределы логики в примирении противоречивых положений трансрационального [4. С. 254] и универсального познания, где рационализм вовсе не исключается, как это утверждается в вышеприведенной цитате, но позволяет конституировать ступени мифо-эпистемологической иерархии для восхождения к истине о самой реальности, уже не схватываемой рационально.
У поэта-символиста А.А. Блока есть стихотворение «Иммануил Кант» (1903), где в форме довольно злой иронии автор описывает пугливое немощное существо, предавшееся эскапизму и неспособное ко встрече с реальностью в любом ее объективном и идеальном виде. Отсутствие какой-либо интенции к творчеству как онтологическому акту, Блок выражает так:
Могу увидеть сладкий сон,
Но я себя не потревожу [5. C. 128]
И хотя далее речь пойдет не о Блоке, но все же кантианские (или, скорее, антикантианские) мотивы проявляются в его поэзии с особой изощренностью, что может свидетельствовать о силе влияния критической философии на умы русской интеллигенции Серебряного века. Так в «Незнакомке» (1906) те самые «глухие тайны», порученные герою и «странная близость» к объекту этих тайн сопровождаются ощущением дистанции, непреодолимостью своей вызывающей экзистенциальный трепет и крайний интерес – так появляется «берег очарованный» и «очарованная даль». Известно, что Блок был прекрасно знаком с гносеологией Канта и совершенно не принимал ее, являясь сторонником мистического интуитивизма, считая поэтический дар инструментом опытного постижения того региона реальности, названной Кантом трансцендентным миром [6. C. 64]. И все же, как и остальные символисты и близкие к ним мыслители, Блок был крайне озадачен кенигсбергским философом, приковавшим внимание всей интеллектуальной России, о чем свидетельствуют его статьи и стихотворения.
Однако исследователь русского неокантианства Н.А. Дмитриева, посвятившая большую часть своего фундаментального труда рефлексии трансцендентального идеализма Канта и его последователей в отечественной мысли Серебряного века, считает, что интерес к кантианству в России возник благодаря неокантианству, названному Андреем Белым «вторым пришествием Канта» [7. C. 175], что послужило стимулом рецепции идей Шопенгауэра, Фихте, новому прочтению Ницше и даже философии Вл.С. Соловьева. Но интерес этот быстро был исчерпан, а сам критицизм начал переосмысляться через мистицизм и интуитивизм, объединенные в символизме [8. C. 333]. Необходимо отметить, что именно через неокантианство к интерпретации Канта подходят и символисты, среди которых Дмитриева особо выделает поэта и литературоведа В.Я. Брюсова, философствующего композитора А.Н. Скрябина и А. Белого. Именно Белый оставил самый значительный след в символистской философии, если не считать традиционно не относящихся к литературной школе символизма философов П.А. Флоренского и А.Ф. Лосева, чья теория символа, тем не менее, сама по себе вносит неоценимый вклад в философию XX в.
Между «чистыми» и «поэтизирующими» философами-символистами стоит фигура Вл.С. Соловьева, который, будучи наиболее значительным представителем русской философской традиции и одновременно предтечей литературного символизма, в энциклопедической и вполне хвалебной статье о кенигсбергском философе пишет: «Кант не открыл для ума новых миров, но поставил самый ум на такую новую точку зрения, с которой все прежнее представилось ему в ином и более истинном виде, – но далее подчеркивает, – за ним остается заслуга великого возбудителя, но никак не решителя важнейших вопросов» [9. C. 441]. Это последнее замечание Соловьева и явилось своеобразной установкой символизма – на преодоление критических сомнений в построении металогической системы. Таким образом подтверждается характер влияния кантианства на русский символизм, предполагающий стимулирующий эффект в выработке онтологических и гносеологических стратегий в постижении «очарованной дали».
В научной среде русский символизм традиционно соотносится с именами А. Белого и Вяч.И. Иванова. Однако как философское течение он немыслим без работ П.А. Флоренского, самого себя назвавшего убежденным символистом, и, как пишет С.С. Хоружий: «В более существенном смысле близости творческих позиций и совместной разработки определенного миропонимания Флоренский вместе с Вячеславом Ивановым, вместе с Андреем Белым прочно принадлежит к философскому крылу русского символизма» [10. C. 525]. У трех названных мыслителей рецепция идей Канта происходит по-своему, интегрируясь в общетеоретические построения учения о символе, и каждый вырабатывает свою критику кантианства. Белый совершает это через философию культуры и неокантианство, Иванов – через религиозно-мифологическую метафизику, Флоренский старается решить проблему антиномичности, отчасти тем же религиозным миропониманием, отчасти, опираясь на современные ему естественно-математические методы. Предмет данного исследования будет раскрыт через анализ воззрений этих трех мыслителей.
Кантианская эволюция Андрея Белого
В своих воспоминаниях Андрей Белый признается, что на ранних этапах творческого развития, когда через полемику с различными философскими системами им оформлялась теория символизма, его больше всего беспокоило именно учение Канта. Первоначально он им восторгался, и в 1904-м г. Белый напишет: «Если в настоящую минуту возможно говорить об освобождении духа от вековых кошмаров, то, конечно, этим мы обязаны Канту» [11. C. 20]. В своей статье он утверждает заслугу кенигсбергского мыслителя в разведении эмпирико-рационалистического догматизма и мистицизма, феноменологическим выражением которого явился символизм. Кант для Белого, прежде всего, мистик, превративший трансцендентное в трансцендентальное, и само его учение делает символическое мышление возможным в принципе. «Мы – символисты – считаем себя через Шопенгауэра и Ницше законными детьми великого кенигсбергского философа» [11. C. 21], – продолжает Белый свою в целом панегирическую статью. Переход от критицизма в более действенную философию, в синтез рассудочного и чувственного познания, т.е. в символизм как «жизненный метод» совершается через посредство рефлексии кантианства Шопенгауэром с его учением о ноуменальной сущности воли, ограничивающий непостижимый мир в иерархические системы идей, становящихся как бы субстратом для символов.
Однако спустя несколько лет Э.К. Метнер в письме своему другу Белому пишет следующее: «Вы сами позволили себе ряд эксцессов против ныне Вам ненавистного кантианства» [12. C. 394]. Почему же, вдруг, «ненавистного»? Чем же вызвано такое резкое отторжение ранее почитаемого учения? Для этого следует обратиться к статье «Круговое движение» (1912), о которой и говорит Метнер, и где Белый, воспевающий ницшеанство, одновременно упрекает Канта в возвращении к схоластике и отрыве от живого знания, смысл которого, с точки зрения Белого, в постоянном развитии, движущей силой которого выступает философия. История философии, согласно Белому, вместо того, чтобы следовать гегельянской спирали развития, замыкается в круг дурной бесконечности, где начало развития западноевропейской мысли, эпоха схоластики, совпадает с ее концом, кантианством – и если для первой субъектом истории был Бог, то для второго Бог помещен в субъект, и сам человек берет на себя атрибуты божества. Подспудно здесь наблюдается культурологический и богословский контекст полемики с протестантизмом и свойственным ему индивидуализмом, который отрицается стремлением символистов к онтологии соборности. Впрочем, философское прочтение данной статьи осложнено нарочито витиеватым языком писателя, стилизованным под Ницше, воинствующему настроению которого автор выражает явные симпатии. Поэтому в том же сдвоенном номере «Трудов и дней», где вышла статья Белого, неокантианец Ф.А. Степун дает исчерпывающую, хотя и сдобренную пиететом к литературному гению, критику «горячим» выпадам символиста. Обвинения неокантианцев в отрыве от Канта, а самого Канта в непринятии культуры, существующей объективно и априорно, и задающей начальные условия постижения мира, то есть позволяющей иметь достоверное знание о нем, Степун опровергает, сводя их к тому, что «поэты издавна врачуют свои души тем, что бессознательно проецируют происходящее в них во внешнюю действительность, в действительность окружающего их мира» [13. C. 85], предостерегая от солипсизма, который просматривается в прозе Белого (романы «Петербург», «Москва»). И заканчивает замечанием: «Вы ежегодно меняете свою философскую точку зрения» [13. C. 86]. Можно предположить, что философия Белого антисистемна, и является скорее метафизической драмой, нежели структурированной дискурсивностью. Драма эта направлена на преодоление солипсизма художественной интуицией и в основу своего развития кладет экзистенциал озабоченности инаковостью Другого, данного в бесконечном многообразии опыта, но сводимого к всегда одинаковому ряду схем, моделей или символов. Фигура Другого сводится Белым всегда к авторскому крайне субъективному образу, зачастую ничего общего не имеющего с оригиналом, на что ему часто указывали. В этом Белый выступает своеобразным «двойником» Канта, разве что ушедшим еще дальше в солипсизм. Степун сочувствующе характеризует метафизику Белого как замкнутую систему, не способную выйти за свои пределы для философски органичного развития, и указывает на «замкнутость созданного Белым мира в одиноком “я”, без доступа к сотворенной Богом действительности» [14. C. 304]. В гносеологии Белого достоверное знание уже находится в опыте, для него только надо сконструировать новый язык, но реальность имманентна субъекту, экстериорно плоска. И остается тревожность за то, что эта очевидная экстериорность недоступна для другого, то есть имманентная опыту полнота реальности всецело открыта только в пределах индивидуального Я. Для Белого последнее есть опыт постоянной самовысказываемости, опыт, который стремится быть высказанным каждый момент времени целиком, передан другому и недискурсивно открыт для него. И так как, следуя кантианской логике, время всегда опережает его, поскольку оно – чистая форма для содержимого, которым является опыт, эта логика Белым не принимается. Отсюда упование на метод описания художественной биографии героя как самоописания, «создания самого себя как духовной инстанции» [15. C. 213] в символическом пространстве, на что его ориентировала антропософия Р. Штейнера, ставшая для него прибежищем и исходом метафизических исканий. В статье, посвященной памяти Белого, Степун говорит об этом так: «Всю свою жизнь вводил Андрей Белый под купол своего Я в панорамы своего сознания своих ближайших друзей в качестве моментов внутреннего баланса, моментов взвешивания и выверения своего лишенного трансцендентного центра миросозерцания и мировоззрения… Но фехтует Белый на летающих трапециях не с реальными людьми и врагами, а с призраками своего собственного сознания, с сличенными во всевозможные “ты” и “они” моментами своего собственного монадологически в себе самом замкнутого “я”» [16. C. 225].
Гносеология Белого опирается на интуитивизм, при котором истинное знание постигается чувством полноты реальности, имманентным самой жизни «инстинктом истинности» [17. C. 56]. Для раннего Белого, приверженца неокантианства и панлогизма, основой любого познавательного акта является ценность самого познания. Значимость философских систем «не в решении познавательных проблем, а в творческом созидании; все эти системы для нас – способы символизировать мир ценного» [18. C. 41]. Ценность познания равна ценности творчества, прочие философские системы он классифицирует по степени преобладании в них телеологических установок по методу Г. Риккерта. И все же Дмитриева, исследуя влияние марбургской школы на символистов, вполне справедливо заключает: «Белый в 1920 г., по-видимому, вне всякого идейного влияния со стороны позднего неокантианства, делает набросок своей собственной философии “символических форм” – философии культуры» [8. C. 369], что указывает как на опосредованное влияние Канта, так и на органичность вхождения элементов неокантианства в учение Белого.
В период освоения учения Штейнера, по мнению ряда исследователей, Белый через антропософию углубляет понимание кантианства: «То, что Белый находил столь привлекательным в доктрине Штайнера, было именно ее “немецким” акцентом на мозговой элемент ясновидения и ее стремлением, соответствовать требованиям кантианства» [19. P. 102–103]. Штайнеру Кант крайне важен, он спорит с ним в вопросе существования неиндивидуалистической истины, и через эту критику строит свое учение о духовном мире как вместилище истины. Отсюда можно заключить, что Кант и Белым на тот момент воспринимался зачинателем традиции, продолженной Гете и Штейнером. Но если Гете обратился к миру феноменов, открыв в них символическое измерение, то Штейнер отказался от присущего Канту и, в меньшей степени, Гете номинализма в пользу синтетического учения о духе [20. P. 210–212].
В те годы свет увидел главный роман Белого – «Петербург», где находим такую характерную формулу, выраженную, что крайне важно, авторской речью: «Не мешает же напомнить читателю вид той самой наружности <отца главного героя> в самых общих чертах, потому что мы знаем: каков видимый вид, такова же и суть» [21. С. 189]. Не стоит, тем не менее, отбрасывать возможность того, что подобное утверждение имманентности сущности или ноумена явлению может являться провокацией, хотя и в таком случае антикантианская интенция остается актуальной. В «Петербурге» кантианство сталкивается с буддизмом, учение которого о шуньяте («пустоте») сводится к отсутствию вообще какой-либо ноуменальной сущности нашей реальности. Наконец, в «Самосознающей душе», своем последнем и наиболее системном философском труде, Белый окончательно рвет с Кантом. Разрыв происходит по трем линиям – гносеологической, методологической и психологической. Гносеологическая линия заключается в утверждении отсутствия дефиниции сущности познания как акта: «Кант нам ставит вопрос, как возможно познание; и понятия познавания не конструирует, а – берет на прокат у философского догматизма… Кант не вскрыл нам первичную данность познания, не указал нам на связь представлений о должном познании с формами данных познаний; не спрашивает он критически, что есть познание: не вскрывает нам данность; и потому-то не конструирует познавательного идеала» [7. C. 13–14]. Методологическая линия критики сводится к представлению Канта как «требовательного контролера» и «юриста, адвоката в философии» [7. C. 171]. Белого возмущает доминирующая роль критицизма в философии: «Хочешь не хочешь, с Кантом согласен, или нет, – поступай в школу к Канту; учись спорить с Кантом при помощи Канта, терминологией Канта… когда даже спор с ним – “от Канта и в Канте”… И тогда получали на паспорте визу: “кантианизирован”» [7. C. 174]. Наконец, психологическая линия связана с коперниканским поворотом, который в сущности своей есть обезличивание человеческой природы. Чистый субъект отвлечен от реальности и невозможен в индивидуальностях, поскольку они – разнообразия форм, а не одна всеобщая форма. Значит, либо личностное бытие по Канту также невозможно, либо проблема солипсизма не решена, либо онтология Я совершенно не связана с гносеологией, ведь «все иллюзии личности – только продукт раздражения органов чувств, затемняющих поле сознания; самосознание, или синтетическое единство познания – трансцендентальная апперцепция в мире рассудка, или “Я – равно Я”» [7. C. 183]. Чистая форма без содержания, без опыта, есть фикция, поскольку сознавать – уже значит сознавать что-то, и Белый настаивает на имманентности знания об объектах, выступая на стороне интуитивизма.
Можно сказать, что «поздний» Белый сам совершает круговое движение, возвращаясь к своему раннему учителю, Соловьеву, который в «Критике отвлеченных начал» (1880), между прочим, отзывается о Канте в подобном же ключе: «Следует провести далее и тем самым смирить горделивую аналогию, которую Кант проводил между Коперником и собою: он, Кант, как некий Коперник философии, показал, что земля эмпирической реальности, как зависимая планета, вращается около идеального солнца – познающего ума. Однако астрономия не остановилась на Копернике, и теперь мы знаем, что центральность солнца есть лишь относительная и что наше светило имеет свой настоящий центр где-то в бесконечном пространстве. Так же и кантовское солнце – познающий субъект – должно быть лишено не подобающего ему значения. Наше я, хотя бы трансцендентально раздвинутое, не может быть средоточием и положительною исходною точкой истинного познания, причем философия имеет перед астрономией то преимущество, что центр истины, находящийся не в “дурной”, а в хорошей бесконечности, может быть всегда и везде достигнут – изнутри» [22. C. 822]. Так задается общая всем последующим символистам установка гносеологического сверхперсонализма (хоровая личность у Иванова, коллективное Я у «позднего» Белого, соборный субъект Флоренского, Франка, С.Н. Трубецкого), начало философской традиции, в котором видны контуры единой школы символизма с собственным методом осмысления онтологических проблем личности и знания. По Соловьеву, в личностном начале снята противоположность субъекта и объекта, поэтому субъектоцентричность трансцендентального идеализма выступает лишь предварительной установкой, одним из аспектов целостного понимания природы личности, чему свидетельством выступают антиномии свободы и необходимого существа. Соловьев в антитетической удвоенности абсолютных идей усматривает односторонность кантианства, которое следует восполнить интуитивистским учением, за что в системе его цельного знания отвечает мистика, и с чем согласен Белый.
Посткритическая реставрация религиозного символизма у Вяч.И. Иванова и П.А. Флоренского
Хотя Вяч.И. Иванов, будучи выдающимся ученым и интеллектуалом своего времени, был прекрасно знаком с системой Канта, но характер его философии никак нельзя назвать критическим – он, скорее, проективный, направленный на обоснование будущего социокультурного устройства всечеловеческой хоровой жизни по законам искусства. Иванова, прежде всего, интересуют проблемы искусства и творчества, но было бы неверным сводить его полемику с Кантом только к эстетическому аспекту. Для первого творчество – основная категория онтологии, для второго – теории искусства. Иванов утверждает односторонность кантианской концепции возвышенного, и предлагает рассматривать эстетику как категориальный инструментарий в обосновании религиозной онтологии. Отсюда такое внимание к концептам драмы, пафоса, хора судьбы, личности и мифа. Эстетическое и сотериологическое разводится Ивановым довольно слабо. А ориентация на античную трагедию сближает его с Р. Вагнером и, соответственно, А. Шопенгауэром, но это сближение общее для русского символизма в целом, и системы самих названых мыслителей укоренены в кантианстве. Отличие в том, что в этих системах чувственность не отвлекает от познания истиной реальности предметов, но, напротив, служит единственным мостом к ней. Помимо мира вещей-в-себе и мира феноменов Иванов утверждает существование онтологического региона явлений-символов. В отличие от первых двух, явления-символы и не полагаются возможными только в трансценденции, и не даны в ощущениях – они продуцируются теургическим сознанием. Они составляют особый регион реальности, где ноумены обретают абсолютное смысловое содержание, выступая как явления, т.е. явленности в качестве органично-динамического «зрелища». Именно поэтому Иванову важен театр (от греч. θεάομαι – «показывать») как метод показывать и созерцать явления-символы в хоровом действии. Создающий театральное зрелище художник-экстатик, необходимый для появления хорового субъекта познания, при описании истиной природы вещей должен, по Иванову, восходить (ἀναβαίνω) к всеединому символу (σῠμβάλλω[1]), где познание мистично и невозможна какая-либо дискурсивность, а затем нисходить (καταβαίνω), оформляя пережитое в понятия, продуцируя все новые и новые символические системы «…пока в акте нового прорыва к той же реальности не будет открыто о ней новое знание более высокого уровня» [23. C. 134]. Искусство, религия и наука в ее гносеологическом аспекте – это один и тот же способ познания и практики, некогда зарожденный в мистериальном прадионисийском культе и сполна осуществленный в античном театре, а теперь реанимированный в символистской философии через синтез христианства и экстатического действа, для понимания реальности которых требуется дескрипция вещей-символов. В эстетике Иванова они названы «аспектами»: «“Аспекты” предстают пред нами третьим царством, наряду с вещами в себе и явлениями» [24. C. 284]. Пути рецепции кантианства Ивановым через введение этого третьего региона реальности описана Л.А. Калинниковым, в целом можно согласиться с его выводами, дополнив их философско-религиозным содержанием.
Калинников исходит из важности утверждения Канта о том, что работа символизации, расширяющая сферу эмпирически познанного мира, продуктивна, и в этом заключено существенное сходство трансцендентального идеализма с реалистическим символизмом Иванова. Два инструмента познания, всецело обязанные этому принципу – религия и искусство. «Религиозное использование механизма символизации, выросшее в традицию и закрепленное религиозно ориентированным искусством, было принято и представлено Кантом как частный случай универсального для совершенствования развивающейся культуры способа мышления. Этот универсальный способ и стал началом нового, свободного и универсального символизма, с которым поневоле столкнулся традиционный художественно-религиозный символизм» [24. C. 291]. Иванов различает два вида символизма – идеалистический и реалистический. Первый через творческую силу воображения присваивает вещам-в-себе субъективное описание, разворачивает их в бесконечные ряды мифологем, реферирующих друг друга и тем самым удваивает сущности. Для реалистического символизма, которому Иванов и отдает предпочтение, «реализм <выступает> не только как эстетическая норма, но и как гносеологическая основа миросозерцания» [25. C. 547], и символ тут – не выделение общеродового признака серии явлений, но форма созерцания самих явлений в их индивидуальной данности. У Канта также находим отождествление реалистического искусства как высшей его формы с природой: «Природа прекрасна... если она походит на искусство, а искусство может быть названо прекрасным только в том случае, если… оно… кажется нам природой» [26. C. 322]. Реализм, сливающийся с миром, постулирующий его законы, отражающий в чувственно-эстетическом опыте общности свидетельствует о наличии таких общностей как синтезов в априорных установках. Однако Кант не апеллирует в данном случае к мистической природе этих общностей, которые Иванов кладет в основу реалистического символизма. Мистическим такой символизм делает, по Иванову, утверждение иерархии символов, на вершине которой находится уже не частный индивидуальный, а абсолютный символ, forma formans, постижение которого дано в металогическом акте соборного творчества, когда всеобщее познается всеобщим. «Реалистический символизм раскроет в символе миф, – пишет Иванов, – Только из символа, понятого как реальность, может вырасти, как колос из зерна, миф. Ибо миф – объективная правда о сущем» [25. C. 554]. В этой мифоцентричности Иванов стремится преодолеть субъективный идеализм кантианства. Миф, с точки зрения Иванова, лежит в основе описания реальности, но для мифологического сознания неверно представление об изолированном в мире своего опыта субъекте, не имеющем доступа к сути вещей. В религии личности как высшей форме мифоцентричности, происходит манифестация тотальной имманентности – присутствие Другого в индивидуальном Я. Эта манифестация происходит через творческое поэтическое усилие, вызывающее экстатическое2 переживание. «Экстаз есть раскрытие антиномии личности; и только тогда мы вправе утверждать, как совершившийся факт, религию в смысле душевного события, когда нам предстоит наличность внутреннего опыта, раскалывающего наше я на сферы “я” и “ты”» [27. C. 264]. Таким образом, Иванов преодолевает крайний индивидуализм, солипсизм и социальную атомизацию, к которой, по его мнению, может привести отвлеченный субъективизм кантианства. Для Иванова мир природы есть единство символов, данных художнику-теургу и транслируемых им, и совершенное искусство есть осуществление религиозного делания в актах этой ретрансляции. Для Канта же мир природы есть хаос, данный в ощущениях и упорядочиваемый человеческой субъективностью, в процессе чего эксплицируются общие принципы устройства этой субъективности. Но такой путь, с точки зрения Иванова, приводит философию к генерализации личности, отказу от свободы в пользу объективного закона. Социальная эстетика Иванова показывает, что любая общность возможна лишь через глубинные эмпатические (со-страдательные) практики преодоления этого закона в пользу свободы, понимаемой как человеческое достоинство. Оно реализуется, когда зрители театра образуют одно соборное тело в момент катарсиса при гибели героя, дерзнувшего пойти против мировой необходимости. В пределе такую свободу, отождествленную с социальностью (в экклесийно-соборном понимании общества), дает жертва Христа, которую Иванов понимает или мифоцентрично, проводя прямые аналогии с жертвой Диониса, или драмацентрично по мистериальной модели аттического театра.
Позиция Иванова в вопросе познания ноуменального мира через творчество близка П.А. Флоренскому, который в 1909 г. пишет: «Антиномии – это сложение оружия Кантом. Обессиленный внутреннею борьбою, он примиряется наконец с сосуществованием двух противоречащих учений (рационализм и эмпиризм) и делает из признания в своем бессилии особый отдел “Критики чистого разума”» [28. C. 18–19]. Флоренский не только не принимает антиномической природы разума как окончательно данной, но и критикует сам метод Канта. Во-первых, указывая на недоработку в дифференциации антиномий, он утверждает, что Кант в этом не дошёл до конца, и следовало бы разделить антиномии на две математические (протяженность в пространстве и времени) и четыре динамические (конечность и бесконечность по массе, конец и начало причинности в модальностях времени). Во-вторых, Флоренский упрекает Канта в том, что сама вещь-в-себе у него нигде не входит в круг доказательства антиномичности, и как инструмент берется произвольно. Это сближает позиции Флоренского и Белого, пытавшегося схожим образом выявить слабое место кантианского гносеологического аргумента. В-третьих, критике подвергается и метод вывода самих антиномий: «В антиномиях сталкиваются, следовательно, разные функции сознания, а вовсе не обнаруживается самопротиворечивость одной и той же… Но главнейшее (опускаю частные возражения), что можно возразить Канту, – это неприятие им во внимание идеи актуальной бесконечности» [28. C. 27], апеллируя к современной ему математике, в которой актуальная, то есть данная не в законченном ряде синтезов, бесконечность, является базовым понятием. В то же время из интуиций актуальной бесконечности как трансрационального бытия рождается культ, в котором Флоренский усматривает основания культуры в самом широком смысле слова – в том числе, математических наук, которым Кант отводит привилегированное место. Следовательно, само понимание математических принципов в кантианстве, согласно Флоренскому, крайне односторонне, и сводится к догматической метафизике.
Несколькими годами позже, разрабатывая философию культа, Флоренский выступит еще более радикально: «Нет системы более уклончиво-скользкой, более “лицемерной” и более “лукавой”, нежели философия Канта: всякое положение ее, всякий термин ее, всякий ход мысли есть ни да, ни нет. Вся она соткана из противоречий – не из антиномий, не из мужественных совместных да и нет, в остроте своей утверждаемых, а из загадочных улыбок и двусмысленных пролезаний между да и нет. Ни один термин не дает чистого тона, но все – завывание. Кантовская система есть воистину система гениальная, гениальнейшее, что было, и есть, и будет... по части лукавства. Кант – великий лукавец» [28. C. 103]. Здесь сказывается следование принципам теодицеи, религиозно-философского убеждения в том, что жизнь человека есть путь через антиномии к эпистемологическму единству мира как целого, из дискретно временного к абсолютному, гарантом чего является Бог. Познание ноуменов изначально дано человеку, но, совершая акт отпадения от целостного состояния бытия, которое Флоренский как апологет христианства, называет «адамическим», он отпадает и от цельного знания. Оторванность от Бога как медиатора в общении индивида и мира, приводит к индивидуалистической феноменологии, обретаясь в которой изолированное Я только и может сталкиваться с самим собой, не имея возможности выйти к Другому. Причем выйти свободно, то есть, разорвав узы причинно-следственной связи, поставляемой рациональностью человека, «чьи мысли с самой юности устремлены ко злу» (Быт. 8: 21) из-за отпадения от божественной полноты. Однако самобытность Флоренского как философа и богослова заключается в утверждении возможности постижения вещей-в-себе не только через религиозную аскетику, но и через творчество, что позволяет с уверенностью соотнести его с символистами. В более позднем своем трактате «Иконостас» (1922) он пишет: «В художественном творчестве душа восторгается из дольнего мира и всходит в мир горний. Там, без образов она питается созерцанием сущности горнего мира, осязает вечные ноумены вещей и, напитавшись, обремененная видением, нисходит вновь в мир дольний, – и далее Флоренский развивает мысль Иванова о методе экстатической трансляции абсолютной мифологии теургом. – И тут, при этом пути вниз, на границе вхождения в дольнее, ее духовное стяжание облекается в символические образы – те самые, которые, будучи закреплены, дают художественное произведение» [29. C. 428]. В философии Флоренского, отталкивающейся от кантианства, служащего одновременно катализатором ее развития, и постепенно преодолевающей его главную проблему, с удивительной стройностью и дискурсивной ясностью обнаруживаются гносеологические начала символистской философии творчества.
Заключение
Произведенный анализ влияния кантианства на три символистские системы – А. Белого, Вяч.И. Иванова и П.А. Флоренского – позволяет сделать ряд выводов:
- Попытка разрешить поставленную Кантом гносеологическую проблему субъектной трансцендентальности и основанное на этом противопоставление своих позиций кантианской объединяет трех символистов-мыслителей и служит дополнительным аргументом в пользу концептуализации русского символизма как целостной философской школы, вырабатывающей уникальный метод исследования проблем гносеологии и онтологии.
- В эстетической теории символизм исходит из трансцендентальной установки Канта, полагая дифференциацию феноменального и ноуменального уровней реальности, однако, эстетика обретает в символизме статус практически-ориентированной онтологии, построение которой выступает целью художественного теургического творчества.
- Критика кантианской системы символистами в основе своей исходит из религиозной или мистико-интуитивистской парадигмы, утверждающей возможность трансрационального постижения ноуменальной реальности как принципа духовного делания.
- Знакомство с философией Канта не всегда происходит напрямую, и посредничество испытавших влияние кантианства западноевропейских мыслителей, старших современников русских символистов, сигнализирует о высокой степени неаутентичности реципированных положений.
1 В переводе с древнегреческого, буквально – «собирать вместе», «соединять»; отсюда – «символ».
2 Слово «ἔκστασις» происходит от присоединения приставки ἐκ- («вне») к корню «ἵστημι» («стоять»), и понимается в значении «нахождение вне своего Я».
About the authors
Dmitry Romanov
Peoples' Friendship University of Russia
Author for correspondence.
Email: romanovbook@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0001-6715-3448
post-graduent student of social philosophy department
Russian FederationReferences
- Rockmore T. Remarks on Russian Philosophy, Soviet Philosophy, and Historicism. Diogenes. 2009;56(2–3):84–94. https://doi.org/10.1177/0392192109336381
- Mashukova EY. Problems of Russian original philosophy formation in 19th century. Vestnik russkoj hristianskoj gumanitarnoj akademii. 2016;17(3):156–168. (In Russ).
- Dlugach TB. Problem of time in philosophy of I. Kant and P. Florensky. In: Kamensky ZA, Zhuchkov VA, editors. Kant and philosophy in Russia. Moscow: Nauka; 1994. p. 186–212. (In Russ).
- Frank SL. Collected works. Moscow: Pravda; 1990. (In Russ).
- Blok AA. Verses. Poems. Theatre. Moscow: Hudozhestvennaya literatura; 1968. (In Russ).
- Fedyaev DM, Gornova GV. Immanuel Kant and Alexandr Blok about border problem: views from Kenigsberg and Petersburg. Vestnik Omskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. 2023;39(2):61–67. doi: 10.36809/2309-9380-2023-39-61-67 (In Russ).
- Bely A. Self-aware soul. Moscow: Kanon +; 2004. (In Russ).
- Dmitrieva NA. Russian Neokantianism: "Marburg" in Russia. Historical and philosophical essays. Moscow: ROSSPEN; 2007. (In Russ).
- Solovyov VS. Works in 2 vol. Vol. 2. Moscow: Mysl; 1990. (In Russ).
- Horuzhij SS. The philosophical symbolism of P.A. Florensky and his life origins. In: Isupov KG, editor. P.A. Florensky: pro et contra. Saint-Petersburg: Izdatelstvo RHGI; 1996. p. 525–558. (In Russ).
- Bely A. Symbolism. Moscow: Musaget; 1910. (In Russ).
- Bely A., Metner M. Letters 1902–1915. Vol. 2: 1910–1915. Мoscow: Novoe Literaturnoe obozrenie; 2017. (In Russ).
- Stepun FA. Open letter to Andrey Bely about the article «Circular movement». Trudy I dni. 1912;(5–6): 74–86. (In Russ).
- Shmitt A. Conception of Andrey Bely’s «Self-aware soul»: synthesis of Kant's early reception with Steiner's teaching and esoteric practice. Vestnik RUDN. Seria: Filosofia. 2020;24(2):201–218. doi: 10.22363/2313-2302-2020-24-2-201-218 (In Russ).
- Stepun FA. Mystical worldview. Five images of Russian symbolism. Moscow: Vladimir Dal’; 2012. (In Russ).
- Stepun FA. Bolshevism and Christian existence. Selected works. Moscow; Saint-Petersburg: Center for Humanitarian Initiatives; 2017. (In Russ).
- Astakhov OY. Creative activity in the epistemology of symbolism by Andrey Bely (based on the article "Emblematics of Meaning. Prerequisites for symbolism theory"). Vestnik Chelyabinskoj gosudarstvennoj akademii kul’tury i iskusstv. 2015;(1):55–61. (In Russ).
- Bely A. Symbolism as a world understanding. Moscow: Respublika; 1994. (In Russ).
- Ljunggren M. Poetry and psychiatry. Boston: Academic studies press; 2014.
- Malmstad J. Spirit of symbolism. London: Cornell University press; 1987.
- Bely A. Petersburg. Moscow: AST; 2007. (In Russ).
- Solovyov VS. Works in 2 vol. Vol. 1. Moscow: Mysl; 1990. (In Russ).
- Bychkov VV. Estetika. Moscow: Gardariki; 2005. (In Russ).
- Kalinnikov LA. Kant in Russian Philosophical Culture. Kaliningrad: Izdat. RGU im. I. Kanta; 2005. (In Russ).
- Ivanov VI. Collected works in 4 vol. Vol. 2. Brussels: Foyer Oriental Chretien; 1974. (In Russ).
- Kant I. Works in 6 vol. Vol. 5. Moscow: Mysl; 1966. (In Russ).
- Ivanov VI. Collected works in 4 vol. Vol. 3. Brussels: Foyer Oriental Chretien; 1971–1987. (In Russ).
- Florensky PA. Collected works. Philosophy of cult. Moscow: Mysl; 2004. (In Russ).
- Florensky PA. Works in 4 vol. Vol. 2. Moscow: Mysl; 1996. (In Russ).
Supplementary files