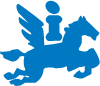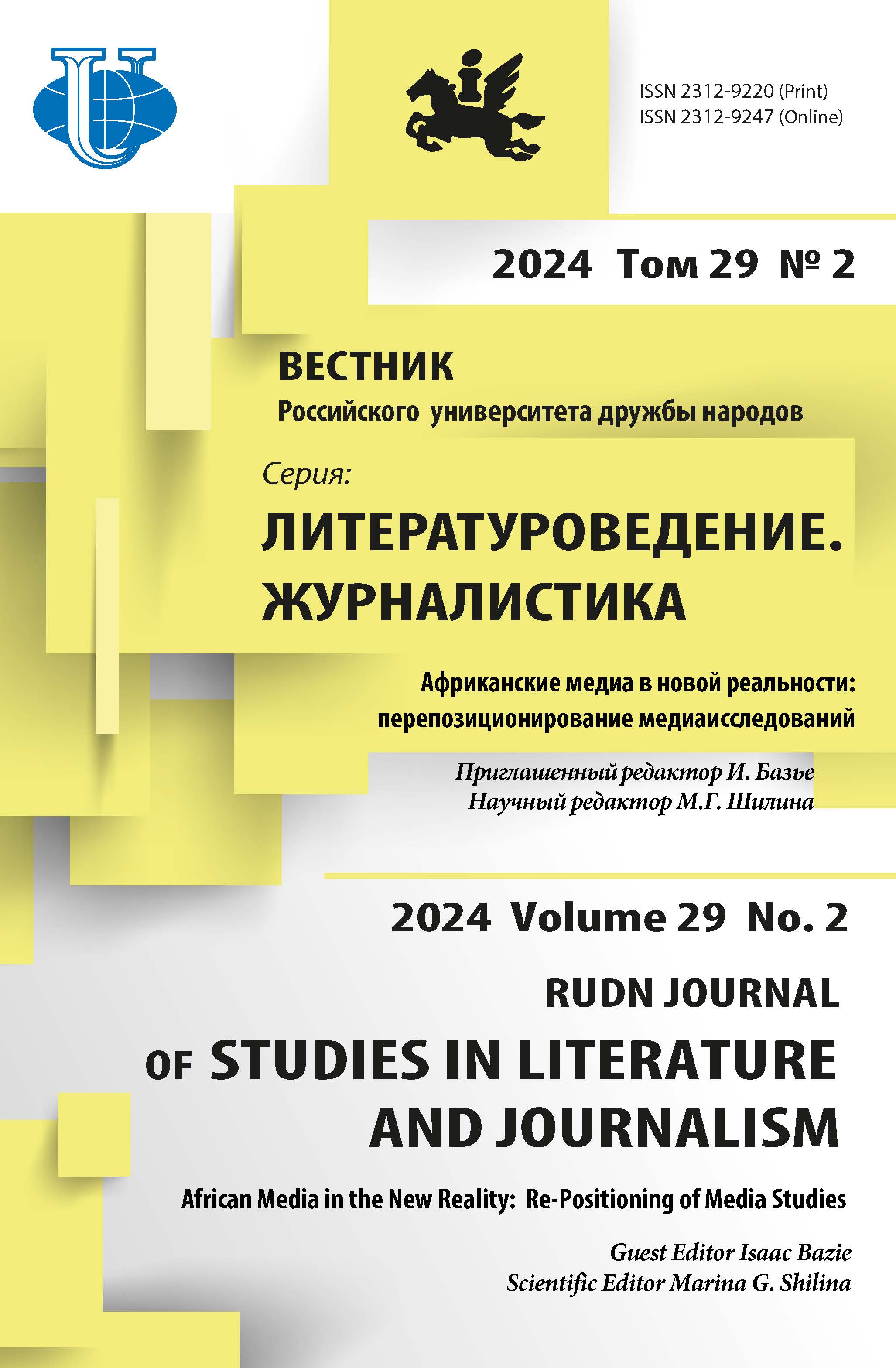«Расходящиеся тропки» как принцип конструирования пути героя: вариации в «Стеклянном городе» П. Остера
- Авторы: Шулятьева Д.В.1
-
Учреждения:
- Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
- Выпуск: Том 29, № 2 (2024): Африканские медиа в новой реальности: перепозиционирование медиаисследований
- Страницы: 260-269
- Раздел: Литературоведение
- URL: https://journals.rudn.ru/literary-criticism/article/view/41355
- DOI: https://doi.org/10.22363/2312-9220-2024-29-2-260-269
- EDN: https://elibrary.ru/SNAEXX
- ID: 41355
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Рассматривается принцип конструирования пути героя в раннем романе современного писателя Пола Остера. Уже в «Стеклянном городе» наблюдается интерес писателя к проблематизации более традиционной повествовательной формы: все большее внимания уделяется не столько конструированию событий, в действительности происходящих с героем, сколько указанию на события, которые могли бы произойти, но не случились в пределах повествовательного мира. Такая работа с событием вписывает повествовательный поиск Остера в обширную традицию, по-своему проблематизирующую возможные миры в повествовании. Цель исследования - проанализировать приемы, позволяющие осуществить данную проблематизацию. Одним из приемов для создания таких возможных миров становится дизнаррация, которая позволяет - благодаря указаниям на возможное альтернативное развитие событий - создавать возможные миры внутри повествования и даже превращать их в контрфактуальные. Испытывая интерес к этой проблематике, Остер в раннем романе тоже создает путь своего героя по принципу вариаций - последовательного предъявления читателю тех путей, по которым герой мог бы пройти, но которые все-таки в его жизни остались нереализованными. Так, Остер в повествовании осмысляет идею о «расходящихся тропках» Борхеса, попутно откликаясь на кинематографические повествовательные эксперименты, которые предпринимаются режиссерами во второй половине ХХ в. Он последовательно развивает и собственный повествовательный эксперимент, ведь спустя несколько десятилетий после «Стеклянного города» принцип «расходящихся тропок» будет воплощен в романе «4321» уже не только на уровне конструирования персонажей, но и на уровне всей повествовательной конструкции, которую потому можно определить как разветвленную.
Ключевые слова
Полный текст
Введение
Пол Остер – классик современной литературы – испытывает особый интерес к тому принципу конструирования повествовательных миров, который, вслед за знаменитой формулой Х.-Л. Борхеса, можно назвать «расходящимися тропками». Такой принцип – разветвления, варьирования – используется им при создании повествовательного мира на самых разных его уровнях: на уровне работы с событийностью, со временем повествования, а также при создании самого героя. Герой у Остера включает в себя (как будто) сразу нескольких: и в повествовании читателю последовательно предъявляется сразу несколько путей, по которым он мог бы пройти, – так, в его романах предпринимается попытка размышления не только о том, что с героем в действительности произошло, но и о том, что только могло бы произойти, но в пределах повествовательного мира не случилось.
С этой точки зрения Пол Остер развивает ту повествовательную линию, которая уже была намечена в прозе предшествующих эпох (например, в «Рождественской песне» Ч. Диккенса) и которая описывалась исследователями при помощи понятия «дизнаррация» (Prince, 1988). Дизнаррация в повествовании предполагает указание на то, что не случилось с героем, но могло бы произойти, тем самым открывая для читателя возможность размышления не столько о произошедшем, сколько о потенциальном (Lambrou, 2019; Warhol, 2011). Проблематизация дизнаррации позволяет создавать в повествовании, наряду с фактуальными мирами, миры контрфактуальные (Dannenberg, 2008), наряду с актуальными событиями – события лишь возможные, виртуальные (Ryan, 1991). Дизнаррация в повествовании может быть как имплицирована, так и эксплицирована: в случае с романом Остера мы имеем дело с экспликацией потенциального, предпринятой на уровне варьирования пути героя.
Роман Остера «Стеклянный город» рассматривался исследователями не единожды: в интермедийном контексте (в сравнении с адаптациями, предпринятыми художниками) (Coughlan, 2006; Bökös, 2014), с точки зрения языковой игры в романе (Söderlind, 2011), с вниманием к метафикциональному измерению нарратива (Smith, 2002). Исследованию подвергалась трансформация детективной жанровой конвенции (Nealon, 1999; Golden, 2004; Little, 1997), репрезентация травматического опыта в его повествовании (Shostak, 2009), однако специального исследования дизнаррации в его романе пока не было.
Обсуждение
Вариации персонажа в «Стеклянном городе». Уже в первом романе из «Нью-Йоркской трилогии» Остер предпринимает попытку такого размышления: в «Стеклянном городе» он использует принцип варьирования пути героя в качестве той самой дизнаррации, о которой писал Дж. Принс. Воплощение такого принципа позволяет внутри повествовательного мира создать альтернативные возможные миры, наполнить этот повествовательный мир не только актуальным (в действительности произошедшим), но и виртуальным (потенциальным). Так, разные персонажи, которые возникают в романе, нередко представляют собой заочные вариации главного героя – и именно на этой динамике (варьирования пути героя) и строится повествование в «Стеклянном городе».
В центре внимания читателя оказывается герой-писатель, который к тому же довольно быстро начинает примерять на себя роль детектива, и такое совмещение ролей – вовсе не только попытка построить собственное романное повествование в диалоге с детективной жанровой традицией, но и сигнал читателю о подчеркнутой метарефлексивности произведения, ведь фигура детектива сама по себе нередко воспринимается как метафора не только писателя, но и читателя: «читая роман, читатель повторяет тот самый процесс познания, в котором участвует его герой, он настраивается на тот же ритм, чередующий загадки и разгадки, затруднения и их разрешения» (Зенкин, 2018, с. 303).
Роман начинается с неожиданного звонка, раздающегося в квартире главного героя – писателя Куина. Звонит незнакомец, настаивает на разговоре с неким Полом Остером, который (он и только он) может помочь ему с расследованием. Но главный герой – (пока) не детектив, и взяться за дело не может, поэтому с некоторым недоумением отклоняет предложение. Звонки с настойчивой регулярностью повторяются, раз за разом воспроизводя примерно один и тот же разговор, и вот уже главный герой вовлечен в этот странный процесс: он вроде бы (все еще) не Пол Остер и не детектив, но порученное ему дело уже ведет и от нового имени не отказывается.
Как нередко бывает у Остера (Alvarez, 2018), его главный герой «многослоен»: он и нью-йоркец по имени Куин, он и автор детективных романов, публикуемых под псевдонимом Уильям Уилсон, он «сближается» с повествователем собственных романов Марком Уорком, он становится (в чем-то неожиданно для себя) и сыщиком – тоже с чужим именем (Пол Остер), и отзвуком героя Эдгара По, и фланером Бодлера, блуждающим по городу пешком, и преломлением героя-фотографа (тоже в чем-то фланера) из фильма Антониони «Фотоувеличение». Герой не только скрывает внутри себя несколько ролей, но и расширяется вовне благодаря персонажам-отражениям, которые, по сути, воплощают разные варианты его собственной судьбы. Таков Питер Стилмен, который и просит Куина заняться расследованием: говоря о себе (в режиме полусвязной речи, имитирующей речь психически нездорового человека), он несколько раз возвращается к одной и той же формуле, повторяет, что имен у него много, а каждый день он рождается заново и проживает новую жизнь. В действительности «новая жизнь» каждый раз у него лишь воображаемая, поскольку по сюжету вследствие странных языковых экспериментов отца он в течение 9 лет не выходил из дома, оставаясь в темной пустой комнате, да и после освобождения из плена продолжил вести затворнический образ жизни все в той же темноте, но только теперь по собственной воле. Впрочем, затворничество не помешало ему (с его же слов) менять имена и менять роли – и в эту игру воображаемых разветвлений он втягивает и главного героя – Куина. Но Питер – не единственный персонаж, расширяющий главного героя. Таков и старший Стилмен – то ли безумец, то ли маньяк, профессор, проводивший языковые эксперименты над собственным сыном, в результате оказавшийся в психиатрической лечебнице и в момент рассказа вышедший на волю. Сюжетно он, кажется, совсем не похож на главного героя, но сходство все-таки есть и обнаруживается им самим, причем от читателя не скрывается, а предъявляется демонстративно – в последних словах главы (то есть в той зоне текста, которую «слепой» назвать совсем нельзя, скорее, наоборот – только сильной, наиболее заметной).
За старшим Стилменом герою поручено следить, и вот он оказывается на вокзале, где должен его встретить: уже предсказуемо в контексте идеи разветвления на глаза ему попадается не один Стилмен, а сразу два – они похожи друг на друга, как две капли воды, но никак не связаны, это не оптическая иллюзия, не сон, не наваждение, повторяет про себя главный герой, это два отдельных персонажа, которые, вместе с этим, движутся в разных направлениях, и, чтобы продолжить слежку, главному герою нужно выбрать только одного. Конечно, введение в сюжет подобных двойников – буквальное воплощение идеи разветвления, развилки, на которой находится герой, предъявление ему выбора, который он должен совершить. Здесь, в «Стеклянном городе», выбор этот сделать еще необходимо – т.е. нужно пройти только по одной тропке, неизменно отбрасывая вторую, тогда как в более позднем развитии этой идеи у Остера (например, в романе «4321»), разветвленная повествовательная форма позволит и герою, и читателю этот выбор не делать, а, наоборот, прожить все возможные варианты одного и того же события – подобно тому, как эти варианты предлагаются уже здесь, в раннем романе Остера, но пока еще сводятся к единственному выбору и к единственной линии развития персонажа.
В романе не только подчеркивается совмещение нескольких ролей в главном герое, но и их борьба: Куин сражается то с Уилсоном, то с Уорком, то – чуть позже – с Остером, и все это происходит внутри него самого; за этой борьбой скрывается и желание каждого из персонажей стать главным героем, перетянуть повествовательное одеяло на себя, и метатекстуальное размышление о тех возможностях, которые повествование может предоставлять: о его скрытом разветвлении, вариациях, развилках, открывающихся раз за разом, но и исчезающих – в тот момент, когда выбранной оказывается только одна, а остальные – по воле нарративной логики – опущены.
Такой же «выбор» возникает, когда в процессе расследования главный герой сталкивается с загадочными инициалами: «Ш.Б.». Что за ними скрывается, размышляет он: Шервуд Блэк, Шарль Бодлер, Шекспир и Бэкон, Шалтай-Болтай? Можно ли узнать, что было скрыто в этих инициалах, частью какого имени они являются? Вероятно, нет, нельзя, но можно перепрочитать всю рассказанную историю заново, посмотрев на нее через призму всех возможных вариаций. Подобная попытка в романе, кажется, предпринимается (не только задумываться о возможностях, но и буквально представлять их в тексте), когда происходит встреча сыщика и объекта его наблюдения: фольклорным (то есть в чем-то условным) образом он подходит к нему три раза, чтобы завязать разговор, и каждый раз один не узнает другого, видит в нем кого-то нового, называет его новым именем, как будто бы прокручивая одно и то же событие (встреча, знакомство) каждый раз заново, как будто бы отвечая на вопрос «Как это могло произойти иначе»? самим дискурсивным событием.
Этот вопрос – может быть, ключевой для идеи о «расходящихся тропках» – то и дело мерцает и в размышлениях главного героя: он задумывается, как представленное в повествовании событие могло быть описано глазами другого (например, Марка Уокера), как по-другому можно было бы реагировать на то или иное событие, как иначе можно было бы действовать в той же ситуации, задумывается – но ничего из этого не показывает непосредственно в повествовании, оставляя читателю только указание на то, что каждое представленное в романе событие могло бы быть описано иначе и свершиться иначе, скрывая на уровне репрезентации всю палитру вариаций, но явно направляя читательское воображение в эту сторону (реконструирования всех возможных вариантов).
После встречи на вокзале главный герой продолжает следовать за Стилменом по городу, и слежка длится не один день: раз за разом и шаг за шагом он проходит намеченный им путь, удваивая его и телесно, и мысленно, в попытке понять, почему тот выбирает именно этот, а не другой, маршрут. Конечно, в городе Остера отчетливо проступает идея лабиринта, тоже связанная с концепцией «расходящихся тропок». Если город предоставляет множество путей на выбор, то каждый раз можно выбирать иной, новый, каждый раз можно осваивать одно и то же предоставляемое герою пространство новыми тропами. Именно так, в общем, и действует Стилмен старший. До поры не разгаданной тайной остается только одно: куда ведут выбранные им дороги и что обозначает это его блуждание. Понять происходящее герою помогает письмо и изображение: он тщательно фиксирует все передвижения своего объекта, создавая собственную (и их совместную) карту города, теперь размеченную уликами, следами, указателями, ведущими к одному – к пониманию того, что за перемещениями по городу стоит попытка начертить собственным телом буквы, превратить город-лабиринт в огромный бумажный лист, по которому человек двигался бы так, как будто бы он и есть алфавит, а алфавит становился бы самим человеком.
В главном герое сокрыт не только писатель, но и, конечно, читатель, отражение которого Остер предлагает для сопоставления уже читателю реальному: сначала Куину предлагают быть кем-то другим (детективом Остером), соотнести себя с ним – но предложение странное, да и рискованное, и он отказывается; настойчивость этих предложений постепенно вовлекает его в этот мир другого, и вот уже он начинает действовать, осваивая предложенный ему город подобно тому, как читатель движется по тексту, совершая свое расследование-исследование: собирая улики, подмечая детали, ища похожее и находя различия; затем этот герой-читатель уже не может отделить себя от предложенной ему роли другого, да и не хочет: он всецело поглощен разгадкой шифра, языка, посланного ему сообщения, скрытого в телесных движениях по городу пешком; и вот, наконец, он – и «внутри» этого другого (видит его глазами и видит его со стороны, шагает вслед за ним, подражая его движениям), и унесен далеко прочь: ведь для того чтобы разгадать «шифр», на город, по которому движется человек-алфавит, необходимо посмотреть с высоты птичьего полета, и только так можно понять отправленное сообщение.
Обнаружение «читателя» в герое-писателе происходит уже в самом начале его расследования: вот он знакомится с Питером, заказчиком, несколько часов внимает его малосвязной речи вот он подбирает в магазине тетрадь, чтобы начать свои заметки (и даже эта незатейливая операция показывается Остером с акцентом на выборе, который герою предлагается: есть одна, другая, третья тетрадь, думает он, но я выбираю именно эту, красную). Затем он берется за письмо: и в сущности воспроизводит только что показанный в повествовании разговор, но уже иначе – и повторяя его (фабульно), и варьируя (дискурсивно): причем герой-«читатель» не пересказывает, он именно задается вопросами, и эти вопросы касаются, конечно, не того, что было сказано, а того, что было опущено, но что с рассказанным связано напрямую – касаются, иными словами, лакун, расставленных в монологе Питера. Фактически вопрошание главного героя, пытающегося и вспомнить только что произошедшее, и его осмыслить, и его описать (нарративизировать), – и есть та операция, которой обычно занят читатель, когда он погружается в художественный мир и взаимодействует с ним. Неудивительно поэтому, что глава, посвященная такому повторению с вариациями, заканчивается точкой, в которой сходится «я» главного героя и его собеседника: он повторяет ту же фразу, что неоднократно произносил Питер («это не мое настоящее имя»), но только присваивая ее уже самому себе, воспроизводя от своего лица и своим голосом.
Подобное воплощение читателя в главном герое происходит и тогда, когда он взаимодействует уже со Стилменом-старшим: он так тщательно повторяет его путь и шаги, так вживается в его мир и в его размышления, что даже в момент, когда Стилмен внезапно исчезает, главный герой продолжает воспроизводить это подобие, продолжает ему подражать (телесно): «магия больше не действовала», думает он, «однако тело об этом еще не догадывалось».
Конечно, велик соблазн и реального читателя погрузить в то же подражательное состояние – вынудить его так же, как делал когда-то писатель Куин, бродить за главным героем по городу-тексту, превращая его в карту, ловя мельчайшие повороты и изменения траектории: и это, разумеется, происходит, когда в повествовании с особой избыточностью описывается путь главного героя по городу. Теперь читателю (реальному) недостаточно только вглядываться в собственное отражение, созданное героем, так похожим на образ читателя; теперь ему нужно действовать – и самому идти (как в видеоигре) по городу пешком, чтобы увидеть на карте причудливый узор: окружности, расходящиеся из одной точки.
Обилие предлагаемых читателю развилок совмещается у Остера с парадоксальным контрастом – неожиданно исчезает и объект наблюдения (Стилмен-старший, человек-алфавит), превращаясь «в запятую» (цитата), и заказчики расследования (Стилмен-младший и его жена), да и, в конце концов, и сам главный герой тоже исчезает, превращаясь не в точку, нет, оставляя после себя «буквы на бумаге» (красную тетрадь, в которой фиксировал все наблюдения во время расследования).
Подобно герою «Фотоувеличения» Антониони, герой Остера тоже проникается «странной властью исчезновения», оставляя читателя лицом к лицу с невидимым, нерассказанным, скрытым, лакунированным всем тем, что прячется за представленными в повествовании событиями и что захватывает читательское воображение, движимое вопросом: «что было бы, если».
Заключение
В чем, в сущности, конститутивный принцип романа Остера, движимый размышлением о разветвлении? За стеклянным городом у него прячется зеркальный лабиринт, который (подобно тексту) можно пройти разными путями. Но сам роман – все, что в нем представлено – лишь айсберг, скрывающий за собой подводный мир – мир нерассказанного, превосходящего по объему рассказанное. Именно на это свойство повествования как такового, по-видимому, и указывает Остер, постоянно направляя читательское воображение в сторону размышления о том, что не произошло с героем, но могло бы произойти. Да, события в романе репрезентированы линейно, но работа с главным героем и его внутренним и внешним расширением, с его отражениями – движение в сторону формирования разветвленного повествования (forking-path narrative), которое к тому же сопровождается проблематизацией и других категорий, которые окажутся для Остера значимыми и впоследствии: случая, орнамента, лабиринта.
В том, как в «Стеклянном городе» Остер работает с вариациями персонажа, каждая из которых как будто бы предлагает ему новую, иную судьбу, он явным образом пересекается с К. Кесьлевским, чье влияние он не только не отрицал, но иногда и подчеркивал. Кесьлевский, размышляя о разветвлении теперь уже в кино, действительно многим напоминает Остера. Так, например, устроен его фильм «Двойная жизнь Вероники», в котором тоже возникает идея разветвления – как раз на уровне варьирования персонажей.
Мир «Двойной жизни…» делится на два: две Вероники, две страны (Польша и Франция), два города (Краков и Париж), две жизни, развивающиеся параллельно, но напоминающие одна другую, и, главное, – две Вероники сыграны одной актрисой, не отличимые, но не знающие о существовании друг друга. Два пути, идущие параллельно: одна (полячка) умирает раньше, другая – предчувствуя опасность смерти – печального исхода избегает; одна отзеркаливает другую и продолжает ее прервавшийся путь. В конечном счете, в фильме возникает момент (показанный рано, но понятый и осмысленный позже, ближе к финалу), в котором одна Вероника обнаруживает другую – не прямо, лишь опосредованно. Будучи на экскурсии в Кракове, француженка, снимая достопримечательности, случайно объективом захватила и польскую Веронику, и фотография – много времени спустя – ей это узнавание открыла. Фотография – встреча реальности и вымысла, видимого и иллюзорного, появляется у Кесьлевского так же, как впоследствии появится у Остера в «4321». А пока «Стеклянный город» пугающе похож (но написан раньше): тоже герой, встречающий на улице свое отражение; то же (многократное) удвоение; то же размышление о возможности пройти путь иначе, по-другому, помноженное на постмодернистскую рамку метарефлексивности, в которой герой – не только отражение размышления о человеке и вариативности его судьбы, но и отражение осмысления персонажа и его пути внутри повествовательного мира.
«Стеклянный город» уже, как это будет и в более позднем романе, полон отсылок к Борхесу и осмысления его художественных констант: здесь и лабиринт, и вымысел, и вавилонская башня, и мир, понимаемый как библиотека, и предатель, и герой, и, конечно, сад расходящихся тропок как концепт, столь интересный Остеру на разных уровнях. Мир «Стеклянного города» металептичен, в нем легко попираются фикциональные границы, и движение насквозь проходит в обе стороны: от повествователя к герою и обратно – до полной неразличимости одного и другого, вплоть до вопроса, кто же управляет этим миром, кому здесь принадлежит право голоса, право конструирования истории и распределения персонажных ролей. Кесьлевский хотел, чтобы в каждом кинотеатре был показан разный финал «Вероники»: технически осуществить это было невозможно, но сам по себе замысел показательный. Заодно с Остером, осмысляя идею о «расходящихся тропках», они стремятся сделать повествование незавершаемым – только продолжая тем самым размышление о разветвлении.
Об авторах
Дина Владимировна Шулятьева
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Автор, ответственный за переписку.
Email: dshulyatyeva@hse.ru
ORCID iD: 0000-0001-7498-7395
кандидат филологических наук, доцент школы философии и культурологии, факультет гуманитарных наук
Российская Федерация, 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 20Список литературы
- Зенкин С.Н. Теория литературы: проблемы и результаты. М.: Новое литературное обозрение, 2018.
- Alvarez M. Paul Auster's Ghosts. The Echoes of European and American Tradition. Lexington Books, 2018.
- Bökös B. Palimpsestuous intermediality: Paul Auster’s “City of Glass” (1985) and “City of Glass: The Graphic Novel” (1994) // Hungarian Journal of English and American Studies. 2014. Vol. 20. No. 2. Pp. 101-119.
- Coughlan D. Paul Auster’s “City of Glass”: the graphic novel // Modern Fiction Studies. 2006. Vol. 52. No. 4. Pp. 832-854.
- Dannenberg H. Coincidence and counterfactuality: plotting time and space in narrative fiction. University of Nebraska Press, 2008.
- Golden C. From punishment to possibility: Re-imagining Hitchcockian paradigms in “The New York Trilogy” // Mosaic: An Interdisciplinary Critical Journal. 2004. Vol. 37. No. 3. Pp. 93-108.
- Lambrou M. Disnarration and the unmentioned in fact and fiction. London: Palgrave Pivot, 2019.
- Little W.G. Nothing to go on: Paul Auster’s “City of Glass” // Contemporary Literature. 1997. Vol. 38. No. 1. Pp. 133-163. https://doi.org/10.2307/1208855
- Nealon J.T. Work of the detective, work of the writer: Auster’s City of Glass // Detecting Texts: The Metaphysical Detective Story from Poe to Postmodernism / ed. by P. Merivale, S.E. Sweeney. University of Pennsylvania Press, 1999. Pp. 117-133.
- Prince G. The disnarrated // Style. 1988. Vol. 22. Pp. 1-8.
- Ryan M.-L. Possible worlds, artificial intelligence and narrative theory. Bloomington: University of Indiana Press, 1991.
- Shostack D. In the country of missing persons: Paul Auster’s narratives of trauma // Studies in the Novel. 2009. Vol. 41. No. 1. Pp. 66-87.
- Smith H. “A labyrinth of endless steps”: fiction making, interactive narrativity, and the poetics of space in Paul Auster’s City of Glass // Australasian Journal of American Studies. 2002. Vol. 21. No. 2. Pp. 33-51.
- Söderlind S. Humpty Dumpty in New York: Language and regime change in Paul Auster’s “City of Glass” // Modern Fiction Studies. 2011. Vol. 57. No. 1. Pp. 1-16.
- Warhol R. Dickens narrative refusals // Counterfactual Thinking - Counterfactual Writing / еd. by D. Birke, M. Butter, T. Koeppe. Berlin: De Gruyter, 2011. Pp. 227-240.
Дополнительные файлы