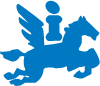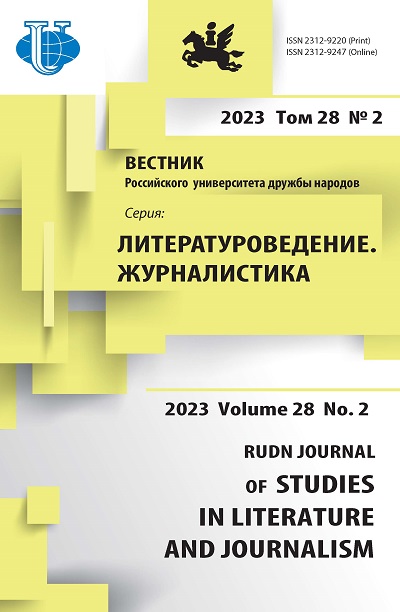Притчевость в произведениях Н.В. Гоголя: особенности авторского воплощения
- Авторы: Демидов Н.М.1, Клинг О.А.1
-
Учреждения:
- Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
- Выпуск: Том 28, № 2 (2023)
- Страницы: 199-209
- Раздел: Литературоведение
- URL: https://journals.rudn.ru/literary-criticism/article/view/35456
- DOI: https://doi.org/10.22363/2312-9220-2023-28-2-199-209
- EDN: https://elibrary.ru/PBTJXC
- ID: 35456
Цитировать
Аннотация
Анализируется притчевость произведений Н.В. Гоголя как один из важнейших элементов писательской стратегии. Делается упор на ее формальном воплощении в произведениях автора: показывается важная связь притчи с художественной деталью произведения и композицией в целом, с выстраиванием писателем сложной системы конфликтов и их роли в сюжетной схеме. В рамках исследования авторы считают необходимым предостеречь от поверхностного понимания притчевости Гоголя как некой вульгарной формы резонерства или поучения. Чтение текстов писателя показывает, что притчевость в них несколько отходит от классической модели и напоминает параболу, форму притчи в литературе европейского модернизма, которая усложняет и делает менее очевидным собственно назидательный аспект. Рассматриваемый в исследовании притчевый элемент может и должен изучаться не в общих чертах, не обзорно, а как неотъемлемая часть поэтики и художественной системы автора - это позволяет анализировать данный феномен более детально, как индивидуально освоенную часть композиции творчества отдельно взятого автора. Гоголь при используемом подходе предстает как явление мировой литературы, а поводом рассуждать таким образом служит сложная система притчевости, по-разному реализованная в конкретных текстах писателя. Именно она вбирает в себя частные элементы поэтики, имеющие самые разные функции, которые образуют единую систему художественного своеобразия гоголевских текстов, а главное - их оригинальности, непохожести друг на друга даже в пределах авторского сборника.
Ключевые слова
Полный текст
Введение
В изучении творческого наследия Гоголя присутствует непростой вопрос о притчевости его текстов и поэтики в целом. Сам по себе данный литературный, если не сказать шире – культурный феномен прочно закрепил свою самостоятельность давно утвержденными и как бы застывшими особенностями формы и содержания. Это таит в себе некоторую опасность, но одновременно и порождает неподдельный интерес исследователя: мы становимся свидетелями освоения проработанной и сложнейшей структуры притчи таким художником, как Гоголь. Не останавливаясь на степени трудности нашей задачи, следует предостеречь от поверхностного понимания притчевости Гоголя как некой вульгарной формы резонерства или поучения. Существует специфическая именно при изучении Гоголя трудность, когда «тандем» трагического и комического, высокого с прозаическим и повседневным, близкое их соприкосновение, доходящее чуть ли не до их полного неразличения, затрудняет реконструкцию художественной цели автора, которая и позволяет говорить о самом существовании притчевого контекста. Однообразные, хотя и верные интерпретации творчества писателя, касающиеся социально-гуманистического аспекта содержания и центром тяжести задающие реалистическую парадигму произведений, только маскируют данную проблему и обедняют Гоголя не только на идейном уровне, но и как конструктора собственных текстов, как стилиста. Современные литературоведы неустанно напоминают о загадочности гоголевских произведений, о смысловой амбивалентности его текстов: так, известный чешский русист Иво Поспишил пишет, что «…jen málokde se setkáváme se zcela racionalizujícím vysvětlením, s absolutním zlehčením; současně je však Gogolovi také cizí absolutní tajuplnost. Mnohem otřesnější je noetická nejistota, kterou Gogolovy vyprávěnky evokují» (Pospíšil, 1994, s. 92). Сказанное приводит к осознанию достаточно простого факта: изучаемый вопрос лежит скорее в области формы, чем содержания, или же и содержание, и форма находятся в более тесном сотрудничестве, чем было принято считать.
Обсуждение
Гоголь и притча
Литературная энциклопедия терминов и понятий под редакцией Николюкина определяет притчу как «эпический жанр, представляющий собой краткий назидательный рассказ в аллегорической, иносказательной форме» (Литературная энциклопедия.., 2001, с. 808). Как литературный жанр притча действительно относится к эпосу и, если смотреть с точки зрения авторской стратегии, привлекательна для желающего овладеть этой жанровой формой прежде всего широтой обобщения декларируемой идеи (которая усиливается общей абстрагированностью действительности, представленной в притче) при нарочитой схематичности психологизма ее субъекта и объекта и принципиальной установкой фабулы на фактическое воспроизведение события, положенного в основу, без какого-либо серьезного развития действия – аллегория и сюжет в притче, как правило, сбалансированы. Такой подход к притче отражает ее уже не как отдельно взятое явление, а как вспомогательную жанровую парадигму, готовую для адаптации или творческого осмысления ее автором; впрочем, свою самостоятельность она и не теряет, даже выполняя пусть и первостепенные, но все же служебные функции; какие – и предстоит выяснить в настоящий момент. Стоит особо подчеркнуть, что в рамках настоящего исследования принято остановиться на притчевости и ее «инструментах» у Гоголя именно с формальной, а не содержательной точки зрения, чтобы понять комплекс средств художественной выразительности и приемов, задействованный писателем для выражения притчевого содержания (которое в науке изучено лучше).
То, что автор выступает как творец определенной модели мира, можно уже считать трюизмом, однако принципиально, что эта модель не «растворена», не воплощена в художественном тексте, а сама им и является. Сама отграниченность, замкнутость текста, любого, не только литературного, предполагает вариативность использования средств для донесения любой информации. Что же тогда происходит с притчей, безусловно порожденной авторским сознанием, когда ее основные черты оказываются восприняты автором более масштабного по композиционному устройству произведения? Она либо бессознательно воспринимается писателем как архетип, интертекст, связанный с проблематикой произведения (для чего требуется незаурядное эстетическое усилие, связанное с тем, что архетип как древний смысл надо не просто механически воспроизвести, но обновить, соотнести с актуальной для автора системой художественно-изобразительных средств), или же реализуется как грандиозное обобщение уже сказанного автором (хорошим примером тут может послужить поэма Гоголя «Мертвые души»). Помимо этого, любое литературное произведение, будучи целостным, соотносится с метатекстами как абстрактным воплощением текстов, погруженных в культурное пространство и существующих уже до создания определенного авторского текста, и притчевость как часть метатекстового контекста переживает смену различных литературных течений и, соответственно, становится востребована по-разному. Мы фиксируем важность вечности и божественного абсолюта для Гоголя как автора «Избранных мест из переписки с друзьями» и вообще тему апокалиптического мировоззрения писателя, которая до сих пор продолжает привлекать внимание литературоведов (Glyantz, 2013, pp. 89–121), сатирическое высмеивание пороков общества в «Ревизоре» и героику, противопоставленную обыденности и рутинной пошлости в сборнике «Миргород». Можно сказать, что ведущие ценности конкретных текстов – то есть связи неодинаковых авторских замыслов с различными метатекстами произведений – будут также различаться между собой благодаря воле и личности автора, который привычную притчевую триаду «субъект – объект (в его роли обычно выступает окружающий мир, сама действительность) – абсолют (воспринимается как строгий закон, который выше человека и обязателен к исполнению)» может обыгрывать по-разному в соответствующих произведениях, и Гоголь не является исключением из правила, реализуя свои творческие потенции исходя из современного ему метатекста, культурной и социально-исторической ситуации вообще, анализируя и осмысляя именно ее, ориентируясь на свое миросозерцание и этические установки. Так, можно вспомнить научную проблему, касающуюся традиции гомеровской Одиссеи в «Мертвых душах», плодотворно рассматривавшуюся в отечественной и зарубежной науке (Kelly, 2005, pp. 37–61), когда Гоголь подкрепляет свои эстетические и, что важнее в рамках нашей темы – моральные установки культурологическим контекстом, который для его современников был важен и актуален.
Образ автора в гоголевских текстах изучен очень плодотворно, но нам интересна сама возможность взгляда на него как на рассказчика притчевого по своей модели содержания без попыток механически перенести структуру притчи на конкретные произведения, что было бы неверным шагом. Повторимся, Гоголя следует воспринимать одновременно на двух важных уровнях – комически-сатирическом и драматически-трагическом, что создает некоторые трудности при анализе его поэтики. Но у Гоголя, особенно позднего, есть черта возведения определенных наблюдений в больший масштаб – иначе говоря, тенденция к генерализации и обобщению. Специфической чертой писателя или новаторством она, конечно же, не является, зато может использоваться как наиболее прямой и простой путь к постижению притчевости его текстов. Самым простым примером могут служить прямые высказывания обобщающего характера, которые легко опознать по характерному началу, например: «На Руси, где все любит скорее развернуться, нежели съежиться...». Другим примером может послужить аллюзия на евангельскую притчу о блудном сыне, которая скрыто преломляется в образе Чичикова из первого тома «Мертвых душ» и явно в образе помещика Хлобуева из второго тома. Горестная биография гоголевского героя соответствует фабуле притчи, но, что показательно, генерализируя в хлобуевском типе человека безвольного и легкомысленного, разоряющего и себя, и крестьян, автор в то же время не может обойтись без элементов конкретизации, пусть и на первых взгляд несущественных. Дается лаконичная характеристика внешнего облика героя и описание его одежды – неказистой, незавидной. В имеющей отношение к соответствующему эпизоду с Хлобуевым евангельской притче детализированность ослаблена; блудный сын должен апеллировать к самому общему контексту, на его месте может находиться любой человек в любую эпоху. С финалом первого тома «Мертвых душ» – пассажем про «Птицу-тройку», представляющим поэтический образ России, несколько проще. Само определение автором жанра произведения как поэмы предполагает не просто хорошо усматриваемую отсылку к метатексту – «Божественной комедии» Данте как образцу наивысшей формы художественного построения, но и выход к предельной форме обобщения как заданной стратегии построения текста, то есть указания на систематизацию общественных и духовных явлений появляются, по сути, еще до создания самого текста. Из этого следует разумное предположение, что само повествование будет предельно концентрированно и выберет своим центром что-то одно существенное, в то время как многочисленные ответвления сюжета лишь будут служить своеобразным подспорьем для художественной «отделки» самого главного, что и мы наблюдаем в «Мертвых душах»: материалом для рассуждения о судьбе России и других важнейших духовных и философских вопросов служит сравнительно небольшое количество героев и событий. Может показаться, что мы только что нечаянно сформулировали классическое понимание более позднего русского романа для XIX в., когда большой эпический размах сочетается с единственным главным героем как «центром притяжения» всего произведения. Но на самом деле получается, что структура притчевости, так удачно воплощающаяся в «Мертвых душах», есть общее и частое место во многих произведениях, как скоро обнаружится, не только русской литературы. Тем более что поэму Гоголя трудно назвать типичным, традиционным произведением большой формы: пространность повествования у писателя не событийная, строго фабульная, охватывающая всероссийский масштаб, но и символическая, что обеспечивается контрастом «низкого» содержания и проникновенных лирических отступлений. Хорошим примером может послужить повесть «Тарас Бульба» как монолитное эпическое единство, в героических масштабах, несколько идеализированно описывающее битву за Веру и Отечество. Впрочем, некоторая идеализация образов казаков в повести, неразрывно переплетенная с фольклорной стилизацией, преследует важную цель: эпическое, монументальное обобщение и осмысление русской истории и, несмотря на кажущуюся общую простоту содержания повести, некоторое единообразие отдельных образов, деталей формирует единый модус художественности, в котором могут –благодаря широкой историко-философской панораме – преломляться самые разные смыслы.
В изданных лекциях Набокова по русской литературе глава, посвященная «Мертвым душам» Гоголя, содержит такие замечательные строки: «Гоголевские герои по воле случая оказались русскими помещиками и чиновниками, их воображаемая среда и социальные условия не имеют абсолютно никакого значения… искать в „Мертвых душах“ подлинную русскую действительность так же бесполезно, как и представлять себе Данию на основе частного происшествия в туманном Эльсиноре» (Набоков, 2018, с. 47). Можно понимать эти слова как очередное подтверждение высокого «космизма» «Мертвых душ», за которым скрывается понимание сложности сюжета поэмы и его нетипичной роли в композиционной организации повествования. В притче важнейшим компонентом, в котором растворен объект (то есть та действительность, реальность, в рамках которой действует человек), является фабула как простая последовательность определенных событий, что не вызывает нареканий наряду с устойчивой парадигмой этого жанра (Агранович, Саморукова, 1997). Сюжет в художественном произведении как последовательность событий, связанных по определенным правилам, будет отличаться более свободным изложением и строиться по индивидуальному, установленному автором хронотопу. Этот хорошо известный теоретический аспект непосредственно указывает на то, что сюжет напрямую связан с формой произведения, находится в ее «ведении». Важно понять, что сюжет пересекается с фабулой в понятиях конфликта и факта, и два этих начала одинаково выражены и там, и там, фабула так же, как и сюжет, является творческим началом; разница лишь в том, что в притче, целиком фабульной, они напряжены до предела. Соответственно, в поисках притчевого следа, справедливо указывая на сюжет как его основное вместилище, нужно понять, как именно эти два элемента проявляют себя в нарративной структуре произведения. Важнейших двигателей сюжета – конфликтов – у Гоголя много, и только соотносясь вместе, они формируют конфликт всего произведения. При этом хочется отметить особую, нетипичную роль детали в построении конфликта. Писатель как бы приостанавливает свой взгляд на определенном предмете, а затем, описаниями определяя их место в контексте общего содержания, переходит к следующему объекту; примером может служить хорошо известное описание внутреннего убранства дома Плюшкина или не менее известный эпизод, где два мужика рассуждают о «колесе» брички Чичикова – доедет ли оно до Казани или Москвы или нет. Далее авторский взгляд падает уже на посторонний предмет – встреченного у гостиницы франта, никак не связанного с предыдущей картиной непосредственно, но наряду с ней являющегося частью общей системы зарисовки вида и колорита уездного города.
Описания, детали выполняют не только свою привычную характеризующую функцию, они еще и принимают роль микроконфликтов, толкая сюжет вперед; ведь в противном случае фабула поэмы совпала бы с ее сюжетом и представляла бы цепь поездок Чичикова с целью скупки мертвых душ, что в корне неверно, как отмечал видный исследователь творчества Гоголя Юрий Манн (Манн, 2007). Всякое по-настоящему гениальное произведение предрекает жизнь сюжетной коллизии несравненно более долгую, чем жизнь фабулы, и гоголевский текст не является исключением. Если в «Вечерах на хуторе близ Диканьки» движение сюжета обеспечивалось самой динамикой действия, ее остротой, то в «Мертвых душах» ситуация принципиально иная, бытовые и пейзажные подробности мыслятся как образы, непосредственно являющиеся элементами сюжетной канвы, на что обратил внимание еще Андрей Белый в книге «Мастерство Гоголя» (Белый, 1996). Получается, что на достаточно скупую фактологическую последовательность событий накладывается деталь за деталью; вот, например, такое свидетельство: перед тем, как Чичиков подъезжает к дому Коробочки, гремит гром, начинается ливень. Казалось бы, мелочь, не имеющая никакого отношения к повествованию, даже на уровне образности достаточно примитивная, а если попробовать ее изъять – сюжет даст трещину. Деталь оказывается неразрывно связана с сюжетом, а скрытность Гоголя, нежелание с охотой раскрывать даже самые немаловажные детали, только идет на руку поэтике произведения и позволяет считать его смысл поистине неисчерпаемым. В работе американской исследовательницы Кирстен Лодж The Semiotics of Gogol's “Dead Souls” подчеркивается не просто семантическая, но и семиотическая нагрузка отдельных элементов гоголевского текста, которую демонстрирует сам язык писателя; таким образом, на сложность притчевого начала оказывает существенное влияние как содержание, так и форма (языковая стилистика) (Lodge, 2002, pp. 69–84).
Продолжая мысль о воплощении притчевой структуры в рамках более сложно структурированного произведения, уточним, что такое изменение жанровой стратегии как бы продлевает жизнь притчи и помогает ей утвердиться в художественном произведении: закрытая форма сменяется более открытой и предполагает куда больше количество толкований за счет текста, в который она инкорпорирована, даже не имеет значения, каким образом, напрямую или образно (ср. например, вставную новеллу «Повесть о капитане Копейкине» в «Мертвых душах» и притчу священника в «Процессе» Кафки и поэтику «Замка» как один большой роман-притчу). Нельзя просто сказать, что прямая вставка притчи делает ее ядром повествования, а формальное распространение ее на все пространство текста (разумеется, степень содержательности и важности притчевости не изменится, какой бы способ ни выбрал писатель) дает указание на несколько содержательных центров произведения; во-первых, отграниченная, имеющая характер вставки в основной текст ярче выражает свою нравственную первооснову, неважно, с неким выводом или без него, а во-вторых, такая тактика более интерактивна, чем «разлитая» по содержательному каналу притча. Читатель абсолютно точно заметит ее, не пройдет мимо, а значит, диалог с автором состоится с большей вероятностью.
Возможность неоднозначной интерпретации критически важна для экзистенциального мировоззрения авторов эпохи литературного модернизма, для которых характерна не уверенная декларация истины, а постоянное сомнение (например, «Тошнота» Сартра) или отчаянные искания («Замок» Кафки); кроме того, внутренний мир персонажа предстает более детально проработанным, что в произведении подчеркивается постоянной его рефлексией или желанием воссоздать определенную логическую цепь происходящего, но все попытки оборачиваются неудачей – мир абсурден, как абсурдна и сама экзистенция. Архаичная притча, являясь откликом на действительность, которую можно было объяснять догматически, давала не просто четкий и ясный ответ – но стратегию на любой поворот жизни, который был предсказуем в ее представлении. Указанное же выше относится к притче нового типа, которая называется параболой (различие между ней (die Parabel) и притчей классического типа (das Gleichnis) впервые было проведено усилиями немецких литературоведов, например Геро фон Вильпертом (Wilpert, 2001)).
К сожалению, в других языках различие между ней и притчей классического типа размыто; так, в английском parable – это и притча, и парабола. Парабола, реагируя на алогичную среду, будто бы потеряла возможность однозначного отклика на сумятицу внешних событий, зато, приравняв субъекта притчи – человека к тому, что раньше было объектом, – к миру, оказалась подвергнута некоторой интимизации, усилившей и изначально присущую ей адресность. Структурно парабола выглядит проще, но содержательно усложняется из-за того, что простые двухплановые аналогии классической притчи теряют свой приоритет. Сохраняя бинарность, то есть связь между контекстом притчи и той действительностью, на которую направлена ее назидательность, парабола связывает их уже напрямую, устраняя таким образом явный дидактизм тона. Видя страдания и медленное угасание Грегора Замзы из «Превращения», мы слишком живо представляем кризис бытия героя и безуспешные попытки справиться с ним. Психологизм в описании его чувств – в той или иной степени тактика борьбы с кошмаром, в который он погружен, и это передано очень живо и ярко, без ответа на волнующий вопрос, но главное здесь – это те тонкие различия в реакциях, многообразие и количество которых формирует экзистенциального человека. Бытийный вопрос, волнующий писателей первой половины XX в., таким образом, является тем связующим звеном, которое без существенных потерь соединило архаичную притчу и притчу нового образца – параболу, в ряде случаев не отказываясь, а по-новому осмысляя символику прошлого (хорошим примером является драма Сартра «Мухи»). Не вдаваясь в их анализ, хочется отметить показательную авторскую стратегию: с сохранением внешних рамок жанра – древнегреческой трагедии и простоты фабулы – образ Ореста как главного действующего лица очень сильно осложняется. Столкновение с фатумом выходит на новый уровень, и описанная выше реализация его, по сути, может быть использована как своеобразный канон произведения, исследующего экзистенциальную проблематику. Утверждение это несколько вольное, но оно помогает избавиться от предрассудка о притче как о жанре устаревшем и навсегда канувшем в лету; однако про относительную простоту фабулы, особенно в связи с упоминаемой выше спецификой ее у Гоголя, хочется отметить, что у модернистов она не является наиболее прихотливым элементом композиции. В абсолютном большинстве затрагиваемых нами произведений модернизма XX в. развертывание действия будет обеспечивать чередование эпизодов столкновения с окружающим миром и возникающих конфликтов, взывающих к самоанализу героя. У Гоголя же это выражено несколько сложнее, что связано, с учетом вышеописанной роли деталей в композиции, с предреалистическим, не совсем еще отошедшим от романтизма характером творчества писателя – персонажи представлены типизировано (хотя и не лишены ярких психологических черт, которые могут быть показаны опосредованно), но конфликт у Гоголя носит более скрытный характер. При этом его произведения так же тяготеют к параболическому началу из-за частого обращения к бытийной проблематике, являющейся истинным катализатором притчевости в произведении вообще.
Заключение
Гоголь как художник реализует достаточно сложную притчевую стратегию. Показательно то, как русский писатель, касаясь темы смерти – наивысшей степени трагического, последовательно движется от достойного к менее достойному (от погибшего Пискарева к здравствующему Пирогову в «Невском проспекте»), от живого к мертвому («Шинель») и достигает содержательной выразительности трагедии бытия за счет нужного композиционного распределения эпизодов и одновременно насыщения их отдельными деталями. Драма как Пискарева, так и Акакия Акакиевича как горькое повествование о холодной, жестокой несправедливости немыслима без чередования планов указанной нами антитезы и насыщения указанного противопоставления необходимыми деталями (достаточно вспомнить окончание злоключений Пискарева, описание его похорон, где все отражает отсутствие эмпатии к судьбе персонажа). Гоголь значительно усложняет притчевое содержание благодаря экспериментам с формой, которые поражают разнообразием: это и иерархия повествовательных планов в композиции произведения, на что мы только что указали, и оговоренная тенденция к генерализации и обобщению, особая роль деталей в повествовании. Какой бы загадкой не было содержание гоголевских произведений, поэтика их поражает сложностью формальной организации и задает притчевости неповторимый колорит, не отдаляясь сильно от притчевости классической (для Гоголя принципиально важна связь с христианством, предполагающим четкий ответ на поставленные вопросы), но и в чем-то превосходя структуру параболическую (амбивалентность, неоднозначность не только на уровне содержания, но и формы).
Говоря о функционировании притчи на дальнейших этапах развития литературы, можно сделать вывод, что в модернизме хорошо опознаваемую структуру притчи, пусть и претерпевающей указанные нами изменения, моделирует все-таки содержательный аспект, который обобщающим характером тематики обеспечивает стабильность обращения к притчевому началу, да и назидательное начало не исчезает, а подвергается серьезной мутации: теперь это не догматический взгляд на вещи, но агностицистический. Гоголь же, как мы выяснили, реализует притчевую стратегию со значительной опорой именно на форму литературного произведения, скрупулезным наполнением художественного мира конструируя сложную фиктивную реальность для воплощения притчевого контекста. Так, Роман Карст, сравнивая поэтики Гоголя и Кафки, справедливо подмечает, что «the basic difference is that Kafka makes illusion real while Gogol makes reality illusory ‒ the former depicts the reality of the absurd, the latter the absurdity of the real» (Karst, 1975, p. 74). И действительно, Кафка наблюдает абсурд жизни как выражение крайней ее неоднозначности и трагичности непосредственно, тем самым реализует свою притчевую стратегию параболического типа, делая присутствие такой стратегии в тексте явным, очевидным для читателя. Притчевость Гоголя менее очевидна в своей локализации в текстах писателя, она менее концентрирована и распределена между разными средствами художественной выразительности, что мы и попытались продемонстрировать. Указанное наблюдение, как представляется, может быть распространено и на других представителей модернизма (и экзистенциализм, в частности) при типологическом их сопоставлении с Гоголем.
Об авторах
Никита Михайлович Демидов
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Email: josefkessler.vonwissenstein@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0001-8336-4333
аспирант, кафедра теории литературы, филологический факультет
Российская Федерация, 119991, Москва, Ленинские горы, д. 1Олег Алексеевич Клинг
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Автор, ответственный за переписку.
Email: teolit@philol.msu.ru
ORCID iD: 0000-0003-1543-5253
Scopus Author ID: 57210864490
доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой теории литературы, филологический факультет
Российская Федерация, 119991, Москва, Ленинские горы, д. 1Список литературы
- Агранович С.З., Саморукова И.В. Гармония ‒ цель ‒ гармония. Художественное сознание в зеркале притчи. М.: МИСиС, 1997. 134 с.
- Белый А. Мастерство Гоголя: исследование. М.: МАЛП, 1996. 351 с.
- Литературная энциклопедия терминов и понятий / гл. ред. и сост. А.Н. Николюкин. М.: Интелвак, 2001. 1600 с.
- Манн Ю.В. Творчество Гоголя: смысл и форма. СПб.: Изд-во Санкт-Петербургского университета, 2007. 744 с.
- Набоков В. Лекции по русской литературе / пер. с англ. С. Антонова, А. Курт, Е. Голышевой, Г. Дашевского, И. Клягиной, Е. Рубиновой. СПб.: Азбука: Азбука-Аттикус, 2018. 448 с.
- Glyantz V. The sacrament of end: the theme of apocalypse in three works by Gogol // Shapes of Apocalypse: Arts and Philosophy in Slavic Thought. Academic Studies Press, 2013. Pp. 89–121. https://doi.org/10.2307/j.ctt1zxshsh.10
- Karst R. The reality of the absurd and the absurdity of the real: Kafka and Gogol // Mosaic: A Journal for the Interdisciplinary Study of Literature. 1975. Vol. 9. No. 1. Pp. 67–81.
- Kelly M.R. Navigating a landscape of dead souls: Gogol and the Odyssean road // New Zealand Slavonic Journal. 2005. Vol. 39. Pp. 37–61.
- Lodge K. The semiotics of Gogol’s “Dead Souls” // Ulbandus Review. 2002. Vol. 6. Pp. 69–84.
- Pospíšil I. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské university // D, Řada literárněvědná. 1994. No. 43. D41. S. 91‒100.
- Wilpert G. Sachworterbuch der Literatur. Stuttgart, 2001. 865 s.
Дополнительные файлы