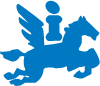Пушкин в литературных манифестах 1920 гг.
- Авторы: Овчаренко А.Ю.1, Шапринская Е.А.1
-
Учреждения:
- Российский университет дружбы народов
- Выпуск: Том 30, № 4 (2025): ПУШКИН В СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
- Страницы: 738-749
- Раздел: Литературоведение
- URL: https://journals.rudn.ru/literary-criticism/article/view/47794
- DOI: https://doi.org/10.22363/2312-9220-2025-30-4-738-749
- EDN: https://elibrary.ru/OYEIOH
- ID: 47794
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Цель исследования - раскрыть своеобразие рецепции пушкинского мифа в условиях послереволюционной культурной трансформации, когда наследие поэта подвергалось как упрощенным трактовкам, так и глубокому творческому переосмыслению. Анализируя критические работы В.Ф. Ходасевича, Б.В. Томашевского и О.Э. Мандельштама, мы указываем на предостережения этих авторов против канонизации Пушкина, превращения его в «эстетический шлагбаум», заслоняющий живую традицию. Центральное место в исследовании занимает анализ эстетики «Перевала», где пушкинские принципы - свобода творчества, органичность, гуманизм - переосмыслялись сквозь призму переломной эпохи. Перевальцы противопоставляли вдохновенное творчество утилитаризму Пролеткульта, развивая традиции медитативной лирики (стихи Д. Семёновского, Н. Зарудина, М. Голодного и др.). В их произведениях обнаруживаются аллюзии на пушкинские мотивы («Пророк», «Деревня»), но с учетом трагизма современности. Введенный перевальцами философско-эстетический термин «трагедийность» был, по их мнению, основной настоящего искусства. Делается вывод, что перевальцы видели в классике не «прах» прошлого, а живые «семена» для будущего, преемственность культуры. Намечаются перспективы дальнейшего изучения рецепции Пушкина в литературе «больших двадцатых», подчеркивается актуальность его наследия для понимания динамики литературного процесса эпохи.
Полный текст
Введение
Предложенный в 1967 г. Ю. Кристевой термин «интертекстуальность»[1], относившийся к текстам различной природы, трансформировался, и с наступлением эпохи Web 2.0 мы говорим уже о гипертексте – «открытой структуре» – по отношению к литературе. Хотя еще в 1934 г. в письме В. Ходасевичу М. Цветаева писала: «… я давно перестала делить стихи на свои и чужие, на „тебя“ и „меня“. Я не знаю авторства»[2]. Интертекстуальность как ключевое свойство искусства проявляется и в способности художественных текстов вступать в диалог с предшествующей культурной традицией, переосмысляя и трансформируя ее элементы – то, что Жан Женетт называл архитекстуальной текстуальностью и литературностью литературы (Genette, 1982). В этом контексте особое значение приобретает фигура А.С. Пушкина, чье творчество, по меткому замечанию теоретика Содружества «Перевал» Абрама Лежнева, «раскрыто не в прошлое, а в будущее». И задачу историка литературы он видел не только в том, «…чтобы вставить писателя в эпоху, но и в том, чтобы понять, почему он сохранил и за ее пределами жизнь и действенность в то время, как почти все, что было рядом, занесено равнодушием и забвением…»[3].
Действительно, влияние Пушкина на литературу XIX–XXI вв. остается предметом активных научных дискуссий, особенно в аспекте рецепции его мотивов, образов и эстетических принципов, образа самого поэта в русском историко-литературном и общественном сознании последующими поколениями писателей[4]. На наш взгляд, важно обратить внимание на генезис составляющих пушкинского мифа в русской культуре (что требует отдельного исследования), своеобразными вехами которого стали пушкинская речь Ф.М. Достоевского (1880), венчавшая празднование пушкинских дней[5], открытие памятника Пушкину в Москве, Дни памяти поэта в 1937 г.
После революции 1917 г. возникает феномен, который В.Ф. Ходасевич в «Колеблемом треножнике» (1921) обозначил как «второе затмение» Пушкина. По справедливому замечанию автора, все чаще можно заметить незнание личности и творчества великого поэта[6]. Рассуждения об этом явлении, охватившем послереволюционное поколение читателей и писателей, получает развитие и в других его статьях: «Безглавый Пушкин. Диалог» (1917), «Бесславная слава» (1918), «Окно на Невский» (1922). В последней статье В.Ф. Ходасевич предостерегает от упрощенного восприятия пушкинского наследия как некого неприкосновенного канона: «Знамя с именем Пушкина должно стоять вертикально: да не будет оно чем-то вроде эстетического шлагбаума, бьющего по голове всякого, кто хочет идти вперед. Пушкин не преграждает пути, он его открывает»[7]. Против сведения поэзии Пушкина к абстрактным «мыслям», лишенным живого творческого контекста, выступал Б.В. Томашевский (1925, с. 65, 68), призывая в гуманитарных науках перестать вообще оперировать с непреложностями, «канонами», догмами и т.п. О.Э. Мандельштам, говоря о «поэтической грамотности», остроумно заметил: «Искажение поэтического произведения в восприятии читателя – совершенно необходимое социальное явление, бороться с ним трудно и бесполезно: легче провести в СССР электрификацию, чем научить всех грамотных читать Пушкина, как он написан, а не так, как того требуют их душевные потребности и позволяют их умственные способности»[8]. Эти опасения были небеспочвенны: достаточно взглянуть на выпуск «Литературной газеты» от 10.02.1937 (Молок, 2000), посвященный столетию со дня смерти поэта – «Славе нашей родины», «Светлому разуму» и «Любимому поэту Ленина». Именно в этом году произошло «огосударствление» поэта: Пушкин, вслед за В. Маяковским, окончательно стал частью нового ментального советского пространства.
В этом юбилейном выпуске «Литературной газеты» от 10.02.1937 по соседству с интересными и сегодня статьями С. Маршака («Право на высокое искусство»), А. Фадеева («Светлый разум»), В. Герасимовой («Пушкин писал просто»), встречаются и те, где пушкинский гуманизм парадоксально, но для тех лет объяснимо, сравнивается с маратовским («В истории русской литературы до такого маратовского понимания литературы подымались до и после Пушкина лишь немногие, самые передовые деятели освободительного движения»[9]), где простота и ясность его текстов трактуется как стремление к большей обличительности произведений, что закономерно сужает художественный потенциал образов: «Для того должен непременно каждый закон таким образом быть написан, чтобы он никаких толков не требовал, никаких недоразумений не допускал <…> Это писалось Пестелем о языке государственных актов. Но требования «ясности», «понятности» <…> пред’являлись декабристами и к художественной литературе и были тесно связаны с защитой ими права художника говорить правду о современной им действительности»[10]. Здесь и сам поэт превращается в абстрактную категорию, инструмент, о чем писал К. Федин: «Пушкин был главным, обильнейшим потоком русской реалистической литературы XIX века … Наша литература проверяет себя на Пушкине … корректирует свой труд Пушкиным»[11]). Создается тот самый «эстетический шлагбаум», о котором говорил В. Ходасевич[12].
Мы не ставим целью описать и проанализировать все существующие трактовки пушкинского творчества в историко-литературном процессе первой трети XX ст. (Шеметова, 2011). Нас интересует иной аспект: благодаря каким принципам, несмотря на противоречивые и даже тенденциозные интерпретации, широко известная и достаточно изученная тема «Футуристы и Пушкин» (Григорьев, 2000), творчество Пушкина, особенно после 1917 г., сохраняло свою значимость и для литературы, и для общества. Хрестоматийные строки «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» обретают особый смысл: этим памятником стал сам пушкинский миф – представление о поэте как о «солнце русской поэзии». Пушкин поднимает читателя до уровня своего «светлого разума», с удивительной смелостью и «целомудренностью» раскрывая всю полноту человеческих чувств. Поэтому у каждого возникает «свой» Пушкин, как пишет В.Ф. Ходасевич в «Колеблемом треножнике»: «Ведь как только мы заговорим о Пушкине, так и окажется, что у каждого из нас свой Пушкин, перед которым мы преклоняемся одинаково благоговейно, но не по одинаковым причинам»[13].
Особый интерес представляет вопрос о том, как воспринимали пушкинское наследие не только отдельные писатели или критики, но и целые литературные группы 1920 гг. Такой подход позволяет лучше понять, как жил и трансформировался пушкинский миф (Цвигун, Черняков, 2020) в этот период «больших двадцатых годов», а также показать, что подлинными продолжателями пушкинской традиции нередко оказывались те авторы, кто оставался и, к сожалению, продолжает оставаться в тени «литературных генералов».
Манифесты литературных групп и пушкинский миф
Литературный манифест[14] к 1920 гг. стал не просто жанром, а формой литературной саморефлексии и эстетической полемики (Пахсарьян, 2018, с. 38). Он служил пространством для провозглашения новых художественных установок, самопозиционирования, декларирования эстетической программы, утверждения группового начала, борьбы с конкурентами (Савельева, Критская, 2023, с. 50–58). Особенно выразительной была перформативная природа манифеста, где «утверждение некоторого тезиса совпадает в нем с самим актом высказывания этого тезиса» (Цвигун, Черняков, 2024, с. 63). Принципиально важно, что в этих текстах действовал коллективный субъект: «„мы“ коллективного субъекта высказывания» становилось основной позицией новых движений (Цвигун, Черняков, 2024, с. 62). Такое «мы» – «они» – оппозиция новаторов и традиционалистов («архаистов и новаторов» в терминологии Ю.Н. Тынянова) – проявляется на уровне грамматической структуры и риторики (Цвигун, Черняков, 2024, с. 63). В манифестах футуристов, имажинистов и других групп Пушкин не только вспоминается, но и становится символом, с которым необходимо соотнестись, – чаще через отрицание. Это подтверждает, что даже в момент разрыва с традицией Пушкин продолжает «работать» как культурная точка отсчета, пусть и в виде сложного полемического образа.
В эпоху «больших двадцатых годов» сформировалось новое отношение к творчеству поэта, новые, невозможные ранее оценки, переосмысление новыми литературными силами – Пролеткульт провозгласил поэта союзником в борьбе за поэзию активного действия против «ночных филинов, кукушек», символистов, буквально понимая смысл классической фразы «солнце нашей поэзии», – «Он с нами, лучезарный Пушкин»[15].
Однако малоисследованными остаются манифесты литературных групп 1920 гг.: «Серапионовых братьев», менее известных люминистов, биокосмистов, формлибристов и Содружества писателей революции «Перевал». Эти манифесты демонстрируют разнообразные формы взаимодействия с пушкинской традицией. Например, люминисты, последовательно «разоблачая» символистов, акмеистов и футуристов, провозгласили в своем манифесте[16], что Солнце (Lumen) – первооснова творчества. Эта концепция неосознанно воспроизводила устойчивый культурный образ «Солнца русской поэзии», показывала мотивные пересечения с контекстным полем пушкинского мифа, переосмысленного в рамках новой эстетической программы.
Аналогичным образом формлибристы и биокосмисты актуализировали пушкинский принцип органичности (в развитии дихотомии Ап. Григорьева «рожденность/сделанность»). Формлибристы понимали органичность как синтез стиха и способа выражения, или организма, «ухоглаза»[17].
Биокосмисты же воспринимали искусство как ряд образов: без ряда, то есть порядка-космоса, возможен только хаос. Слово раскрывается, творится в ряду, вне его оно обыденно и пусто. И далее важная для наших рассуждений мысль о связи словесных рядов, фактически об интертекстуальности, о диалоге в «большом времени»[18] и с литературной традицией, о выработке нового языка: «Ряды расцвечают слова, заостряют их, упружат, разнообразят. Творческая воля креатора заставляет слова в ряду бывать по-иному. Слова в ряду – это форма, меняющая объем и содержание, тут одно и то же слово попадает на разные полки. В ряду слова играют конкретным, как мячами. Творчество словесных рядов – это преображение и воскрешение слов»[19] (Святогор, 2017, с. 90).
Представляет интерес и мотив братства, вынесенный в название группы «Серапионовых братьев». Он перекликается с пушкинским стихотворением «Во глубине сибирских руд…», с пятью стихотворениями на лицейскую годовщину, особенно «19 октября», с его хрестоматийными строчками: «Друзья мои, прекрасен наш союз!». Но «Серапионовы братья» не ограничивались своей эпохой в поисках образов или персонажей, которые могли бы выразить их идеи. Так, например, Л.Н. Лунц в пьесе «Бертран де Борн» обратился, немного изменив ее, к истории средневекового трубадура – неоднозначного персонажа, который тем не менее оказывается выразителем духа свободы, недолго преобладающего в первой половине 1920 гг.[20] Однако в их творчестве не было прямого и осознанного обращения к пушкинскому мифу, который мы видим как в художественных произведениях перевальцев, так и в их критических статьях и программных документах.
Важно, что сама идея солидарности нового творческого сообщества («Серапионовы братья», «Содружество», Содружество писателей революции «Перевал») оказывается глубоко созвучна пушкинской эпохе.
«Не классический, а живой» – перевальцы и Пушкин
Литературно-общественная позиция любой литературной группы, выраженная в манифестах, декларациях или художественных текстах, – неотъемлемая и значимая часть историко-литературного процесса 1920–1930 гг.
Наиболее последовательное переосмысление пушкинской традиции, особенно формирующегося пушкинского мифа, находим в творчестве Содружества писателей революции «Перевал». Теоретик «Перевала» Д. Горбов (1929, с. 2) писал: «…поэт-классик в представлении большинства – это поэт, творчество которого „отошло“ целиком в прошлое, мумифицировалось, затвердело и в этом затверделом виде стало необходимой принадлежностью обстановки в каждом „приличном“, претендующем на культурность доме». Перенося, вслед за А. Блоком, диалог поэта и черни в новые исторические условия, Д. Горбов прямо указывал, что требование черни «…от художника „смелых уроков“ при жизни Пушкина не было ничем иным, как попыткой переложить на художника, живущего активной творческой жизнью, всю ответственность за их собственную косность, попыткой оправдать их собственное самодовольство. … Они канонизировали Пушкина, сделав его классическим украшением своих книжных шкапов, и тем самым купили себе право забыть о содержании его творчества».
Важно отметить, что программными высказываниями в эпоху 1920 гг. становятся не только манифесты, но и проза, отдельные стихотворения и даже жанры – стансы С. Есенина (1924) и Б. Пастернака («Столетье с лишним – не вчера», 1931), формирующие художественные принципы как отдельных авторов, так и целых направлений (Симян, 2013).
Художественная философия «Перевала» – достаточно самобытная система представлений о творчестве, основанная в первую очередь на сохранении эстетической преемственности поколений. Ее форма – «моцартианство» – противопоставление творчества мастерству, понимаемому перевальцами как умелое, но не искреннее ремесло, противопоставление творца, находящегося в органической связи с миром, ремесленнику, которым был «Левый фронт искусств» (ЛЕФ). «Моцартианство» предполагает необходимость освоения (точнее усвоения) большой, без изъятий, культуры (в том числе и эстетической), ви́дение мира, возведенное в степень искусства, смелость художника быть самим собой и искренность[21].
Перевальцы вслед за Пушкиным видели в художнике не просто умелого мастера, а свободного творца, глубоко связанного с миром. Эта идея, восходящая к пушкинскому пониманию поэзии как стихийного дара, выделяющего творца из толпы, выраженная в хрестоматийных строках «Ты – царь: живи один», была развита А. Лежневым в его последней прижизненной книге «Проза Пушкина. Опыт стилевого исследования» (1937). Лежнев показывает, что наиболее полной реализацией цельной личности является Моцарт – символ художника, находящегося в глубинной, органической связи с миром (Лежнев, 1937). Воплощением «моцартианства» стала повесть П. Слётова с программным названием «Мастерство» (1930). «Повесть Слётова о скрипичном мастере – глубоко перевальская вещь. На нашем знамени – победа моцартианства над сальеризмом, творчества над ремеслом, художества над мастерством. У Сальери в лучшем случае – лишь мертвая вода. Она может заставить срастись разрубленные анализом части. Но для того, чтобы искусство стало жить, дышать, двигаться, нужна живая вода. А она есть только у Моцарта» (Лежнев, 1930, с. 15).
Художественная философия Содружества строилась на свободе творчества, гуманизме и трагедийном восприятии действительности: «Трагедийно искусство Бетховена, но это величайшее по жизнеутверждению искусство. Трагический конфликт в нем разрешается победой воли, радости, энтузиазма. Трагедийное искусство – то, которое берет основные конфликты эпохи, ставит их во всей глубине и значительности, не урезывая их, не смягчая, не боясь их резкости, и старается их так или иначе развязать» (Лежнев, 1930, с. 17–18). Эти принципы перекликались с пушкинскими: как и он, перевальцы считали, что искусство – особый способ познания мира, требующий внутренней свободы и ответственности художника. Они отвергали утилитарный подход Пролеткульта, «Кузницы» и «литературу факта» ЛЕФ, где поэзия часто сводилась к воспеванию машин и труда. Вместо «железного мессии» или «певца труда и машин» их лирический герой – «мудрый в глупости поэт» (прямая отсылка к пушкинскому «поэзия… должна быть глуповата»[22]), чуткой к «музыке мира»[23] и природной гармонии.
Программные стихи ведущих поэтов «Перевала» посвящены именно этой теме – «Мой стих», «Поэту» (1926) М. Голодного, «Поэт» (1927) Д. Семёновского, «Поэту» (1932) С. Спасского, «Жизнепеснь» (1924), «Поэт» (1924) П. Дружинина, «Творчество» (1924) Н. Зарудина и др.
«К старинной птице чужого поэта / Милую свежесть щек приложи. / Чтоб познать ее по-иному»[24], – пишет Н. Зарудин в первом стихотворении сборника «Полем-юностью. Избранная лирика» (1928) под названием «И снова подснежники (С первой птицей)». Механизм рецепции пушкинского мифа, принципов творчества поэта – все это заключено в зарудинской поэтической формуле, строящейся на простоте и ясности. Еще более явно эта позиция проявляется в другом программном стихотворении, где Пушкин возникает как поэт, «благословляющий» своих последователей. Однако он не бронзовый памятник, а живой, «неугомонный» человек; «Моцарт», вдохновляющий на живое восприятие мира, выраженное в синестетической метафоре яркого запаха плода-стихотворения: «Пусть нам неугомонный Пушкин, / Благословенны потные труды: / Тогда из каждой липовой кадушки / Пахнут роскошные и пряные плоды»[25].
Органичностью в самом пушкинском смысле этого слова дышат строки Д. Семёновского «Поэт»: «Чем жизнь на меня наседает лютей, / Чем горче мои потери, / Тем злей ненавижу я муки людей, / Тем ближе мне птицы и звери»[26]. Здесь нет сатиры М.Ю. Лермонтова, «видного миру смеха и незримых, неведомых ему слез» Н.В. Гоголя[27], здесь – дух «Деревни», уединения пушкинского героя. «Цветок, растерявший свои лепестки, / Бедняк, позабывший удачу, / От нежности, радости, грусти, тоски / Я плачу»[28], – слезы лирического героя вызывают именно общечеловеческие, а не классовые чувства, не революционный пафос – это принципиальная позиция «Перевала», противопоставлявшая свою поэтику накатившейся на искусство «волне сальеризма»[29].
В книге «Новые стихотворения» (1928) М. Голодного среди ряда других выделяется наполненный пушкинским пафосом «Мой стих» (1924) и «Поэту». У М. Голодного поэт не ищет праздных развлечений, он отдает всего себя творчеству, его задача, как и пушкинского Пророка, побудительная: «Зови, веди, организуй, поэт!». О своем стихе он говорит: «Я с ним брожу / Вдоль старых стен / И жадно вглядываюсь в тьму. / Он слышит / Запах перемен, / Пока неслышных никому. / Пространств высоких / Смутный гул, / Движенья вихрь / И блеск огня, / Отображаясь в нем, пройдут / Через меня / И от меня»[30]. Смутный гул, движенья вихрь и блеск огня, которые «отображаются» в строках и рифмах поэта также становятся и отражением видений «Пророка» А.С. Пушкина: «Моих ушей коснулся он, – / И их наполнил шум и звон: / И внял я неба содроганье, / И горний ангелов полет»[31]. В строках «И в час, / Когда веселый гром / К победе призовет живых, / Паду я на земле бойцом, / И рядом – / Мой последний стих»[32] знается аллюзия на пушкинского пророка, которому велено «восстать» и «глаголом жечь сердца людей». Однако М. Голодный, живущий в XX в. и прошедший испытания Гражданской войны, литературной войны с Пролеткультом, Всероссийской ассоциацией пролетарских писателей и ЛЕФ, уже не верит в свое воскресение, потому лирический герой «больших двадцатых падает», оставив свои стихи на суд потомков. Утопичной была попытка перевальцев соединить несоединимое – искренность и «моцартианство» – с официальной идеологией, от которой они не хотели отступать. В этом вся, говоря словами А. Лежнева, «трагедийность» положения перевальцев, не осознававших свою обреченность к 1930 гг. в новых историко-политических условиях.
Заключение
Важнейшим аспектом эстетики «Перевала» стала преемственность культуры, отрицавшая утилитарную «учебу у классиков». В отличие от радикальных современников, призывавших «Бросить Пушкина, Достоевского, Толстого и прочих с Парохода Современности», перевальцы видели в прошлом не «прах», не строительный материал, а «семена», которые нужно взрастить. Эта метафора перекликается с пушкинским образом «свободы сеятеля пустынного» – художника, чье слово, даже если оно не сразу понято, способно дать всходы в будущем. Неслучайно образ зерна так важен в поэтическом языке начала 1920 гг. – от книги В. Ходасевича «Путем зерна» (1920) до пролетарских и комсомольских поэтов, которые образовали Содружество «Перевал».
Многие современники перевальцев не разделяли этой позиции, однако именно в ней заключен не простой поиск следов пушкинского мифа в постреволюционном мире, где прежние основы разрушены, а новые только намечены; главное в стремлении перевальцев сохранить связь времен, обнаружив в ней ключи к живому, ясному творчеству А.С. Пушкина. Перевальское «моцартианство» как общее, идущее от А. Пушкина и декларируемое современниками «Перевала» Е. Замятиным, О. Мандельштамом, М. Бахтиным и др., ви́дение миссии поэта и его ответственности имеет сегодня не только историческое, но общественное и эстетическое значение.
1 Ямпольский М. Памяти Тересия: интертекстуальность и кинематограф. М. : РИК Культура, 1993. C. 32–40.
2 Цветаева M. Письмо В.Ф. Ходасевичу. Май 1934 // Собрание сочинений : в 7 томах. Т. 7. М. : Эллис Лак, 1995. С. 446.
3 Лежнев А.З. Вместо пролога // Ровесники. Сборник 7 Содружества писателей революции «Перевал». М. ; Л. : Земля и фабрика, 1930. С. 381–382.
4 См.: Орлицкий Ю.Б. Пушкин с нами? // Новое литературное обозрение. 1999. № 36(2). С. 235–261.
5 См.: Левитт Маркус Ч. Литература и политика: Пушкинский праздник 1880 года. СПб. : Академический проект, 1994. 265 с.
6 Ходасевич В.Ф. Собрание сочинений : в 4 томах. Т. 2. Записная книжка. Статьи о русской поэзии. Литературная критика, 1922–1939. М. : Согласие, 1996. С. 81.
7 Ходасевич В.Ф. Собрание сочинений : в 4 томах. Т. 1. Стихотворения. Литературная критика, 1906–1922. М. : Согласие, 1996. С. 490.
8 Мандельштам О.Э. Выпад // Полное собрание сочинений и писем : в 3 томах. Т. 2. М. : Прогресс-Плеяда, 2010. С. 151.
9 Левин Ф. Родоначальник великой русской литературы // Литературная газета. 1937. 10 февраля. № 8(644). С. 2.
10 Мейлах Б. Создатель русского литературного языка // Литературная газета. 1937. 10 февраля. № 8(644). C. 2.
11 Федин К. Да здравствует Пушкин // Литературная газета. 1937. 10 февраля. № 8(644). C. 3.
12 Ходасевич В.Ф. Собрание сочинений : в 4 томах. Т. 1. Стихотворения. Литературная критика, 1906–1922. М. : Согласие, 1996. С. 490.
13 Ходасевич В.Ф. Собрание сочинений : в 4 томах. Т. 2. М.: Согласие, 1996. С. 81.
14 Эйхенгольц М.Д. Манифесты (художественно-литературные) // Литературная энциклопедия : Словарь литературных терминов : в 2 томах. Т. 1. А–П. М. ; Л. : Изд-во Л.Д. Френкель, 1925. Стб. 430.
15 Кириллов В. Жрецам искусства // Пролетарские писатели : Антология пролетарской литературы / сост. С. Родов, под общ. ред. П.С. Когана. М. : Гос. изд-во, 1924. С. 319–320.
16 От символизма до «Октября» : сборник / сост. Н.Л. Бродский и Н.П. Сидоров. М. : Новая Москва, 1924. С. 227–233.
17 Там же. С. 236.
18 Бахтин М.М. Ответ на вопрос редакции журнала «Новое время» // Собрание сочинений : в 6 томах. М. : Русские словари, 1996. С. 454.
19 См.: Шкловский В.Б. Воскрешение Слова. СПб. : типография З. Соколинского, 1914. 16 с.
20 Лунц Л. «Обезьяны идут!». Проза. Драматургия. Публицистика. Переписка. СПб. : ИНАПРЕСС, 2003. С. 169–214.
21 См.: Овчаренко А.Ю. Философско-эстетическая концепция художественного творчества «Перевала» // Мост в будущее. Творческий путь Содружества писателей революции «Перевал». М. : Экон-Информ, 2023. С. 47–89.
22 Пушкин А.С. Собрание сочинений : в 10 томах. Т. 9. Письма, 1815–1830. М. : ГИХЛ, 1962. С. 232.
23 Перевал : Литературно-художественный альманах. Сборник. М. ; Л. : Государственное издательство, 1928. С. 70.
24 Зарудин Н.Н. Полем-юностью. Избранная лирика. М. : Артель писателей «Круг», 1928. С. 5–6.
25 Там же. С. 59–60.
26 Перевал : Литературно-художественный альманах. Сборник. М. ; Л. : Государственное издательство, 1928. С. 70.
27 Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений : в 10 томах. Т. 6. Мертвые души. Ч. 1 / ред. Н.Ф. Бельчиков [и др.]. М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1951. С. 134.
28 Перевал : Литературно-художественный альманах. Сборник. М. ; Л : Государственное издательство, 1928. С. 70.
29 Лежнев А. Вместо пролога // Ровесники. Сборник Содружества писателей революции «Перевал». М. : Земля и фабрика, 1930. С. 12.
30 Голодный М.С. Новые стихи. М. : Молодая гвардия, 1928. С. 25–26.
31 Пушкин А.С. Полное собрание сочинений : в 10 томах. Т. 2. Стихотворения. 1820–1826. Л. : Наука, 1977. С. 34.
32 Голодный М.С. Новые стихи. М. : Молодая гвардия, 1928. С. 26.
Об авторах
Алексей Юрьевич Овчаренко
Российский университет дружбы народов
Автор, ответственный за переписку.
Email: ovcharenko_ayu@pfur.ru
ORCID iD: 0000-0002-8544-5812
доктор филологических наук, профессор кафедры русского языка и лингвокультурологии, Институт русского языка
Российская Федерация, 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 10, корп. 3Елизавета Андреевна Шапринская
Российский университет дружбы народов
Email: shaprinskaya_ea@pfur.ru
ORCID iD: 0009-0004-6127-0116
SPIN-код: 7796-7778
лаборант кафедры русского языка и лингвокультурологии, Институт русского языка
Российская Федерация, 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 10, корп. 3Список литературы
- Горбов Д. Не классический, а живой // Красная нива. 1929. № 24. С. 2–3.
- Григорьев В.П. Хлебников и Пушкин // Будетлянин. М. : Языки русской культуры, 2000. С. 169–183.
- Лежнев А.З. Проза Пушкина: Опыт стилевого исследования. М. : Гослитиздат, 1937. 415 с.
- Лежнев А.З. Разговор в сердцах: статьи о литературе. М. : Федерация, 1930. 256 с.
- Молок Ю.А. Пушкин в 1937 году: материалы и исследования по иконографии. М. : Новое литературное обозрение, 2000. 266 с.
- Пахсарьян Н.Т. Литературный манифест: содержание и эволюция понятия // Вiсник унiверситету iменi Альфреда Нобеля. Серiя Фiлологiчнi науки. 2018. Т. 15. № 1. С. 38–43. https://doi.org/10.32342/2523-4463-2018-0-15-38-43
- Савельева М.С., Критская Н.А. Манифесты русского модернизма. Особенности жанра // Культура и искусство. 2023. № 3. С. 50–58. https://doi.org/10.7256/2454-0625.2023.3.39936
- Святогор. Биокосмическая поэтика (Пролог и градус первый) // Поэтика. Биокосмизм. (А)теология. М. : Common place, 2017. C. 86–94.
- Симян T.С. К проблеме манифеста как жанра: генезис, понимание, функция // Критика и семиотика. 2013. № 2(19). С. 130–148.
- Томашевский Б.В. Пушкин. Современные проблемы историко-литературного изучения. Л. : Культурно-просветительное трудовое товарищество «Образование», 1925. 134 с.
- Цвигун Т.В., Черняков А.Н. Авангардистский манифест как высказывание // Новый филологический вестник. 2024. № 4(71). С. 57–67. 10.54770/20729316-2024-4-57' target='_blank'>https://doi.org/doi: 10.54770/20729316-2024-4-57
- Цвигун Т.В., Черняков А.Н. «Нам стоять почти что рядом»: Пушкин как персональный миф русского авангарда // Слово.ру: балтийский акцент. 2020. Т. 11. № 2. С. 69–79.
- Шеметова Т.Г. Биографический миф о Пушкине в русской литературе советского и постсоветского периодов: автореф. дис. ... д-ра филол. наук. М. : МГУ им. М.В. Ломоносова, 2011. 50 с.
- Genette, G. Palimspestes: La Littérature au Second Degré. Paris : Éditions du Seuil, 1982. 467 р.
Дополнительные файлы