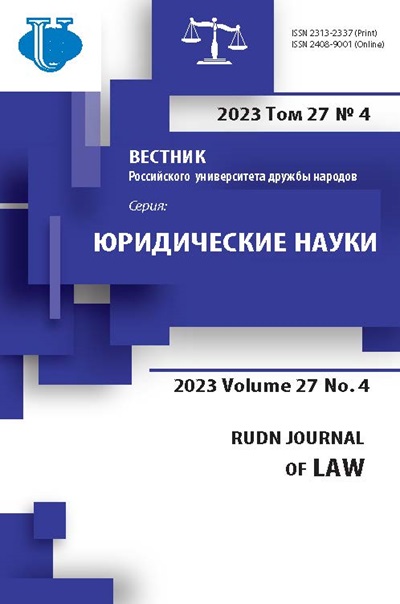Local communities as а tool for urban conflict resolution
- Authors: Larichev A.A.1, Soldatova L.V.1, Tabolin V.V.1
-
Affiliations:
- National Research University Higher School of Economics
- Issue: Vol 27, No 4 (2023)
- Pages: 902-918
- Section: CONSTITUTIONAL AND MUNICIPAL LAW
- URL: https://journals.rudn.ru/law/article/view/36894
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-2337-2023-27-4-902-918
- EDN: https://elibrary.ru/EBRUPM
- ID: 36894
Cite item
Full Text
Abstract
A modern city is a concentration of a whole range of diverse processes and activities, residents with different needs, traditions and beliefs. The city is also an arena of clashing economic, political and social interests. Urban development trends are expressed both in the need for centralized determination of the direction of urban environment, and public demand for greater civic engagement. Accordingly, conflicts cannot be avoided, but it is important not to accept this obvious truth, but to create a tradition of constant thoughtful analysis of ongoing processes, identifying causes and searching for solutions. As awareness of the importance of collective efforts in creating a comfortable urban environment grows, knowledge about the approaches and public technologies used to resolve urban conflicts becomes more in demand. One of the effective tools for resolving urban conflicts are local communities created on sub-municipal territories within the city boundaries. However, the effectiveness of this tool depends on the proper organization of intra-urban communities and provision of legal guarantees for their functioning. This study is carried out using a comprehensive interdisciplinary approach, implying the analysis of urban development and urban environment through the prism of law. The study of Russian and foreign doctrinal sources, along with normative legal acts and materials of judicial and law enforcement practice, allows to form a sufficient picture of the state of urban conflictology and substantiate the role of local communities in their resolution.
About the authors
Alexander A. Larichev
National Research University Higher School of Economics
Author for correspondence.
Email: alexander.larichev@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-6452-6787
SPIN-code: 5047-7453
Doctor of Legal Sciences, Associate Professor, Full Professor of the Department of Public Law, Deputy Dean for Research, Faculty of Law
3, Bolshoy Trekhsvyatitelsky lane, Moscow, 109028, Russian FederationLarisa V. Soldatova
National Research University Higher School of Economics
Email: lvsoldatova@hse.ru
ORCID iD: 0000-0001-7731-4153
SPIN-code: 4397-5682
Candidate of Legal Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Public Law, Faculty of Law
3, Bolshoy Trekhsvyatitelsky lane, Moscow, 109028, Russian FederationVladimir V. Tabolin
National Research University Higher School of Economics
Email: tabolin@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-2418-8189
SPIN-code: 7856-6333
Doctor of Legal Sciences, Full Professor, Full Professor of the Department of Public Law, Faculty of Law
3, Bolshoy Trekhsvyatitelsky lane, Moscow, 109028, Russian FederationReferences
- Anisimov, N.O. (2020) On the content of the concept of urban conflict. Nauka. Art. Culture. 1(25), 187-197. (in Russian).
- Argenbright, R. (2016) Moscow under Construction: City building, place-based protest, and civil society. Lanham, MD, Lexington Books.
- Benford, R. & Snow, D. (2000) Framing Processes and Social Movements: An Overview and Assessment. Annual Review of Sociology. (26), 611-639.
- Bezvikonnaya, E.V. (2018) The category of local community in the structure of self-management: a historical and conceptual analysis. Society: politics, economics, law. (7), 10-16. https://doi.org/10.24158/pep.2018.7.1. (in Russian).
- Chihladze, L.T. & Friesen, O.A. (2022) Implementation of the constitutional provisions on a unified public authority in the Russian Federation. RUDN Journal of Law. 26(1), 7-24. https://doi.org/10.22363/2313-2337-2022-26-1-7-24 (in Russian).
- Glukhova, A.V., Kolba, A.I. & Sokolov, A.V. (2017) Political-institutional and communicative aspects of interaction of subjects of urban conflicts (based on the materials of an expert survey). Man. Community. Management. 18(4), 44-65. (in Russian).
- Glukhova, A.V., Kolba, A.I. & Sokolov, A.V. (2018) Urban conflict as an object of research and political management: problems of conceptualization. Proceedings of Voronezh State University. Series: History. Political science. (4), 5-12. (in Russian).
- Ivanov, O.B. (2020) Urban conflicts: typology and mediation. Power. 4, 99-104. (in Russian).
- Ivanov, O.B. & Ilyinskaya, Yu.I. (2017) Mediation in urban conflicts. Urbanistics. (2), 1-10. https://doi.org/10.7256/2310-8673.2017.2.22594 (in Russian).
- Kathi, P.C. & Cooper, T.L. (2005) Democratizing the administrative state: connecting neighborhood councils and city agencies. Public Administration Review. 65(5), 559-567. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2005.00483.x
- Khokhlov, A.S. (2014) Conflictology. History. Theory. Practice: a textbook. Samara, SF GBOU VPO MSPU Publ. (in Russian).
- Kolba, A.I. (2020) The study of regional and urban political conflicts: basic concepts and prospects for the development of subdisciplines. Political Science. (3), 52-73. https://doi.org/10.31249/poln/2020.03.03 (in Russian).
- Kovaleva, T.N. (2014) Social factors of dehumanization of modern urban space. Society: philosophy, history, culture. (2), 17-19. (in Russian).
- Larichev, A.A. & Markwart, E. (2020) Local communities as a tool for the development of general municipal democracy: the experience of Germany and lessons for Russia. Comparative Constitutional Review. 5 (138), 80-81. https://doi.org/10.21128/1812-7126-2020-5-74-88 (in Russian).
- Larichev, A.A. & Vinogradov, V.A. (2021) The city and urban communities: legal and urban aspects of the correlation of the whole and the part. Municipal property: economics, law, management. (2), 30-35. doi: 10.18572/2500-0349-2021-2-30-35. (in Russian).
- Lazarev, V.N. (2004) Social foundations of local self-government: monograph. Belgorod, Logiya Publ. (in Russian).
- Lefebvre, H. (1996) Writings on cities. Henry Lefebvre: selected, translated, and introduced by Eleonore Kofman and Elizabeth Lebas. Malden, Blackwell Publishing, 103-109.
- Lowenthal, D. (1998) The Heritage Crusade and the Spoils of History. Cambridge, Cambridge University Press.
- Medvedev, I.R. (2015) The right to the city. Law. 6, 181-195. (in Russian).
- Mezentsev, S.D. (2010) Modern urban planning: due and existing, ideals and reality. Vestnik MGSU. (4-3), 389-393. (in Russian).
- Page, M. & Mason, R. (eds.) (2004) Giving preservation a history. London, Routledge.
- Pavlova, Yu.V. (2004) Legal entropy. Abstract dis. ... cand. legal of sciences. Vladimir, Vladimir Law Institute. (in Russian).
- Starygina, P.S. (2015) Organizational and managerial mechanisms of regulation of social conflicts: regulatory and legal aspect. Bulletin of the Mari State University. Series: Historical Sciences. Legal sciences. (2), 85-94. (in Russian).
- Sukhov, A.N. (2020) Social conflictology: theoretical and historical aspect. Bulletin of the Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia. (4), 300-304. https://doi.org/10.24411/2073-0454-2020-10250 (in Russian).
- Tabolin, V.V. (ed.) (2021) Legal urbanology. Urbanological theory: monograph: in 2 vols. Moscow, Yustitsinform Publ. (in Russian).
- Timofeev, N.S. (2018) Trends and directions of conceptual development of local self-government in Russia (article one). Constitutional and municipal law. (10), 52-63. (in Russian).
- Tretyak, I.A. (2019) Legal conflictology in constitutional and municipal law. Law enforcement. 3(1), 55-61. (in Russian).
- Waldo, D. (1948) The Administrative State: A Study of the Political Theory of American Public Administration. New York, Ronald Press Co.
Supplementary files