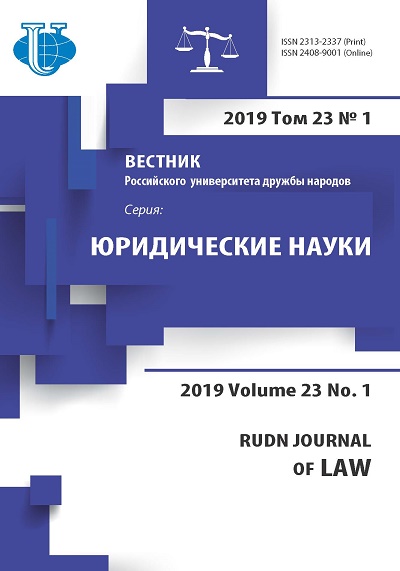THE ROLE OF RATIONALITY PHILOSOPHY IN LEGAL STUDIES (PART I)
- Authors: Ivanskiy V.P1, Kovalev S.I1
-
Affiliations:
- Peoples' Friendship University of Russia
- Issue: Vol 23, No 1 (2019)
- Pages: 48-61
- Section: LEGAL RESEARCH METHODOLOGY
- URL: https://journals.rudn.ru/law/article/view/21174
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-2337-2019-23-1-48-61
- ID: 21174
Cite item
Full Text
Abstract
The relevance of the article, which consists of two parts, is that the various theories of rationality presented only in philosophical works are considered. Meanwhile, it should be noted that in recent decades in scientific works on jurisprudence there is a clear trend of borrowing such terms from philosophy as «classical», «non-classical» or «post-non-classical» science in the description of a concept of law. Nevertheless, in legal studies there is still no concept of rationality, the criteria for its classification, allowing to describe the diversity of manifestations of legal reality. The purpose of the study is: 1) to find new non-classical foundations for the development of legal knowledge; 2) to substantiate the point of view that the category of "scientific rationality" and its typology used in philosophy, it is necessary to introduce into scientific use of legal science, which will push the boundaries of knowledge of legal reality; 3) to describe the features of understanding of the term "scientific rationality" in law in the context of its classification into the following two groups: classical and neoclassical (post-classical), as well as non-classical and post-classical. In the process of studying the philosophy of rationality in legal studies used a diverse set of methodological tools: 1) General philosophical methods (dialectical and idealistic); 2) General scientific methods - analysis and synthesis, deduction and induction, analogy, comparison; 3) and private (special) - logical, comparative-legal, formal-legal, normative-dogmatic; 4) method of interpretation, including the method of problem-theoretical reconstruction. The main results of achieving the goal of the study were proposals on: 1) introduction of the concept of "types and models of legal rationality" into the scientific circulation of jurisprudence; 2) classification of legal rationality into classical and non - classical types and corresponding models-neoclassical (post-classical) and post-non-classical. It should be noted that the post-classical and post-non-classical styles of legal thinking are evolved versions, respectively, of the classical and non-classical types of legal rationality. The basis for the classification of types of scientific rationality in legal science was the anthropological factor-consciousness homo juridicus and methodological tools with which legal consciousness is known. The novelty of the study is that the above classification of epistemological paradigms allows us to look at the law as a multilevel reality, which is simultaneously inherent in the two mechanisms of its Constitution - external and internal. Moreover, the presented criteria-based classification of legal rationality is the basis for the development of legal knowledge.
About the authors
Valeriy P Ivanskiy
Peoples' Friendship University of Russia
Author for correspondence.
Email: ivansky_valera@mail.ru
Candidate of Legal Sciences, associate professor the Department of Administrative and Financial Law of RUDN University
6, Miklukho-Maklaya st., Moscow, Russia, 117198Sergey I Kovalev
Peoples' Friendship University of Russia
Email: sikovalev@yandex.ru
Candidate of Legal Sciences, associate professor the Department of Civil Law and Procedure of RUDN University
6, Miklukho-Maklaya st., Moscow, Russia, 117198References
- Alekseev, N.N. (1999) Osnovy filosofii prava [Basic philosophy of law]. Saint Petersburg, Lan. (in Russian).
- Berman, G.Dzh. (1998) Zapadnaya traditsiya prava: epokha formirovaniya [Western tradition of law: the era of formation]. Moscow, NORMA. (in Russian).
- Chestnov, I.L. (2012) Postklassicheskaya teoriya prava [Postclassical theory of law] Saint Petersburg, Alef-Press. Pp. 650. (in Russian).
- Feierabend, P.K. (1986) Protiv metodologicheskogo prinuzhdeniya. Izbrannye trudy po metodologii nauki [Against methodological coercion. Selected Works on the Methodology of Science] Moscow, Progress. Pp. 542. (in Russian).
- Feyerabend, P. (1961) Comments on Grunbaum's «Law and Convention in Physical Theory». Current Issue in 213 the Philosophy of Science, Feigl and Maxwell, Pp. 155-161. (in English).
- Feyerabend, P. (1965) Reply to Criticism. Boston Studies in the Philosophy of Science, ed. by Cohen R. and Wartofsky M., II, Pp. 223-261. (in English).
- Gurvich, G.D. (2004) Filosofiya i sotsiologiya prava [Philosophy and sociology of law] / per. M.V. Antonova, L.V. Voroninoi. Saint Petersburg, Sankt-Peterburgskii universitet publ. Pp. 848. (in Russian).
- Gurvitch, G. (1942) Sociology of Law. New York, Philosophi Library. (in English).
- Isaev, I.A. (2014) Tenevaya storona zakona. Irratsional'noe v prave [The shadow side of the law. Irrational in law] Moscow, Prospekt. Pp. 364. (in Russian).
- Ivanskiy, V.P. (2018) Informatsionno-kvantovaya kontseptsiya prava: monografiya. Kniga II: Klassicheskaya, neklassicheskaya i postneklassicheskaya teoretiko-metodologicheskie strategii poznaniya pravovoi real'nosti [information quantum concept of law: In three books. Book II: Classical, non-classical and post-non-classical theoretical and methodological strategies of legal reality cognition]. Moscow, RUDN. Pp. 484. (in Russian).
- Kitcher, Ph. (1993) The Advancement of Science. Science without Legend. Objectivity without Illusions. Oxford, Oxford univ.press. Pp. 421. (in English).
- Kozhevnikov, V.V. (2008) Metodologiya i istoriya prava: ucheb. [Methodology and history of law: studies]. Posobie v 2 ch. Ch. 1 [the manual is in 2 parts. Part 1]. Omsk, Orenburg state University. Pp. 276. (in Russian).
- Kun, T. (2009) Struktura nauchnykh revolyutsii [Structure of scientific revolutions] Moscow, AST, 2009. Pp. 310. (in Russian).
- Ladeur, K.H. (1999) The Theory of Autopoiesis as an Approach to a better Understanding of Postmodern Law. San Domenico, European University Institute Badia Fiesolana. Pp. 45. (in English).
- Lakatos, I. (1968) Criticism and the Methodology of Scientific Research Programmes. Proceedings of the Aristotelian Society, 69, Pp. 149-186. (in English).
- Lakatos, I. (2008) Fal'sifikatsiya i metodologiya nauchno-issledovatel'skikh programm / Izbrannye proizvedeniya po filosofii i metodologii nauki [Falsification and methodology of research programs / Selected works on philosophy and methodology of science]. Moscow, Akademicheskii proekt: Triksta. Pp. 3-235. (in Russian).
- Laudan, L. (1984) Science and Values. Berkeley; Los Angeles; London, University of California Press. Pp. 145. (in English).
- Laudan, L. (1992) A problem-solving approach to scientific progress. Scientific Revolutions (ed. by I. Hacking). Oxford, Oxford University Press.
- Nersesyants, V.S. (2011) Filosofiya prava: Uchebnik dlya vuzov [Philosophy of law: Textbook for universities] Moscow, NORMA. Pp. 848. (in Russian).
- Newton-Smith, W.H. (1981) The Rationality of Science. London, Routledge & Kegan Paul. Pp. 242. (in English).
- Newton-Smith, W.H. (1985) Change. Sinthese, 62, Pp. 347-363. (in English).
- Pavlov, V.I. (2011) Ot klassicheskogo k neklassicheskomu yuridicheskomu diskursu. Ocherki obshchei teorii i filosofii prava [From classical to non-classical legal discourse. Essays on the General theory and philosophy of law.]. Minsk: Akademiya Ministerstva vnutrennikh del Respubliki Belarus'. Pp. 319. (in Belarus).
- Petrazhitskii, L.I. (2000) Teoriya prava i gosudarstva v svyazi s teoriei nravstvennosti [Theory of law and state in connection with the theory of morality] Saint Petersburg, Lan. (in Russian).
- Polyakov, A.V. (2016) Obshchaya teoriya prava: problemy interpretatsii v kontekste kommunikativnogo podkhoda: uchebnik [General theory of law: problems of interpretation in the context of communicative approach] Moscow, Prospekt. Pp. 832. (in Russian).
- Popper, K. (1983) Logika i rost nauchnogo znaniya. Izbrannye raboty [Logic and growth of scientific knowledge. Selected works] Moscow, Progress. Pp. 605. (in Russian).
- Putnam, H. (1981) Reason, Truth, and History. Cambridge, Cambridge University Press. Pp. 219. (in English).
- Quine, W. (1969) Ontological relativity and other essays, New York, Columbia University Press. Pp. 165. (in English).
- Rorti, R. (1997) Filosofiya i zerkalo prirody [Philosophy and the mirror of nature] Novosibirsk, Novosibirsk State University publ. Pp. 320. (in Russian).
- Shlag, P. (2011) Estetika amerikanskogo prava [Aesthetics of American law] // Rossiiskii ezhegodnik teorii prava [Russian yearbook of legal theory]. (3). Saint Petersburg. Pp. 112-190. (in Russian).
- Sinyakov, D.K. (2015) Kontseptsiya pravovogo autopoiezisa. Teoreticheskoe obosnovanie: monografiya [The concept of legal autopoiesis. Theoretical background: monograph] Moscow, YuNITI-DANA. Pp. 175. (in Russian).
- Stepin, V.S. (2000) Teoreticheskoe znanie [Theoretical knowledge]. Moscow, Progress-Traditsiya. Pp. 744. (in Russian).
- Stepin, V.S. (2013) Osobennosti nauchnogo poznaniya i kriterii tipov nauchnoi ratsional'nosti [Features of scientific knowledge and criteria of types of scientific rationality]. Epistemologiya & filosofiya nauki [Epistemology & Philosophy of Science]. 36 (2), Pp. 78-91. (in Russian).
- Tonlmin, S. (1967) The Evolutionary Development of Natural Science. American Scientists, 55. Pp. 456-471. (in English).
- Tulmin, S. (1998) Chelovecheskoe ponimanie [Human understanding] Blagoveshchensk: BGK im. I.A. Boduena de Kurtene. Pp. 304. (in Russian).
- Vlasenko, N.A. (2014) Pravoponimanie v svete kategorii opredelennosti i neopredelennosti [Legal understanding in the light of categories of certainty and uncertainty]. Zhurnal rossiiskogo prava [Russian Law Journal (RLJ)] (2), Pp. 37-45 (in Russian).
Supplementary files