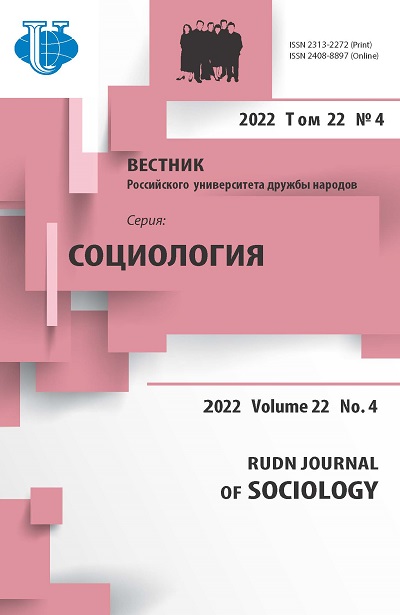Европейский консерватизм и природопознание: от сакрализации природы к нигилизму
- Авторы: Тагиров Ф.В.1
-
Учреждения:
- Российский университет дружбы народов
- Выпуск: Том 22, № 4 (2022)
- Страницы: 764-781
- Раздел: Вопросы истории, теории и методологии
- URL: https://journals.rudn.ru/sociology/article/view/33209
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-2272-2022-22-4-764-781
- ID: 33209
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Проблема понимания природы и отношения к ней выходит за рамки экологической или производственно-экономической тематики и напрямую затрагивает онтологические и антропологические основания культуры. Доминирующая сегодня субъект-объектная модель претендует на всеобщую значимость, однако многие мыслители готовы оспорить ее универсальность. Представители европейской континентальной консервативной мысли XX - начала XXI веков делают акцент на уже известных формах природопознания и природоотношения, которые не подразумевают объективацию природы или ее сведение к экономическому ресурсу. Эти культурные формы принадлежат историческому прошлому, что рождает вопрос о возможности возвращения к ним современного человека или же о возможности их возвращения в его жизнь. В начале статьи разбираются понимание природы и отношение к ней, господствовавшие, по мнению консервативных мыслителей, до утверждения современного «объективирующего» взгляда на природу. Автор анализирует два связанных, но нетождественных подхода к «традиционному» пониманию природы, предложенные мыслителями данного направления. В первую очередь речь идет об «освящении природы», в контексте которого природный мир не опредмечивается, а понимается как единая реальность, включающая в себя человека и обладающая сакральным статусом. Второй подход представлен метафизически-ориентированной линией консерватизма XX - начала XXI веков и рассматривает природный мир, прежде всего, с точки зрения его функции символизации трансцендентного сверхприродного мира. Далее представлены взгляды консервативных авторов на «нигилизм» последних столетий, который и привел к субъект-объектному отношению к природе. Специально анализируется их позиция по поводу христианского природоотношения. В последнем разделе сформулирована гипотеза о том, что признание за каждой культурой «права на свою природу», предполагаемое современным культурным плюрализмом, также может способствовать преодолению универсализации конкретного природопонимания за счет выбора иной модели отношения к природе, известной данной культуре в прошлые эпохи.
Ключевые слова
Полный текст
Где искать основания современных субъект-объектных отношений между человеком и природой? Знал ли человек иные формы природоотношения и если да, то что привело к отказу от них и утверждению господствующей сегодня модели, построенной на опредмечивании природного мира? Поскольку речь идет о поиске форм, которые существовали — или «предположительно существовали» — в культурах прошлых эпох, среди возможных ответов на данные вопросы особый интерес представляют те, что были предложены представителями консервативного направления, чуткими к наследию прошлого. В силу обилия материала и обширности затронутой проблемы в статье мы вынужденно ограничим анализ воззрениями авторов XX — начала XXI веков, принадлежащих к европейской континентальной мысли (прежде всего Германии и Франции).
Священность природы…
Проблема понимания природы и отношения к ней, хотя и встает наиболее остро в свете экологических рисков, областью экологии не исчерпывается, выходит за ее пределы и затрагивает самые разные сферы общественной жизни, будучи в первую очередь проблемой антропологической, онтологической, т.е. мировоззренческой. «Антропоцентрическая переоценка отношения к миру ослабила его онтологически и с необходимостью привела к его детелеологизации. Отказ от “качественного” представления о мироздании, по сути, явился деструкцией универсальности космического целого как основоположенности всех уровней и процессов его организации. Рациональное, экономически эффективное вытеснило человеческое, одухотворенное, жизненное и смысловое. Лишенный самостоятельной ценности мир был отдан на откуп силам инженерии и индустрии, которые, схлопнув и спрессовав сферу (шар) бытия, перевели его в плоскость» [1. С. 31].
Современные субъект-объектные отношения между человеком и природой, по мнению ряда авторов консервативного направления, — наследие традиции христианской идентичности и присущей ей антропологии [22]. Для консервативных авторов, выводящих европейскую идентичность из дохристианских культурных корней, мир зачастую являет себя не как противостояние тварного и нетварного, но как «постоянное обращение, единосущность существ и вещей, земли и неба, людей и богов» [11. С. 74]. Подобное природочувствование открыто и современному человеку, когда он обращается к древнеевропейским мифам, которые, по Д. Веннеру, суть «не верования, а изображения и энергии, проявляющие сторону божественного в этом мире» [4. С. 169–170]. Для Веннера принцип «природа как основание» является одним из трех столпов подлинной идентичности европейца: Сократ отказывается от познания природы в пользу самопознания, однако древним грекам (как и древним германцам, кельтам, латинянам или славянам) в целом свойственна особая внимательность по отношению к природе, наблюдение за которой в частности «учит греков умерять свои страсти, ограничивать свои желания… Они знают, что она связана с фундаментальными сочетаниями, рожденными высшими оппозициями — между мужским и женским, насилием и кротостью, инстинктом и разумом» [4. С. 170].
В «языческом» мировосприятии, которое было знакомо европейским культурам до их христианизации и в тех или иных формах продолжало существовать и в христианскую эру, мир открывается человеку в своей одушевленности, а душа мира — в своей божественности. В отличии от авраамической трансцендентности божественного, в дохристианском европейском наследии божественное представляется имманентным и единосущным миру. Человек здесь обращен к «тайне мира», но не «тайне в мире». Однако отсутствие «потусторонней» смысловой доминанты не приводит нас к царству абсурда, как в случае «смерти» трансцендентного бога для тех, чьи смысложизненные ориентиры целиком укоренены в трансценденции. «Тайна мира» предполагает наличие у человека свободы наделения смыслом событий внутри мира [11. С. 36–39], но смысл этот отличается от смысла, который выпытывает у природы современная наука. Природа, по Веннеру, — «то, что существует и живет своей собственной жизнью без вмешательства человека или вопреки ему» [4. С. 57]. В этом определении Веннер не вступает в противоречие с распространенным сегодня пониманием природы как объективной (по отношению к человеку как виду) реальности, но далее он проясняет специфику дохристианского переживания природы: «В древние времена, воспетые Гесиодом и Вергилием, наши предки уважали ее, хотя и боялись. Они внутренне сознавали единство мира как гармонию противоположностей, сознавали собственную зависимость от сил, устанавливающих в ней равновесие. У природы есть душа, она одушевлена и проявляет во всем свою божественность» [3. С. 282].
Из священного статуса природы следует священность человека и его начинаний, если он осуществляет себя через причастность ей. Правильная жизнь — жизнь в согласии с природным миропорядком. Эта мысль хорошо знакома и философии поздней античности, например стоицизму. Ш. Моррас, чтящий «наследие» Афин и Рима, формулирует «нетеологическое» и «нелегитимистское» обоснование любимой им монархии как «естественного строя, которого требует природа» [19. С. 10]. Эта мысль расходится с традиционно-католической идеей «монаршей власти» от Бога (в ряде трудов Моррас резко выступает против «библейского христианства», а в частной переписке признает себя политеистом [4. С. 103–104]): он призывает опираться на разум, который иерархичен и чувствителен к естественным различиям и, следовательно, к иерархичности природного мира [19. С. 18]. Для языческого мировосприятия сложный иерархический порядок, присущий миру, освящен его божественностью: между разными уровнями бытия и различными существами нет разрывов, а наличествует преемственность [11. С. 178]. Человек — не просто часть живого макрокосмоса, он сам — микрокосмос, его жизнь «аналогична космической жизни, которая в свою очередь становится прообразом человеческого существования» [33. С. 104]. Место, занимаемое человеком в таком миропорядке, предполагает определенные формы его участия в космических процессах, но исходный природный детерминизм компенсируется идеей человеческой свободы и героической воли [11. С. 183].
Вместе с тем божественный характер природы не приводит нас к пантеистичекому мировоззрению, поскольку для «язычества» природа — «одна из сторон мира, который ею не ограничивается» [11. С. 181]. «Языческое богословие — это богословие не природы, но мира. Природа являет лик существования, но не представляет собой его конечного определения» [11. С. 182]. Признание за природой ее самоценности, как полагает А. де Бенуа, приводит европейца к утверждению принципа объективности — «дара» Европы человечеству. Этот принцип позволяет сопротивляться претензиям универсализма [12. С. 7], поскольку универсализация требует некого гомогенного основания, а объективно мир разный. Но все же рассуждения де Бенуа не свободны от противоречия. В христианстве связь человека и Бога предшествует всем прочим (природным, социальным) связям [13. С. 20]. Утверждение Августином местопребывания истины во внутреннем мире человека «прививает» западной мысли «склонность к рефлексии», из которой современный человек выведет субъективность [12. С. 17], хорошо знакомую нашей эпохе. При этом для де Бенуа философская мысль (явно немыслимая без рефлексии) и самокритика вытекают, напротив, из понятия объективности [12. С. 7].
Однако чему бы ни была обязана западная рефлексивность своим рождением — сократовскому «познай себя» или средневековым практикам покаяния и исповедания (или же их тайному союзу?) — трудно не согласиться с П. Брюкнером в том, что самокритичность — специфическая черта Европы по крайней мере, с Возрождения. Но не эта же рефлексивность приводит в итоге к отрыву современного европейца от того, что консервативной мысли представляется его традиционными основаниями? «Западный разум — это уникальная эпопея саморефлексии, сносящая на своем пути любых идолов и прорывающая оборону любых традиций и авторитетов. Едва появившись на свет, Европа смогла восстать против самой себя и впустить врага в свое сердце, подвергая себя постоянному переосмыслению» [2. С. 46]. В этой трагичной саморефлексии, которая, начиная со второй половины XX века, делает европейца все более беззащитным, а его убеждения — уязвимыми перед безапелляционностью тех, кто не сомневается в собственной правоте, можно увидеть и один из возможных ответов на вопрос «что значит быть европейцем?». «Я не пытаюсь этим доказать, — замечает Брюкнер, — что одно лишь сомнение в собственном превосходстве вознесет Европу выше остальных. Но уже хотя бы это сомнение отличает ее от других культур, которые, по крайней мере до последнего времени, не были замечены в таком система тическом пересмотре собственных убеждений. По примеру Старого Света, ни один народ не свободен от обязанности спорить с самим собой» [2. С. 47] (политеизм европейского язычества, по мнению его современных апологетов, выступает гораздо более органичным основанием плюрализма, чем универсалистская логика христианства или «прогрессистов» [11. С. 132, 169].)
Споря с самой собой (сегодняшней и ушедшей?), «тайная», зачастую скрытая от глаз Европа, по мнению многих консервативных авторов [23], ищет не возвращения к минувшему, а возвращения (казалось бы) минувшего, в котором нам открывается непреходящее (не вечное возвращение, а возвращение вечного [37. С. 113]). Это возвращение есть движение не вспять, а вперед, но без исключения вектора прошлого, а, напротив, с опорой на него. Сущность жизненной (природной) основы, например, у Э. Юнгера, выражает Дух, но она питает его, поэтому он к ней «относится… с благодарностью» [35. С. 121]. «Космическая перспектива, которая издавна присуща консерватизму, имеет не только эстетическое значение. Учитывая тот факт, что человек как никогда ранее обречен на то, что он сам должен обеспечить физические предпосылки своего существования, эта перспектива означает революционизацию всего нашего способа мышления… отказ от… безмерной антропоцентрической гордыни» [17. С. 111], не романтическое «возвращение к природе», а создание «теории экологического мира», для которой человек уже не самопровозглашенный тиран-эксплуататор природы, а «член и хранитель всеобщего порядка» [17. С. 112]. Но такое преображение человека невозможно без переосмысления того порядка, к которому он принадлежит и за который ответственен.
Насколько неизбежна трагическая судьба, предписываемая человеку, например, В. Зомбартом? Он убежден, что, поскольку любая культура подразумевает «некий отказ от природного», это «означает, кроме прочего, распад, разрушение, смерть» [16. С. 73]. А. Гелен, описывая индустриально-техническое общество, характеризует современность как «колонию паразитов», эпоху разрушения институтов, «атомарной агрессивности» и все большего тяготения искусства и наук к абстрактности. Индивид, потерянный среди «текучих», изменчивых «институциональных фикций», абстрактных, оторванных от жизни форм, ищет спасения в «квиетизме потребления». Однако наряду с консьюмеризмом Гелен отмечает и растущую потребность в религии [21. С. 136]. Пессимистическое шпенглеровскоое видение «второй религиозности», которая «не предшествует культуре, а идет вслед за ней» [27. С. 624] и «содержит тот же багаж, что первая, подлинная и ранняя, только иначе пережитой и по-другому выраженный [и в которой] на свет выходит весь мир примитивной религии, отодвинутый великими формами ранней веры» [28. С. 324], дополняется юнгеровской убежденностью, что «земле не обойтись без богов» [37. С. 462] и надеждой на их возвращение, которое положит конец исчерпавшей себя эпохе титанов.
Природа ныне, как и прежде, по мнению Юнгера, способна открыться как космическая сила для всякого, кто умеет читать символы: «Всегда и везде присутствует знание того, что в изменчивом ландшафте скрыто действуют архаичные силы, а под пеленой преходящих явлений бьют родники изобилия, космической мощи» [36. С. 61]. На этом знании, как считает Юнгер, строится любая религиозность — как великих конфессий, так и эзотерически-сектантская. Оно же лежит в основании философских озарений, и различие в их понятийной интерпретации не должно скрыть главного: «Кто хоть раз прикасался к бытию, тот и переступал ту кромку, внутри которой все еще важны все те слова, понятия, школы и конфессии. И тогда он учился по-настоящему чтить то, что их оживляет… Вот он Эдемский сад, вот виноградники, лилии, пшеничное зерно из христианских притч. А вот сказочный лес с волками-людоедами, ведьмами и великанами, но там же и добрый охотник, и изгородь из розовых кустов Спящей красавицы, в тени которых застыло время. Вот наконец германские и кельтские леса, роща Гласир, где герои побеждают смерть, и опять же Гефсиманский сад с оливами… Но того же самого ищут и в других местах — в пещерах, в лабиринтах, в пустынях, где обитает Искуситель. Могущественная жизнь пребывает всюду для тех, кто понимает ее символы» [36. С. 62].
…И природа как символ священного
Схожую трактовку символов мы встречаем и у М. Элиаде, который описывает опыт природы, доступный человеку типа homo religious, как иерофанический — природа выступает в качестве манифестации священного [34]. Прочтению природных иерофаний помогает символизм, который в целом сохраняет свою структуру и смыслы несмотря на бег времени [33. С. 88]. Более того, по Элиаде, даже однажды позабытые символы исчезнувших культур могут быть вновь открыты человеком другого времени в своем исконном значении [32].
И все же как быть с «проклятием природы», в монотонности которой, по Р. Гвардини, потерян индивид до прихода Христа? [18. С. 138]. «Христово благовествование требует от человека отрешения от природных связей» [6]. Полемизируя с Гегелем, Элиаде не принимает его идею, что «первобытный» человек «зарыт в Природу»: архаичный человек сохраняет свою субъектность и сознает ее, даже когда выстраивает действия в соответствии с открытыми ему мифом сакрально-космическими природными ритмами [33. С. 104]. Но речь идет не просто о сохранении субъектности, и в этой связи показательно христианское понимание «чуда». Согласно Р. Гвардини, поскольку отношение Бога к миру, «не природно, а лично…, когда Он “действует”, она повинуется, что не отменяет природные законы, а приводит к их исполнению “в более глубоком смысле”» [6]. Таким образом, высшим творческим субъектом выступает Бог. По Элиаде же уподобление богам, героям, природно-кос мическим силам в неавраамических учениях открывает человеку еще один уровень понимания себя и своих действий, благодаря которому обретается свобода «подлинного творчества», заключающегося в создании «нового человека…, сверхчеловека, человека-бога» [31. С. 141].
Не все мыслители консервативного направления, рассуждающие вне строго христианской модели мира или даже за ее рамками, придерживаются идеи имманентности божественного природе. В принципиально метафизичной перспективе разворачиваются идеи Р. Генона, Ю. Эволы, А. Кумарасвами, Ф. Шуона и их единомышленников и последователей. Исходной точкой такого подхода выступает «доктрина двух природ»: «Существует физический порядок и порядок метафизический… Существует высшее царство “бытия” и низшее — “становления”. Обобщая, можно сказать, что существует зримый и осязаемый мир, но прежде, по иную его сторону, существует незримый и неосязаемый мир, являющийся источником, принципом и истинной жизнью первого» [29. С. 21]. Между этими двумя природами не разрыв, а родство, возникающее из преемственности низшего порядка по отношению к высшему (например, традиционное государство берет начало не в народе, а в «небесном принципе» [29. С. 48].
По убеждению Эволы, главным символом первой, арктической, цивилизации (достоверных «исторических» сведений о которой мы не имеем) является неподвижное солнце, отсылающее к изначальному духовному принципу в его чистоте и аполлонической умопостижимости. Здесь низшая природа открыта человеку в своей иерархичности, происходящей из иерархичности высшей природы. Нематериальна и земля как основополагающий символ южной, деметрической, цивилизации, возникающей и существующей параллельно с северной, но находящейся дальше от изначальной традиции. Деметрическая духовность — темная, сокрытая, мистериальная, женская, эгалитарная. В следующей, титанической, цивилизации власть узурпирует не знающий связи с высшей природой материализованный мужской принцип, который восстает против лунного жреческого символа и женской деметрической духовности. От материализации не защищен и женский принцип, что проявится в афродитической цивилизации и ее культах, возвеличивающих, прежде всего, телесное.
Традиционное понимание уранически-духовного как первичного по отношению к природно-телесному сохраняется в цивилизации, которую Эвола называет героической. Она найдет свое воплощение в ахейском и дорийском наследии Древней Греции, в Древнем Риме, сопротивляющемся деметрическому и афродитическому элементам, и, наконец, в гибеллинском средневековье. Метафизична, а не материалистична мысль греческих натурфилософов. Ранним римлянам присуще «отсутствие пафоса, лиричности и мистицизма по отношению к божественному» [29. С. 353], для них сверхъестественное раскрывается в первую очередь как numen (чистая мощь), а не deus. Это духовность, причем восходящая к солярному, а не лунарному истоку. Христианский дуализм не имеет ничего общего с традиционной «доктриной двух природ», ибо подразумевает противопоставление, а не единство в высшем принципе [29. С. 370]: «тварность» и принципиальная греховность человека служит сущностной дистанцированности его от Бога как творца, что влечет за собой десакрализацию природного мира. При этом существующий вопреки церковной доктрине фактический средневековый феодальный порядок среди прочего обеспечивает возможность обретения каждым человеком места, «свойственного его природе» [29. С. 386].
Однако природа человека — не исключительно интеллектуальная, для приобщения к высшим духовным принципам, которые по определению неэмпиричны, требуется опора, доступная чувственному восприятию. На этом уровне и работают символы, их задача — оттолкнув нас от зримого, направить на незримое.
Рационально-аналитическое, «дискурсивное» постижение символов, как отмечает Генон, не обеспечивает в должной мере осуществления их задачи. Необходимо опираться прежде всего на «интуитивное», синтетическое их восприятие, которое свободно от четко определенных значений, во власти которых пребывают наши понятия [8. С. 35–36]. В этом аспекте геноновская мысль совпадает, например, с идеей О. Шпенглера о внутренней достоверности, с которой посредством символа действительность обозначает нечто, недоступное для рассудочного мышления, но открывающееся для «чувственно-бодрствующих людей» [27. С. 324]. По Генону, «мироздание предстает как бы Божественным языком для тех, кто умеет его понимать… вся природа может считаться символом сверхприродной реальности» [8. С. 38]. Данная мысль хорошо знакома европейскому средневековью — францисканцам и, прежде всего, Бонавентуре, а также родственна томистской идее аналогии, существующей между творением и Творцом, посредством которой через познание природы человек может выйти на познание Бога.
При этом мы имеем дело не с натурализмом, а, напротив, с антинатуралистической интерпретацией связи между природой и мифологической символикой: не мифический образ изображает природное явление (или отсылает к нему), а природное явление отсылает к мифу и тому, что в нем раскрывается, поскольку «низшее может символизировать высшее, но обратное невозможно» [8. С. 39]. Следуя этой логике, например, катящий шар жук-скарабей у египтян не является просто символом восходящего солнца — и утреннее солнце, и жук-скарабей символически отсылают нас к принципу нового рождения, повторяющегося снова и снова.
Природа, сведенная до эмпирически доступных проявлений, представляется нам всецело материальной, и телесная материя оказывается пре дельным основанием мира. Однако с точки зрения авторов, выступающих за традиционное понимание символизма, телесная сторона мира — это лишь одна из его сторон. М. Лингс, в частности, пишет, что «внешний мир земного существования соответствует во всех своих деталях внутреннему миру человеческой души, и подобное соответствие существует между Садом Сердца [часть Эдемского сада, где обретается Древо жизни] и Садом Души [Эдемский сад как таковой]»; «все различные области вселенной соответствуют друг другу в том, что каждая из них является образом вселенной как таковой» [38. С. 154].
Генон, обращаясь к средневековым схоластам и к Аристотелю, на идеи которого они опирались, к соотношению пуруши и пракрити в индуистской традиции и другим учениям, утверждает, что с точки зрения традиционного знания эта телесная материя представляет лишь низший уровень материального. В тела, доступные нашему чувственному восприятию, оформляется сообразно качественному (прежде всего духовному) принципу материя, относящаяся к более высокому уровню и лишенная конкретных качественных характеристик, — та, которую схоласты называли materia secunda и которая сама является проявлением универсальной субстанции (materia prima, пракрити). Именно materia prima (субстанция) как количественный принцип вместе с качественным принципом сущности образуют, по Генону, «первую космическую дуальность» и содержатся в самом принципе универсального проявления [9. С. 12–24].
В силу единства «ансамбля проявлений» универсального трансцендентного принципа законы, открываемые нами в природе, не утрачивают ценности при взгляде из метафизической перспективы. Генон убежден, что ущербна лишь практика рассмотрения их изолированно, в отрыве от сверхприродных принципов, манифестацией которых они являются. В некотором роде схожей мысли, но с позиций христианской теологии придерживается и Гвардини, согласно которому между природным и сверхприродным нет разрыва. Естественные причинно-следственные связи не отменяются проявлением внеприродного, но они не должны «фетишизироваться», ибо «в естественных связях как раз и действует сатана» [6]. «Законы низшей сферы всегда могут быть приняты за символизацию реальностей высшего порядка, где они обретают свое самое глубокое обоснование, которое есть разом их принцип и цель» [8. С. 38]. Правильное понимание природы наделяет ее не только утилитарно-экономической или эстетической ценностью, но и такой ценностью, каковой она не может обладать, ограничь мы себя естественно-научным подходом: «природа обретает для нас все свое значение лишь тогда, когда мы рассматриваем ее как средство подняться к познанию божественных истин, т.е. обнаруживаем в ней способность исполнить главную роль, признаваемую нами за символикой» [8. С. 39].
О «христианском язычестве», «пространственной революции» и нигилизме
Многим упоминаемым авторам можно было бы вменить в вину предвзятое отношение к христианской традиции и, соответственно, пониманию природы. Будучи комплексным феноменом и имея двухтысячелетнюю историю, христианство является пространством, в границах которого был выработан многосложный спектр ответов на одни и те же вопросы — под влиянием внешних воздействий и в силу саморефлексии. Следовательно, христианство едва ли может быть подсудно как культура, оторвавшая человека от природы, препоручив его трансцендентному Богу. Даже если принять точку зрения, согласно которой христианство рождается как «религия пустыни», уже в первые века существования оно скорее всего не может однозначно рассматриваться как исключительно таковое. Даже те консервативные мыслители, кто ставит себя в оппозицию христианскому мироотношению, зачастую признают это. Так, де Бенуа предлагает вспомнить «“христианское язычество” Франциска Ассизского, который прославляет “нашу сестру луну”, “нашего брата ветер”, “нашу сестру землю, нашу мать, которая носит и питает нас” и “особенно господина нашего брата солнце”» [11. С. 177]. Элиаде подчеркивает, что ассимиляция христианством символики и обрядов средиземноморской цивилизации произошла на заре христианской эры [30. С. 162], что позволяет говорить о «космическом христианстве». Веннер делает акцент на сохранении в христианстве дохристианского европейского наследия «благодаря наложению древних культов» [5. С. 22–23]. И хотя грань здесь порой становится довольно тонкой, и Гвардини с позиции христианства пишет об «одушевленности природы», отвергаемой современным человеком [6] (подразумевая, судя по всему, ее одухотворенность трансцендентным Богом, иначе природа — «падшая»), данные компоненты и «включенное» отношение человека к природе все же не рассматриваются как исходно христианские или шире — авраамические. Для иудаизма, согласно Зомбарту, «природа не является не святой, но в тоже время нельзя сказать, что она свята, она еще не такова и должна стать святой только через нас» [15. С. 411]; «христианское вероучение превращает “святого” в монаха, иудейское — в рационалиста» [15. С. 412].
Гелен отмечает, что «прорыв монотеистических религий» приводит к культовой нейтрализации внешнего мира [21. С. 125], а «трансцендирование в потустороннее» вытесняет «трансцендирование в посюстороннее». Однако затем трансцендирующая устремленность сменяется обращенностью к внутримировому, и понимание мира и природы оказывается преобразовано опытом потустороннего: вслед за бесконечностью божественного в сознании европейца рождается не знающий границ бесконечный природный мир. К. Шмитт указывает, как страшила ранее человека мысль о бесконечном пространстве — это страх перед абсолютной пустотой, за которым мы об наруживаем страх перед ничто и пустотой смерти, ужас перед нигилизмом [26. С. 611–612]. Изменение отношения к пространству, по его мнению, не является результатом великих географических открытий или первых кругосветных путешествий, скорее, наоборот: «Не будет большим преувеличением сказать, что новым пониманием пространства охвачены все области человеческой жизни, все формы бытия, все виды творческих способностей человека, искусство, наука, техника. Огромные перемены в географическом облике Земли составляют всего лишь внешний аспект глубокого преобразования, означенного таким многообещающим и чреватым многими последствиями словосочетанием, как “пространственная революция”. Отныне неотвратимо наступает то, что называли рациональным превосходством европейца, духом европеизма и “рационализма Оккама”. Он проявляется у народов Западной и Центральной Европы, разрушает средневековые формы человеческого общежития, образует новые государства, флоты и армии, изобретает новые машины и механизмы, порабощает неевропейские народы и ставит их перед дилеммой: или принять европейскую цивилизацию, или опуститься до уровня простого народа колонии» [26. С. 614]. Новому опыту пространства соответствует и новое понимание природы, предложенное Бруно и закрепившееся благодаря Галилею, Кеплеру и Ньютону.
В соответствии с логикой бесконечности это понимание превращается в основание для нового универсализма, при котором с природы сняты одежды священности, а законы ее конституции суть только ее собственные законы, более не отсылающие к высшим принципам. Преодолев страх перед бесконечным пространством, horror vacui, человек освобождается и от ужаса перед нигилизмом. «Смерть Бога» (точнее его убийство) не исчерпывается «смертью» лишь христианского Бога, которой желает «антихрист»-Ницше, — с его уходом не происходит возвращения античных богов, ни Дионис, ни Аполлон не воцаряются в мире людей. Вместе с убийством Бога, как полагает М. Хайдеггер, происходит «устранение людьми сущего как самого по себе сверхчув ственного мира» [25. С. 213], остановленное представлением, сущее превращается в предмет. Нигилизм как «основополагающее движение в историческом совершении Запада» [25. С. 176], по Хайдеггеру, нельзя свести к неверию в христианского Бога. На смену религиозным авторитетам стремятся прийти авторитеты совести и разума, но им сопротивляется «социальный инстинкт». «Бегство от мира в сферу сверхчувственного заменяется историческим прогрессом. Потусторонняя цель вечного блаженства преобразуется в земное счастье для большинства. Попечение о религиозном культе сменяется вдохновенным созиданием культуры или распространением цивилизации. Творческое начало, что было прежде отличительной чертой библейского бога, отмечает теперь человеческую деятельность» [25. С. 178]. С одной стороны, «творение дает земле быть землею» [24. С. 147], помогая ей раскрыться и проясняя истину о сущем. С другой стороны, торжествующий нигилизм приводит к тому, что «человеческое творчество переходит наконец в бизнес и гешефт» [25. С. 178].
«Бизнес и гешефт» превращаются в современном мире в главные системообразующие социальные факторы. По Зомбарту, «торгашеские» либерально-буржуазные представления переносятся и на природу [20. С. 16]. Для homo capitalisticus, предпринимателя, вместе с искусством, литературой, государством и дружбой природа «исчезает… в загадочное ничто, у него нет больше “времени” отдаваться всему этому» [14. С. 427], поскольку «дух подлинного капиталистического хозяйствования» «ставит достижение прибыли выше всяких прочих целей, соотносимых с природным укладом жизни» [15. С. 288], в то время как в глобальном плане «великан-капитализм разрушает природу и людей» [14. С. 433]. Это разрушение — не сопутствующий эффект, развитие капитализма возможно, только если «сначала переломить все кости в теле естественному, инстинктивному человеку» и «поставить специфически рационально устроенный душевный механизм на место первоначальной, природной жизни» [14. С. 297].
«Негативный нигилизм», подразумевающий отрицание высших ценностей, преодолевается, по Хайдеггеру, нигилизмом «позитивным», где «источником и мерой нового полагания ценностей» становится воля к власти [25. С. 204]. Земля (природа), в виде которой отныне представляется сущее, в поле новых ценностей понимается как объект господства: «Мир становится предметом, пред-стоянием. В таком восставляющем опредмечивании всего сущего то, что прежде всего должно быть приведено в распоряжение представления и составления, — земля, — вдвигается в самое средоточие человеческого полагания и рас-полагания. Сама земля может являть себя лишь как предмет нападения, атаки, которая устрояется в волении человека как безусловность опредмечивания. Природа повсюду выступает — ибо повсюду волится изнутри сущности бытия — как предмет техники» [25. С. 208].
Многоликая природа, или на распутье
Если вопрос об универсальности трансцендентных принципов остается метафизическим, то мысль, утверждающая универсальность какой-либо из культурно-исторических форм, к каковым относятся природопознание и отношение к природе, в той или иной мере подсудна принципу верификации и может отстоять от реальности на весьма значительное расстояние. Разные культуры не только рождаются и развиваются, окруженные разной природой, различные природные условия делают культуры предрасположенными к различному природопознанию и мироотношению. В праве ли мы отказать одним из них в истинности в угоду другим, которым мы привыкли придавать статус всеобщности? Можем ли мы, с другой стороны, игнорировать историческое воздействие природопонимания, рожденного одними культурами, на культуры, для которых оно изначально не было органичным?
Де Бенуа анализирует знаменитое высказывание Э. Ренана, что «пустыня монотеистична» и ряд соображений других авторов — от Э. Фромма до Элиаде — о воздействии «жизненной среды на общее представление о мире» [11. С. 176–177]. О заложенном религиями, рожденными «в пустынях Востока», отделении от природы пишет и Веннер [4. С. 57]. Влиянию природного окружения на закрепившееся в основах культуры отношение к природе уделяет внимание и Зомбарт: «На севере отношение к природе более интимно, чем в жарких странах. На севере человек как бы погружается в природу, даже если он охотник и вынужден бродить по лесам, или пастух, который прорубает в чаще просеку для своего стада. Я мог бы сказать (боясь, что меня обзовут “современным мистиком”), что на севере даже вполне обычного человека связывают с природой нежные узы любви и дружбы, которых человек, живущий в жарком климате, …не чувствует с такой остротой. Нередко вполне обоснованно говорят о том, что на юге человек воспринимает природу с точки зрения каких-то своих культурных целей. Человек остается внутренне чуждым природе, причем даже тогда, когда он обрабатывает землю: в тех благословенных краях нет подлинной сельской жизни — жизни в природе и с природой, когда ощущаешь сокровенную связь с деревом и кустарником, с землей, лугом, дикими животными и птицами» [15. С. 582]. По Зомбарту, влияние совокупного окружения идет дальше сентиментальной сферы или мистических переживаний, определяя в конечном итоге мышление: «Итак, пустыня и лес, юг и север! Резкие очертания знойных, выжженных солнцем просторов, яркие солнечные пятна наряду с глубокими тенями, светлые звездные ночи, замершая природа, — все это можно схватить единым “абстрактным” восприятием, которому противостоит “конкретика” всего северного, где щедро льются воды, одним словом, совершенно иное окружение, живая природа леса и поля, земля, источающая пар» [15. С. 585–586]. Даже город и городская культура для Зомбарта — порождения пустынного духа и сами суть пустыня.
«В основе всякого знания о природе, пусть даже самого точного, лежит религиозная вера» [27. С. 570], — убежден Шпенглер. Она, в свою очередь, определяется прасимволом души конкретной культуры, который тесно связан с природой. Природный ландшафт, согласно Шпенглеру, позволяет проявиться разным прасимволам: ограниченному телу аполлонической греческой культуры, бесконечному пространству западной, фаустовской, культуры, дуализму пещеры, свойственной магической душе, прямому пути египтянина, непрямому пути без направления китайца, сновиденческому движению индийца или бесконечной «братской» равнине русской души. И хотя конкретные положения теории Шпенглера оспариваются даже его соратниками по консервативному лагерю, стоящую за ней идею опровергнуть сложнее.
Можно отметить и различие в понимании природы человека между авраамическими антропологиями: так, привычное христианину понятие первородного греха (одно из самых фундаментальных в концепте человека) принципиально отсутствует в исламе, как и «падшая природа»; связка грехопадения с сексуальностью не только чужда иудаизму, но нетипична и для христианства первых веков нашей эры. Промежуточному положению человека как посредника между небом и землей в дальневосточной триаде [7] можно найти аналогии в других традициях, однако специфика этого положения будет варьировать — в зависимости от понимания «неба», «земли» и связи между ними.
Признание разного понимания природы, присущего различным культурам, не только как фактической данности, но и в контексте права культур на «свою природу», с которой сливается «своя» антропология и «свои» этос и практос, открывает возможность для признания разных форм понимания природы, присущих конкретной культуре в разные эпохи, — как потенциально равных вариантов для выбора. При потенциальном равенстве они все же не могут рассматриваться как эквивалентные в перспективе своих практических последствий. И эта перспектива при сохранении существующего сейчас миро- и природоотношения представляется многим консервативным авторам (от Зомбарта и Хайдеггера до де Бенуа и Кальтенбруннера) тревожной. Хайдеггер, в частности, пишет о господствующем нигилизме следующее: «такова глубина этого движения, что его разворачивание может лишь повести к мировым катастрофам» [25. С. 177].
Следовательно, выбор здесь не может быть произволен. Он может происходить из текущего положения вещей и тогда остается выбором в пользу принятия наличного в силу его наличия и сообразно его собственной аргументации. В лучшем случае такой выбор может стремиться к «устойчивому» или «самоподдерживающемуся» развитию, «экологизации» производства и потребления без мировоззренческой трансформации, подразумевающей изменение нашего понимания природы. В таком случае любое переустройство здания современной культуры природоотношения оказывается ограничено его старым фундаментом — опредмеченностью природы, обращением к ней как к объекту, пусть даже и ценному в контексте наших практических интересов. Или мы можем отказаться от признания наличного как лучшего из возможного и его аргументации как универсально верной и обратиться к тому, что еще предлагает наша собственная культура в своем наследии. Консервативная мысль, рассматриваемая нами, следует второму пути.
При этом «связь между человеком и «природой», согласно де Бенуа, должна рассматриваться не как плоский натурализм — «возврат к природе», дорогой сердцу последователей Руссо, экологистов и народнических сект, а как деятельное участие человека в существовании во всей его целости, основанное на ясном понимании этого существования, которое может иметь человек» [11. С. 177]. Веннер отмечает намечающееся «изменение ментальности, представляющее экологический дух» [4. С. 54] (что может оказаться излишне оптимистичной оценкой). Наше отношение к природе, согласно данной логике, должно быть направлено на возвращение мира человеку [11. С. 233]. Для христианской традиции — это возвращение природы, «одушевленной» Христом. Для неавраамической консервативной мысли — переход от метафизики творения ex nihilo и рожденных ею прогрессизма и опредмечивания природы к метафизике земли, неба, человека и Бога как различных, но равных оснований [11. С. 234]. Не фантастично ли это настолько, что оказывается за пределами научной аргументации? Не уход ли это от реальности в область невероятного? Безусловно. В этом слабость подобного консерватизма. Но в этом же и его притягательность – ибо разве что-то способно манить нас больше, чем невероятное?
Об авторах
Филипп Владимирович Тагиров
Российский университет дружбы народов
Автор, ответственный за переписку.
Email: tagirov-fv@rudn.ru
кандидат философских наук, доцент кафедры социальной философии ул. Миклухо-Маклая, 6, Москва, 117198, Россия
Список литературы
- Бондарь О.Ю. Антропологические и космологические аспекты неолиберальной глобализации (к вопросу концептуализации) // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Философия. 2017. № 1.
- Брюкнер П. Тирания покаяния. Эссе о западном мазохизме. СПб., 2009.
- Веннер Д. История и традиция европейцев. 30000 лет идентичности. М., 2018.
- Веннер Д. Самурай Запада. М., 2017.
- Веннер Д. Шок истории. Религия, память, идентичность. М., 2019.
- Гвардини Р. Господь. М., 2015.
- Генон Р. Великая триада. М., 2010.
- Генон Р. Символы священной науки. М., 2002.
- Генон Р. Царство количества и знамения времени. М., 1994.
- Де Бенуа А. Вперед, к прекращению роста! Эколого-философский трактат. М., 2007.
- Де Бенуа А. Как можно быть язычником. М., 2013.
- Де Бенуа А. По ту сторону прав человека. В защиту свобод. М., 2015.
- Де Бенуа А. Против либерализма (к Четвертой политической теории). СПб, 2009.
- Зомбарт В. Собрание сочинений в 3 тт. Т. 1. СПб., 2005.
- Зомбарт В. Собрание сочинений в 3 тт. Т. 2. СПб., 2005.
- Зомбарт В. Собрание сочинений в 3 тт. Т. 3: Исследования по истории развития современного капитализма. СПб., 2005.
- Кальтенбруннер Г.-К. Трудный консерватизм. М., 2020.
- Молер А. Консервативная революция в Германии 1918-1932. М., 2017.
- Моррас Ш. Фрагменты. Об Англии, Германии, Франции и монархии. М., 2018.
- Руткевич А.М. Вернер Зомбарт - историк капитализма // Зомбарт В. Собрание сочинений в 3 тт. Т. 1. СПб., 2005.
- Руткевич А.М. Теория институтов А. Гелена // Консерваторы XX века. М., 2006.
- Тагиров Ф.В. Европейский консерватизм и природопознание: «фаустовская» идентичность // Проблемы современного образования. 2022. № 1.
- Тагиров Ф.В. Кризис европейской идентичности и традиция: три консервативных ответа континентальной мысли XX - начала XXI вв. // Гуманитарный вестник. 2020. № 5.
- Хайдеггер М. Исток художественного творения. // Исток художественного творения. Избранные работы разных лет. М., 2008.
- Хайдеггер М. Слова Ницше «Бог мертв» // Работы и размышления разных лет. М., 1993.
- Шмитт К. Земля и море. Рассказ для моей дочери // Номос Земли в праве народов jus publicum europaeum. СПб., 2008.
- Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. В 2 тт. Т. 1: Гештальт и действительность. М., 1993.
- Шпенглер О. Закат Европы. Очерки морфологии мировой истории. В 2 тт. Т. 2: Всемирно-исторические перспективы. М., 1998.
- Эвола Ю. Восстание против современного мира. М., 2016.
- Элиаде М. Аспекты мифа. М., 2000.
- Элиаде М. Миф о вечном возвращении (Архетипы и повторение) // Космос и история. М., 1987.
- Элиаде М. Мифы, сновидения, мистерии. Киев, 1996.
- Элиаде М. Священное и мирское. М., 1994.
- Элиаде М. Трактат по истории религий. М., 2015.
- Юнгер Э. О духе // Националистическая революция. М., 2008.
- Юнгер Э. Уход в лес. М., 2020.
- Юнгер Э. Эвмесвиль. М., 2013.
- Lings M. The symbol // The Underlying Religion: An Introduction to the Perennial Philosophy. World Wisdom, 2007.
Дополнительные файлы