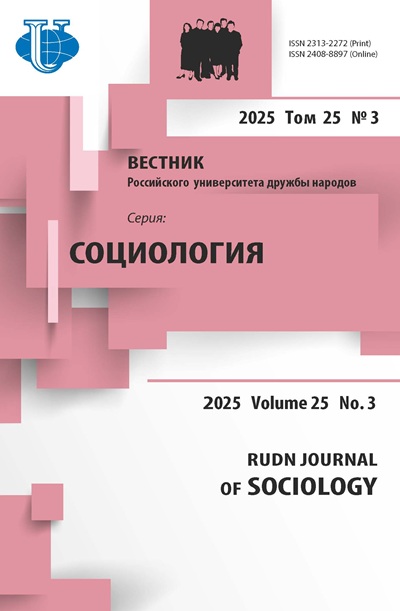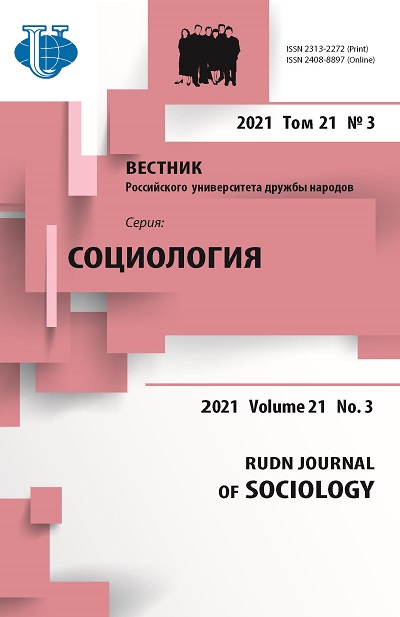Негероические герои: два подхода к анализу медийных образов
- Авторы: Субботина М.В.1
-
Учреждения:
- Российский университет дружбы народов
- Выпуск: Том 21, № 3 (2021)
- Страницы: 623-633
- Раздел: Рецензии
- URL: https://journals.rudn.ru/sociology/article/view/27425
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-2272-2021-21-3-623-633
- ID: 27425
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В современную эпоху медийные «герои» формируют одну из сильнейших по своему влиянию референтных групп, которая определяет наше восприятие собственной жизни в терминах счастья, успеха, справедливости, благополучия или, напротив, их противоположностей. Статья представляет собой рецензию на две книги: Салахиева-Талал Т. Психология в кино: Создание героев и историй. М.: Альпина нон-фикшн, 2019. 349 с.; и Лилти А . Публичные фигуры: Изобретение знаменитости (1750-1850) / Пер. с франц. П.С. Каштанова. СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 2018. 496 с. Автор считает, что подобные работы необходимы для расширения кругозора социолога, интересующегося формированием устойчивых социальных представлений о счастье, справедливости и благополучии, поскольку показывают, каковы психологические и визуальные (в первой книге), а также исторические и медийные (во второй книге) предпосылки и инструменты формирования «героических» образцов для подражания.
Ключевые слова
Полный текст
Герой — многогранное понятие, требующее комплексного подхода к своему изучению [см., напр.: 10; 14]. В русском языке слово «герой» имеет пять основных значений: человек, который совершил подвиг мужества, доблести, самоотверженности; человек, который является для кого-то идеалом, предметом восхищения, образцом для подражания; образ, воплощающий в себе характерные черты своей эпохи или среды; человек, чем-то отличившийся и привлекший к себе внимание («герой дня» в новостях); главное действующее лицо в фильме, книге, спектакле [6. С. 135–139]. В современном обществе, безусловно, превалируют три последних определения, в том числе и как своего рода «референты» при оценке социально одобряемых и/или требуемых качеств человека и его жизни, в том числе счастья и справедливости — личных, групповых и социальных. Для социолога важна не только корректная «фиксация» в общественном мнении тех публичных фигур, что задают образцы для подражания, но и понимание того, как «конструируется» знаменитость/герой, с помощью каких средств и инструментов, включая визуальные [см., напр.: 8; 9].
Ответы на эти вопросы стремятся дать авторы двух рассматриваемых книг — Антуан Лилти в работе «Публичные фигуры: Изобретение знаменитости (1750–1850)», посвященной первым популярным людям и героям светской хроники, и Татьяна Салахиева-Талал в монографии «Психология в кино. Создание героев и историй», описывающей разные кинематографические персонажи и «фреймы», используемые для конструирования образов разных по типажу «героев».
Тот факт, что в различных культурах встречаются похожие сказания о героях, стал очевиден в период колонизации — когда европейцы столкнулись с культурой Нового Света и обнаружили множество параллелей в мифах и легендах двух континентов. Схожие герои представлены во всех культурах и сферах искусства, что позволяет квалифицировать «героя» как культурную универсалию. Так, В. Пропп, проанализировав огромное количество сказок, систематизировал этапы пути и функции героя [4], а Д. Кэмпбелл провел сравнительное исследование мифов из разных частей света и обнаружил в них как тематические аналогии, так и схожую сюжетную структуру [3].
Сегодня образы героев конструируются в основном инструментами визуальной культуры, в частности, в кинематографе, который Т. Салахиева-Талал рассматривает как вид нарративного искусства — через универсальные мифы кино транслирует нам вечные смыслы и ценности. В отличие от художественной литературы, которая позволяет читателю активно задействовать воображение, кинематограф предлагает зрителю готовые визуальные решения: человек эмоционально вовлекается в события, происходящие на экране, его психологическая защита притупляется, а эмоциональный отклик возрастает, и на первый план выходят внутренние конфликты и подавленные эмоции, которые в повседневной жизни могут не осознаваться и не ощущаться. Но вовлеченность зрителя обеспечивается, только если он доверяет тому, что происходит на экране, и в той или иной степени ассоциирует себя с персонажами фильма («я могу/хочу/являюсь столь же красивым/умным/справедливым/счастливым», или наоборот). Сегодня насмотренность, скепсис и снобизм зрителя растут, и кинопроизводителю все сложнее добиться эмоционального отклика аудитории, поэтому акцент делается на обыденной проблематизации — чтобы зритель идентифицировал себя с персонажами, узнавал и привыкал к героям, т.е. чтобы случилась эмоциональная вовлеченность.
Салахиева-Талал подчеркивает, что не следует слепо применять психологические концепции в жизни, ставя «диагнозы» окружающим и основывая на них сценарии. В первой главе она описывает сходства психологии и кинематографа (исследование человеческой души), ссылаясь на их общего «прародителя» — Аристотеля — и его трактаты «О душе» и «Поэтика» (С. 21). Отправной точкой психологии кино автор считает взаимодействие между тремя участниками кинокоммуникации — автором, историей и зрителем: как рождается история, какие личные проблемы автор пытается решить через создание фильма; какие психологические концепции можно использовать в сценарии, как создать (и развить) образ достоверного героя и достичь психологической глубины в сюжете; что мотивирует зрителя смотреть кино, какое психологическое воздействие фильм оказывает на человека, и чем оно отличается от других форм искусства (С. 22).
Вторая глава посвящена тем психологическим теориям, что чаще всего используются в интересах кинопроизводства, и одна из них — психоанализ З. Фрейда: он рассматривал человеческую природу с позиции борьбы противоположных сил, которую сам человек зачастую не осознает. Многие киноистории схематично повторяют структуру человеческой психики по Фрейду: Эго — герой, с которым мы себя отожествляем; Ид — антагонист, некое темное начало; Супер-Эго — союзник или учитель, который помогает герою и направляет на верный путь. В кинофильме внутренний конфликт получает внешнее проявление, что позволяет захватить внимание аудитории, осознавшей свои глубинные переживаниям. Данная концепция особенно подходит для супергеройских фильмов, в которых протагонист (Эго) обретает сверхспособности, превращаясь в супергероя (Супер-Эго) и побеждает антагониста (Ид), т.е. зритель видит внешнее проявление внутренней борьбы добра со злом.
Не менее значима для выстраивания сюжета аналитическая психология К. Юнга — понятия «коллективное бессознательное» и «архетипы». Под архетипами Юнг понимал универсальные врожденные психические структуры, заложенные в нашем опыте в виде символов и образов: персона или маска — та часть личности, которую человек показывает окружающим, социальные роли, которые он играет; тень — темная часть личности, произрастающая из животного прошлого человека; анима — бессознательное женское начало в мужчине, анимус — бессознательное мужское начало в женщине; самость — интегрирующая часть личности, объединяющая все ее противоречивые структуры. Стремление протагониста к достижению самости лежит в основе многих сюжетов: как правило, истории начинаются с того, что мы видим персону (маску) героя, затем он встречается с тенью (антагонист), реже — с анимой или анимусом, и в решающей битве с антагонистом побеждает противника и обретает новые положительные качества или отчужденные части своей личности, тем самым приходя к архетипу самости. Элементы концепции Юнга нашли отражение в мифах всех народов, работа Д. Кэмпбелла «Тысячеликий герой» основана на идеях Юнга и, в свою очередь, повлияла на концепцию К. Воглера, на которую сегодня опираются сценаристы [1].
Сценарист и продюсер Д. Хармон разработал единую сценарную структуру в форме круга, который также базируется на модели «путешествии героя» Кэмпбелла: персонаж находится в зоне комфорта, у него возникает потребность, он вынужден покинуть зону комфорта и отправиться в «путешествие», приспосабливается к новым условиям, находит искомое, но расплачивается за него, возвращается в привычную среду с новым предметом или знанием, изменяется сам и меняет среду. История не обязательно должна заканчиваться на последнем пункте — после прохождения всего круга герой может начать новую «историю», но уже в контексте других событий [13]. Согласно Юнгу, архетипы заложены в коллективном бессознательном и в способе восприятия мира, поэтому, создавая фильмы и другие художественные произведения, авторы вводят архетипических персонажей, т.е. героизм — нечто мифическое, что находит отражение в реальной жизни [7]. Миф — особый вид историй: герой, отправляясь в путешествие, в итоге приходит к самому себе, и путешествие — внешнее проявление внутренней трансформации, поэтому события и элементы историй, построенных на основе мифа, всегда являются метафорой.
Автор полагает, что фрейдистская структура истории изжила себя, поэтому кинопроизводители начали поиски нового мифа — соответствующего сложной структуре современного мира. Будущее кинематографа связывают с юнгианской эволюционной концепцией: героев в истории может быть несколько; на первый план выходит система персонажей, где каждый представляет определенный пласт общества; больше внимания уделяется контексту жизни героя, т.е. исследованию мира; в истории могут присутствовать несколько оппонентов, но ни один из них не является абсолютным злодеем. Главная цель героя — сломать шаблоны и выйти за привычные рамки, а не просто одолеть злодея, поэтому персонажи не делятся на плохих и хороших, а мир — на черное и белое. Новый миф получает развитие на трех уровнях: внутренняя борьба соответствует внешней, а вместе они соответствуют конфликту в масштабах мира.
Третья глава книги наиболее интересна с социологической точки зрения: Салахиева-Талал рассматривает кино как отражение психологических тенденций времени — каждому историческому периоду соответствует определенное психическое расстройство, которое находит отражение в кинематографе, поэтому на каждом этапе развития общества можно выделить особый тип истории и тип героя. Киногерои выступают квинтэссенцией актуальных проблем своего времени, иначе фильм не найдет отклик у аудитории. В США киноиндустрия сотрудничает с институтами, изучающими социокультурные феномены, — от понимания того, что происходит в обществе, зависит кассовый успех фильма. Российский кинематограф существует как бы в двух плоскостях, сочетая кинофильмы, снятые по госзаказу, с проектами-копиями успешных зарубежных трендов. Тем не менее, и в России зрительский выбор зависит от жанра, тематики и сюжета фильма, т.е. от актуальности проблемы, лежащей в его основе [11].
Говоря о фильмах и героях, характерных для разных исторических периодов, Салахиева-Талал систематизирует особенности западного кинематографа (Табл. 1). В России эволюция героя имела свою специфику, обусловленную государственной идеологией: с 1930-х годов до хрущевской «оттепели» кинематограф транслировал идеализированную картину советской жизни — какой она должна быть. В фильмах сталинского периода прослеживается триада «отец, сын и дух», где отец — сильная фигура, символизирующая партию и главу государства (архетип наставника), сын — советский народ, нуждающийся в наставлениях мудрого отца, а дух — идеология государства [2].
Таблица 1. Типы героев в российском кинематографе
Исторический период | Вторая мировая война | 1950–1970-е: нарциссическое общество | 1970–1990-е: технологическое | 1990-е — наше время: текучее общество |
Ситуация | Социум сталкивается с опасностью Главная форма отношений — слияние Главная ценность — принадлежность к группе Самореализация уходит на второй план Ключевая потребность — выживание | Группе не требуется выживать Личные интересы и самовыражение выходят на первый план Человек отталкивается от группы ради самореализации Расширение «Я» Бунт против системы приводит к насилию и разрушению прежних ценностей | Научно-техническая революция Возвышение машины над людьми Производительность важнее эмоций Семейные Привязанности уходят на второй план Дети предоставлены сами себе, родители делают карьеру Дети растут с иллюзией своей исключительности и ощущают себя самозванцами | Ослабевание семейных связей из-за миграций Утрата корней и традиций Неумение выстраивать близкие отношения |
Герой | Самоотверженный храбрец, приносящий себя и свои интересы в жертву обществу Антигерой — трус, подлый человек, изменник родины | Герой-одиночка прокладывает путь к успеху, несмотря на правила и устои; сильная личность, бросающая вызов миру Более поздний и радикальный образ — герой против всех, бунт через насилие | Персонажи без цели, потерянные и деструктивные, склонные к саморазрушению Блокбастеры, где мир поделен на черное и белое, есть четкие ориентиры и «правильный» герой | Одинокий человек, не умеющий выстраивать тесные контакты с другими |
Герой «оттепели» — подросток, символизирующий новое поколение, которое ищет свой путь и действует не по указу сверху. Главной чертой героя 1960-х становится «жизнь по совести», ответственность за себя и окружающих, но он пока еще не бунтует против родителей и государства. В 1970-е годы на экранах доминирует уставший, сдавшийся, разочаровавшийся герой без жизненной энергии и веры в светлое будущее. В 1970-е формируется еще один тип героя: «деловой человек», циничный и прагматичный, умеющий приспособиться к обстоятельствам. Ему противостоит «передовик производства», трудящийся на благо родины (часто это женский персонаж). В 1980-е годы в кино появляется герой-бунтарь: дерзкий, рисковый, эгоцентричный молодой человек. Это период кризиса, переломный момент, когда нужно разрушить старый мир, чтобы выжить, — по сути, мифологический сюжет: герой встречается с бездной и перерождается, обретая новые качества (период перестройки). В кино 1990-х годов центральной темой становится насилие ради насилия и беспощадный бунт — на первый план выходят сюжеты, связанные с криминальным миром.
В 1990-е и 2000-е годы активное влияние западных ценностей на российскую культуру привело к тому, что пропущенные этапы, пережитые западным обществом, стали проживаться в России в «ускоренной перемотке». Так, нарциссические тенденции, очевидные в западном кинематографе в 1950–1970-е годы, нашли отражение в российском кинематографе 1990-х: у людей с коммунальным прошлым и без права на интимность стало популярным словосочетание «мои границы», в российских фильмах часто появляется эмоционально холодный герой, неспособный на близость и проявление чувств — пассивный, депрессивный, бессильный перед системой. Одновременно снимаются спортивные драмы, направленные на воспитание патриотических чувств и национальной гордости, в которых прослеживается триада соцреализма: отец (тренер), сын (команда) и дух (идея общей победы).
Выделение типичных персонажей для разных эпох — достаточно спорное решение, но сама концепция социально-экономической контекстуализации кино имеет право на существование. Например, нынешняя пандемия обусловила популярность фильмов про эпидемии, т.е. общество нуждается в фильмах, помогающих ему осмыслить происходящее, а кинематограф реагирует на современные вызовы.
В четвертой главе проанализированы «пути» героя, которые наиболее часто встречаются в кино и опираются на триаду «потребность–желание–цель» (С. 128). Потребность является движущей силой истории, даже если не осознается героем, и ее реализация лежит в основе изменения характера персонажа. Желание отличается от потребности тем, что осознается героем и влияет на внешние события, происходящие с персонажем. Соотношение желания и потребности позволяют создать глубокого и многомерного героя: часто сюжет построен так, что герой не может достичь желаемого, пока не удовлетворит внутреннюю потребность. Эта взаимосвязь обеспечивает разные варианты сценария: внутренний конфликт героя или внешние обстоятельства, выступающие аллегорией внутренней борьбы. С потребностью связан изъян — внутренняя проблема, не дающая герою развиваться и достигать желаемого. Если история построена по принципу преодоления изъяна, то она включает самооткровение — осознание персонажем самого себя и способа взаимодействия с миром, как правило, перед финальной схваткой со злом: герой избавляется от изъяна (количественные изменения постепенно приводят к качественной трансформации), что позволяет ему одержать победу.
Последующие главы книги посвящены становлению характера героя и преодолению им тех своих черт, что подпитывают «изъян» (невроз с позиций гештальт-терапии), и автор опирается на теорию мономифа Дж. Кэмпбелла и возникшую на его основе сценарную концепцию К. Воглера. В целом книга позволяет читателю получить достаточно полное представление о (социально-)психологических принципах конструирования образа героя посредством визуально-сюжетной репрезентации в кинематографе, а также, что принципиально важно для социолога, показывает социально-историческую обусловленность (инструментов создания) образа героя как отражения особого этапа в развитии конкретного общества через сочетание определенных личностных черт (счастлив герой или нет, справедлив или нет, активен или нет и т.д.).
Книга Антуана Лилти предлагает читателю иную «оптику» для исследования образа героя (светской хроники, нашего времени, дня) — с позиции реальной жизни, а не кинематографа. Для социолога работа будет особенно интересна тем, что основана на анализе огромного количества документов и на сочетании концептуальных построений признанных социальных ученых, что позволяет автору объяснить, почему сегодня знаменитости «героизируются» и превращаются в своего рода «предмет культа». Лилти считает необходимым разделять три понятия: знаменитость, слава и репутация. Слава — это вневременное признание, которое получает незаурядный человек за героический поступок или великое творение, но, как правило, посмертно — в форме коллективной памяти (С. 10). Репутация — это совокупность социализированных мнений, оформившихся через обсуждения и пересуды, т.е. репутацию имеют все члены общества (С. 11). Знаменитость не сводится к широкой известности среди современников и не тождественна репутации, основанной на профессиональных или личных качествах. Если человек становится знаменитым, то превращается в публичную фигуру, и интерес публики к нему начинает измеряться другими критериями, прежде всего, умением удерживать интерес публики: политики, спортсмены, музыканты и пр. становятся «героями» медиашоу (С. 13).
Лилти полагает, что публика формируется благодаря общему любопытству, а не обмену рациональными аргументами (С. 16), что соответствует теории коммуникации Г. Тарда: люди, осознавая, что им интересно то же, что и большинству их современников, чувствуют единение и получают от этого удовлетворение (С. 17). Если понимать под публичностью процесс непрерывного воспроизводства публики посредством распространения зрительных образов и дискурсов в медиа, то можно говорить об амбивалентности публичности: с одной стороны, публичность демократична — подразумевает отсутствие монополии элит на информацию, с другой стороны, публичность выступает символом вульгарности в глазах элит. Чем более знаменитой становится та или иная фигура, тем больше ее поклонники уверены в том, что их связывают с ней особые личные отношения: так знаменитость и отрицает, и стимулирует механизмы индивидуализации. Причем постепенно поклонники все больше внимания уделяют событиям в личной жизни знаменитости, переставая акцентировать внимание на ее выдающихся качествах, и часто имидж знаменитости основан на личных недостатках. Ощущение, что «звезда» — «тоже человек» делают ее более привлекательной для поклонников, порождая эмпатию и позволяя людям отожествлять себя с ней: выдающиеся качества знаменитого человека приближают его к «небожителям», а недостатки — к обычным людям. Данная теория перекликается с концепцией амбивалентности героя [11], согласно которой герои должны обладать недостатками, чтобы привлекать всеобщее внимание. Лилти не связывает парадокс знаменитости исключительно с появлением современных СМИ: проанализировав документы и архивные записи, он показывает, что феномен знаменитости зародился в Париже и Лондоне еще в середине XVIII века.
Так, в первой главе автор показывает амбивалентность знаменитости на примере случая с Вольтером, когда в Комеди Франсез его бюст был увенчан лавровым венком. Официально данное событие считалось триумфом Вольтера, но многие современники сочли «коронацию» унизительным фарсом (С. 26), тем более что театр тогда не был подобающим местом для почестей: театральная сцена была пространством и для элит, и для простонародья, а статус даже известных актеров считался достаточно низким (С. 27). К 1778 году популярность Вольтера достигла пика — его знали даже те, кто не читал его работ. Сам Вольтер активно поддерживал образ самого знаменитого человека Европы, проводя светские приемы в своем поместье, которые напоминали театральные представления — чтобы гости по возвращении домой рассказывали яркие истории из его жизни, подпитывая интерес окружающих. Вольтер сравнивал себя с диким зверем, которого показывают на ярмарочных балаганах, подчеркивая двойственность знаменитости: с одной стороны, публичный интерес создает знаменитость, с другой — превращает человека в объект наблюдений (так, популярностью пользовались изображения философа в домашней обстановке за совершением ежедневных бытовых ритуалов), т.е. знаменитость — своего рода кабала (С. 30–31). Критики того времени сравнивали Вольтера с популярным тогда комедийным актером Воланжем, считая его даже более известным, чем Вольтер: согласно Лилти, запасы общественного внимания не безграничны, и одна знаменитость неизбежно будет вытеснять другую в общественном мнении (С. 38). Конечно, после смерти именно Вольтер обрел подлинную славу, т.е. знаменитость нельзя считать лишь переходным этапом между репутацией и славой, но именно она открывает дорогу новым практикам и нарративам, которые тиражируют СМИ (С. 41).
Во второй главе Лилти показывает, какие социальные и культурные изменения подготовили почву для появления современных «звезд»: в XVIII веке увлечение европейцев театром привело к тому, что возникло множество механизмов поддержания знаменитости, порожденных коммерциализацией индустрии развлечений, — пресса, специализирующаяся на личной жизни актеров, продажа изображений популярных актеров, иерархия актеров в труппах (по критерию дохода и условий труда), спектакль-бенефис, частые гастроли, благотворительные вечера в пользу нуждающихся и т.д. В третье главе автор прямо говорит о «первой медийной революции»: феномен знаменитости зародился не в эпоху цифровизации, когда современные технологии позволили тиражировать информацию (в первую очередь визуальную) в огромных масштабах, а еще в XVIII веке — когда увеличилось количество грамотных людей, способных читать газетные статьи, биографии и мемуары о жизни знаменитых актеров (часто их заказывали сами актеры), стали продаваться не только портреты знаменитостей, но и сувенирная продукция с их изображениями (брелоки, статуэтки, украшения и т.д.), т.е. начала формироваться «визуальная культура знаменитости» (С. 86).
Знаменитыми становились не только актеры и выдающиеся представители своего времени, но и, казалось бы, ничем не примечательные люди (с точки зрения талантов и поступков). Например, преступник Картуш, которому долгое время удавалось избежать правосудия, — о нем писали статьи и книги, ставили пьесы. Существует предположение, что пьесы про Картуша ставились по заказу властей, чтобы показать его в негативном свете в назидание общественности, но публика среагировала иначе, сделав Картуша одной из своих любимых публичных фигур. Интерес публики подогревался, в первую очередь, недостатком официальной информации и противоречивостью чувств, которые вызывали преступники (С. 130).
Тем не менее, в четвертой главе Лилти признает, что в XVIII веке не было понятия «знаменитость», и это затрудняет изучение процессов, происходивших в общественном сознании в то время. Философы-просветители рассуждали о феноменах славы и героизма, но скорее с критической точки зрения: славу, заработанную рискованными поступками, сменили более прозаические и рациональные ценности — «приятное» и «полезное» (С. 141), а «героя» — «великий муж», т.е. герой, обладающий человеческими чертами (С. 143). Эти процессы Лилти показывает в пятой главе на примере жизни Жан-Жака Руссо: получив премию Дижонской академии, он в одночасье стал знаменит, хотя не гнался за известностью и воспринимал ее как бремя и испытание, сокрушаясь, что окружающая его толпа не дает ему по-настоящему с кем-то сблизиться. Сочетание знаменитости философа с сильным эмоциональным воздействием его книг на публику заставляло читателей писать ему послания, где они делились своими чувствами и выражали надежду на личную встречу (С. 193). Руссо признавал, что полностью утратил контроль над собственным образом, превратился в пассивного его наблюдателя, стал одиночкой в толпе поклонников и потерял свое «я» среди своих публичных образов.
В шестой главе Лилти фокусируется на знаменитостях в политике: например, Наполеон Бонапарт культивировал и подогревал слухи о своих подвигах, а публика, интересуясь личной жизнью знаменитого человека, начинает разделять политические воззрения своего кумира. В заключительной главе книги феномен знаменитости рассмотрен в эпоху романтизма, с которой связан культ субъективности, непризнанного творческого гения, напрямую влияющего на сердца читателей и зрителей. Романтизм характеризует, с одной стороны, медиатизация культурной жизни, а, с другой стороны, попытки установить прямой контакт между автором и читателем, причем романтический творец зачастую был и гением пиара, и воплощением сентиментальности (С. 337). Так, популярность Байрона была связана не только с художественными достоинствами его произведений, но и с бурной личной жизнью, благодаря чему сложился «образ разочарованного бунтовщика-идеалиста, отказывающегося подчиняться общепринятой морали и попеременно надевающего на себя маску обличителя, соблазнителя или страдальца» (С. 340).
Таким образом, согласно Лилти, феномен знаменитости, который сегодня определяет социальные представления о правильном и запретном, должном и недопустимом, (не)счастье и (не)справедливости, разумности и эмоциональности, сложился по следующим причинам: повышение общего уровня образования, что позволило людям читать статьи и книги о знаменитых людях, рост печатной продукции, совершенствование технологий тиражирования изображений и изменение характера жизнеописаний знаменитых людей (переход от официальной информации и панегириков к описаниям личных историй и появлению анекдотов). От репутации и славы знаменитость отличается рядом особенностей: инверсия частного и публичного (интерес публики к деталям личной жизни публичной фигуры); имя знаменитого человека известно даже тем, кто не знаком с его (профессиональными) заслугами; ощущение эмоциональной связи поклонника со знаменитостью; локальность во времени (в отличие от славы, знаменитость «живет» недолго — имеет значение только для современников); уравнивание статуса знаменитостей (публика ставит в один ряд политиков, спортсменов, артистов и преступников). В современную эпоху все эти особенности и причины обрели лишь иные масштабы и технологическое оформление.
Об авторах
Мария Владимировна Субботина
Российский университет дружбы народов
Автор, ответственный за переписку.
Email: mariya.subbotina.1995@mail.ru
аспирантка кафедры социологии
ул. Миклухо-Маклая, 6, Москва, 117198, РоссияСписок литературы
- Воглер К. Путешествие писателя: Мифологические структуры в литературе и кино. М., 2017.
- Зайцева Л.А. Киноязык: опыт мифотворчества. М., 2010.
- Кэмпбелл Дж. Тысячеликий герой. СПб., 2017.
- Пропп В.Я. Морфология сказки. Л., 1928.
- Салахиева-Талал Т. Психология в кино: Создание героев и историй. М., 2019.
- Соколова Б.Ю. Проблема дефиниций понятия «герой» // Осознание культуры - залог обновления общества. Вклад современной науки в общечеловеческую культуру. Севастополь, 2009.
- Талал А. Миф и жизнь в кино: смыслы и инструменты драматургического языка. М., 2018.
- Троцук И. Нарративность визуального, или О пользе несоциологического чтения // Социологическое обозрение. 2014. Т. 13. № 1.
- Троцук И.В., Субботина М.В. Счастье и героизм, личное и коллективное как основные элементы «светлого будущего» в советской (не)утопии // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2019. Т. 19. № 4.
- Троцук И.В., Субботина М.В. Феномен героизма: две «хронологические» интерпретации // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2017. Т. 17. № 3.
- Фонд кино и ВЦИОМ обрисовали портрет посетителя российского кинотеатра // URL: http://www.kinometro.ru/news/show/name/Fond_VCIOM_new_study_7935.
- Efthimiou O., Allison S.T., Franco Z.E. (Eds.). Heroism and Well-Being in the 21st Century: Applied and Emerging Perspectives. Routledge, 2018.
- The Dan Harmon Story Circle: What Authors Can Learn from Rick and Morty // URL: https://blog.reedsy.com/guide/story-structure/dan-harmon-story-circle.
- Trotsuk I.V. Complex concepts with varying connotations: In search for conceptual definitions // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2021. Т. 21. № 2.
Дополнительные файлы