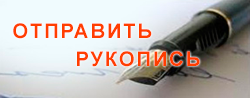Историческое наследие советской версии модерна: новые теоретические подходы
- Авторы: Масловская Е.В.1, Масловский М.В.1
-
Учреждения:
- Социологический институт РАН - филиал ФНИСЦ РАН
- Выпуск: Том 20, № 1 (2020)
- Страницы: 7-17
- Раздел: Вопросы истории, теории и методологии
- URL: https://journals.rudn.ru/sociology/article/view/22940
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-2272-2020-20-1-7-17
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В статье рассматривается академическая дискуссия вокруг сложившихся в последние годы подходов к анализу посткоммунистических трансформаций в России и странах Центральной и Восточной Европы. В исследованиях социально-политических изменений в посткоммунистических обществах осознается необходимость более глубокого анализа длительных исторических процессов и культурного контекста. В статье подчеркивается, что «новый историзм» в изучении посткоммунистических трансформаций имплицитно следует социологическому анализу множественных модернов, хотя значение этой концепции не всегда признается. Авторы прослеживают преемственность анализируемой научной традиции и неизбежные интеллектуальные разрывы и концептуально-методологические пересмотры. Первоначальная версия концепции множественных модернов, предложенная Ш. Эйзенштадтом в 1990-е годы, связана с понятием «культурной программы», что предполагает зависимость от колеи предшествующего развития. Ограниченность данного подхода преодолевается в работах таких социологов, как Й. Арнасон и П. Вагнер. Авторы обосновывают актуальность обращения к концепции множественных модернов для переосмысления значения исторического и культурного наследия в посткоммунистических обществах. Исследования посткоммунистических трансформаций нередко опирались на более ранние версии теории модернизации, предполагавшие достаточно плавный переход к рыночной экономике и демократическим институтам. Однако такой подход сталкивался с трудностями, когда происходил откат в экономической и политической либерализации. Концепция множественных модернов позволяет преодолеть недостатки данного подхода. В новейших исследованиях роли исторического наследия в жизни посткоммунистических обществ оно не рассматривается как культурная программа, однозначно определяющая развитие в заданном направлении. В качестве примера сохраняющегося влияния исторического наследия советской системы в статье рассмотрены разные версии консервативной идеологии в российском обществе и отмечено, что основные «идеологические экосистемы» предлагают собственные интерпретации модерна.
Полный текст
В последние два десятилетия в изучении обществ советского типа и посткоммунистических трансформаций с позиций разных научных дисциплин наблюдаются новые тенденции. Так, с конца 1990-х годов в работах зарубежных историков наметились два основных направления — выделяющие модернистские (например, рациональная организация труда и надзора за населением) или неотрадиционалистские (прежде всего, распространение неформальных связей и отношений) черты советской системы. Как отмечает американский историк М. Дэвид-Фокс, сторонники модернистского подхода рассматривали главным образом артикулированные элитами программы и осуществлявшиеся «сверху» процессы социальной трансформации. Неотрадиционалистская интерпретация советской истории сформировалась в значительной степени как реакция на модернистский подход. Одно из основных положений неотрадиционалистской критики — утверждение, что «большевистский проект столкнулся с российской действительностью, породив неожиданные перевоплощения традиционного общества» [12. P. 27]. Можно говорить о взаимном пересечении указанных подходов: как «модернисты», так и «неотрадиционалисты» согласны с тем, что советский порядок в определенной степени сочетал модерные и традиционные черты [12. P. 45].
Проблема влияния исторического наследия периода реального социализма на социально-политические процессы в бывших советских республиках и странах Восточной Европы является одной из наиболее дискуссионных. В обсуждении данной проблемы можно выделить три основных этапа: на рубеже 1980—1990-х годов исследователи подчеркивали уникальность исторического опыта коммунизма и неизбежность его влияния на дальнейшее развитие. Наибольшую известность получил тезис К. Джоуита, что новые институциональные паттерны в странах Восточной Европы будут сформированы наследием «ленинистских» режимов [17]. Но вскоре посткоммунистические страны стали рассматриваться в ряду других государств, где происходили процессы демократизации. На протяжении 1990-х годов в сравнительных исследованиях этих обществ господствовала парадигма «транзитологии», но к началу 2000-х годов стали очевидны недостатки данной парадигмы, не позволявшие объяснить разнообразие траекторий социально-политического развития. В результате наметился переход к третьему этапу с выраженным акцентом на историческом и культурном наследии [16].
Большинство исследователей, занимающихся изучением посткоммунистических обществ, проводит основное разграничение между странами Центральной и Восточной Европы, включая три прибалтийские республики, с одной стороны, и остальными бывшими советскими республиками — с другой. Считалось, что «посткоммунистические политические и экономические трансформации следует рассматривать как часть длительного исторического процесса демократизации и модернизации на европейском континенте, временным отклонением от которого было коммунистическое правление. Это в особенности относится к странам Центральной и Восточной Европы, которые исторически тяготели к западному ядру континента, а также и к России, которая вновь утверждает свое отличие от Европы» [16. P. 332]. Кроме того, подчеркивалось, что переосмысление роли исторического и культурного наследия предполагает фокус на «выходящих за рамки национальных границ регионах и более широких „цивилизационных“ идентичностях на макроуровне» [16. P. 335].
Именно такой подход отличает цивилизационный анализ в исторической социологии и сформировавшуюся на его основе концепцию множественных модернов. Однако в работах исследователей, обратившихся в последнее время к переосмыслению проблематики исторического наследия коммунизма, данному подходу уделяется пока недостаточное внимание. В какой-то степени повторяется ситуация с новыми подходами к изучению советской истории. Как отмечает М. Дэвид-Фокс, с конца 1990‑х годов «модернистское» направление в исследованиях советской истории «имплицитно» следовало за социологическим анализом множественных модернов, хотя труды Ш. Эйзенштадта и его коллег оказались вне поля зрения представителей этого направления [11. P. 539]. Тем не менее, концепция множественных модернов обладает значительным потенциалом для анализа исторической динамики обществ советского типа [6].
Социологическая концепция множественных модернов и анализ советской системы
Понятие множественных модернов первоначально ассоциировалось, прежде всего, с трудами Ш. Эйзенштадта, однако с конца 1990-х годов в исторической социологии сложилось несколько подходов к анализу модернизационной динамики, не всегда связанных с его идеями. Концепция множественных модернов исходит из того, что традиции являются фактором модернизации любого общества, поскольку они предоставляют культурные ресурсы, оказывающие влияние на выработку и реализацию разных проектов модерна. В то же время сами традиции изменяются и конструируются в ходе модернизации. Результатом является неизбежное разнообразие культурных и институциональных форм модерна [5; 15]. «Опыт новейшей и притом успешной модернизации в ряде стран, прежде всего азиатско-тихоокеанской зоны, показывает, что традиции могут сосуществовать с реалиями модерна, образуя множество взаимных композиций и переплетений» [8. С. 11—12].
Сформулированная Эйзенштадтом идея «культурной программы» предполагает высокую степень стабильности каждой формы модерна, опирающейся на определенные цивилизационные основания. По мнению ряда исследователей, данный подход преувеличивает степень преемственности в развитии обществ и не уделяет должного внимания процессам социальных изменений. Как указывает В. Кнебль, социологическая концепция Й. Арнасона, подчеркивающая связь цивилизаций с имперскими политическими структурами, позволяет лучше объяснить как преемственность в развитии цивилизаций, так и процессы исторических изменений [18. P. 93—95]. При этом Арнасон отмечает значение межцивилизационного взаимодействия в формировании разных версий модерна [3; 14. P. 24—25]. Арнасон понимает культуру как «констелляцию», в которой креативность социального действия и влияние случайных событий могут существенно изменить траекторию цивилизационной динамики [19. P. 18].
В ряде работ Арнасон демонстрирует возможности применения разработанного им аналитического инструментария на примере концептуализации особенностей развития обществ советского типа [2; 9]. По его мнению, советская модель объединила имперскую традицию осуществляемой сверху социальной трансформации и революционное видение нового общества, результатом чего стал «альтернативный» тип модерна. Согласно Арнасону, можно говорить не о советской цивилизации, а о коммунистической модели модерна, обладавшей лишь некоторыми цивилизационными особенностями. В то же время советская система определяла себя через сопоставление с институциональными рамками западного либерального модерна — как советский ответ на развитие капитализма, демократии и науки в странах Запада. Арнасон подчеркивает, что в каждом случае претензии на то, чтобы превзойти западный модерн, соединяли критику существующих образцов с воображаемым выходом за их пределы.
Коммунистическая версия модерна была подвержена постоянному воздействию кризисных тенденций. Арнасон приходит к выводу, что «проект, развившийся в советскую модель, был рационализирован в качестве ответа на предполагаемый структурный кризис западного модерна. Противоречия и дисфункции, укорененные в динамике капитализма, но получившие отражение во всех сферах жизни модернизировавшихся обществ, должны были устраняться путем перестройки всего процесса вокруг определенного набора целей и эффективного координирующего центра. Но модель, которая выросла из этого проекта, взаимодействуя с более широким историческим контекстом, воспроизвела кризисные тенденции модерна в более острой форме» [2. P. 25].
В работах Арнасона проводится сравнительный анализ коммунистической версии модерна в СССР, Китае и странах Восточной Европы. В частности, реконструируя логику социальных процессов в Чехословакии [10], Арнасон развивает некоторые положения концепции «организованного модерна» П. Вагнера [24]. Вагнер обращается главным образом к истории стран Западной Европы и Северной Америки, но в данном случае речь идет скорее о модификациях культурных и институциональных образцов, сложившихся на Западе, а не об альтернативных моделях модерна. В настоящее время Вагнер разрабатывает исследовательскую программу глобальной сравнительно-исторической социологии, призванную расширить сферу применения его подхода.
В рамках широкого социологического течения, связанного с изучением различных типов модерного общества, Вагнер сформулировал концепцию модерна как «опыта и интерпретации» [26]. С его точки зрения, недавняя история может быть представлена как чередование интерпретаций модерна, отличавшихся региональным разнообразием и опиравшихся на ранний исторический опыт. Вагнер рассматривает главным образом период с 1960-х годов до настоящего времени: в начале периода преобладавшие интерпретации модерна отличались рядом сходных черт в западных демократиях, социалистических режимах советского типа и авторитарных государствах третьего мира — для всех было характерно стремление к «стабилизации экономических и политических отношений, ограничению культурных различий и „замораживанию“ существующей ситуации, допускающему лишь равномерные и предсказуемые изменения» [27. P. 115]. Со второй половины 1960-х годов в мире сложилась принципиально новая ситуация, в частности вследствие роста активности социальных движений, пик которой пришелся на 1968 год: события этого года представляли собой «сочетание политической революции, которая не удалась, и культурной революции, которая завершилась успехом» [25. P. 38]. Новый этап в противостоянии интерпретаций модерна начинается на рубеже 1980—1990-х годов, когда получает широкое распространение «социальное воображаемое», основанное на идеях глобализации и индивидуализации, — идея, что между индивидом и глобальным уровнем практически отсутствуют промежуточные институты. Вместе с тем, как утверждает Вагнер, подобная интерпретация модерна во многом неадекватна, о чем свидетельствуют экономические кризисы, экологические проблемы, конфликты по поводу исторической справедливости, обращение вспять процессов демократизации [27. P. 117].
Вагнер стремится противопоставить неолиберальному видению модерна альтернативные интерпретации, предполагающие активное политическое участие широких слоев и преодоление исторических несправедливостей, — он ссылается на процессы демократизации, в частности, в ряде стран Латинской Америки и Южной Африке. Хотя он допускает, что интерпретации модерна могут направляться элитами, стремящимися сохранить свою власть [27. P. 127], основной акцент он делает на более «прогрессивных» примерах. В любом случае идея столкновения интерпретаций модерна и общие принципы их анализа, предложенные Вагнером, заслуживают серьезного внимания, в частности, можно говорить о различных интерпретациях модерна в современных идеологических течениях.
Последовательная смена разных форм модерна в Центральной и Восточной Европе анализировалась П. Блоккером, который опирался на идеи Арнасона и Вагнера [4]. Как подчеркивает Блоккер, в данном регионе существовало многообразие как соперничавших, так и сменявших друг друга версий модерна. При этом можно выделить чередовавшиеся тенденции к большей открытости либо закрытости по отношению к западному либеральному модерну. С одной стороны, тенденция к открытости проявилась в попытках создания более свободного общества. С другой стороны, противоположная тенденция была реализована в радикальном виде в фашистских и коммунистических проектах. В 1920—1930-е годы в регионе распространилась тенденция к закрытости — как проявление общеевропейского кризиса либерализма. Эта тенденция отмечена в большей или меньшей степени во всех восточноевропейских странах, хотя в Чехословакии сохранилась приверженность конституционно-демократическому устройству государства.
Блоккер разделяет точку зрения Арнасона, согласно которой установление в странах региона коммунистических режимов после окончания Второй мировой войны означало попытку создания альтернативной версии модерна. Вместе с тем Блоккер приходит к выводу, что перенос советской модели в Центральную и Восточную Европу отчасти ослабил тенденцию к закрытости коммунистической системы. В Венгрии, Польше и Чехословакии продолжали существовать традиции, противостоявшие коммунистической идеологии, однако в Албании и Румынии возникли отклонения от советского проекта, связанные с большей степенью изоляционизма (усилилась закрытость по отношению к изначальной модели коммунистического модерна). Согласно Блоккеру, региональные особенности формирования и кризиса коммунистической системы наложили отпечаток на трансформационные процессы в восточноевропейских обществах после ее распада. К сходным выводам приходит Дж. Деланти, который в анализе европейского модерна ориентируется на идеи Арнасона и Вагнера [7; 13].
Ряд исследователей отмечали значение концепции множественных модернов для объяснения крушения советской системы. В частности, к этой проблеме обращается британский политолог Р. Саква. По его мнению, для ее анализа следует использовать теорию модернизации, но не в ее первоначальной версии 1950—1960-х годов [22. P. 72]. Саква ссылается на Дж. Александера, выделявшего четыре теоретических подхода к проблеме модернизации, последовательно сменявших друг друга: классическая теория — антимодернизм — постмодернизм — неомодернизм [1. C. 505—600]. Опираясь на данную классификацию, Саква выделяет две версии «неомодернизационной» теории: к критической версии он относит пересмотр первоначальной теории модернизации, осуществленный в 1990-е годы рядом социологов, включая Александера; цивилизационный подход представлен, прежде всего, трудами Эйзенштадта [22. P. 74]. Но Саква ссылается и на осуществленный Арнасоном анализ советской версии модерна, в соответствии с которым советский эксперимент — неудавшаяся попытка создания альтернативного социального порядка. Советская модель оказывалась, таким образом, не антимодернистской, но модернизированной «неправильным образом» (mismodernized). Согласно этой точке зрения, советская система не смогла справиться со всеми «вызовами модерна» [22. P. 75]. В конечном счете, как полагает Саква, концепция множественных модернов обладает наилучшими возможностями для объяснения причин «советского коллапса».
Новые подходы к анализу исторического наследия советской версии модерна
Как подчеркивает немецкий социолог В. Шпон, концепция Арнасона может быть использована для изучения не только обществ советского типа, но и посткоммунистических трансформаций. Исследования этих процессов нередко опирались на ранние версии теории модернизации, предполагавшие достаточно плавный переход к рыночной экономике и демократическим политическим институтам, однако такой подход сталкивался с трудностями, когда происходил откат в экономической и политической либерализации [23. P. 32]. По мнению Шпона, идеи Арнасона могут добавить новые измерения в изучение трансформационных процессов в посткоммунистических обществах, в частности, это относится к переосмыслению исторического наследия советской версии модерна.
Вместе с тем, как отмечают американские исследователи С. Коткин и М. Бейсинджер, не следует безоговорочно принимать тезис о сохраняющемся воздействии исторического опыта коммунизма на траектории развития посткоммунистических стран [20. P. 1]. С одной стороны, этот исторический опыт радикально преобразовал те общества, которые оказались под его воздействием. С другой стороны, долгосрочное влияние данного опыта может оказаться не столь значительным, поскольку многие социальные преобразования коммунистического периода имели насильственный характер, «обедняли общества, либо задерживали их развитие, либо изолировали от глобальных процессов изменений» [20. P. 11]. Хотя исторический опыт коммунистического периода по-прежнему имеет значение подобно колониальному прошлому для многих развивающихся стран, следует ожидать, что его влияние «будет постепенно уменьшаться во многих сферах жизни по мере возникновения новых факторов, формирующих траектории развития» [20. P. 2]. Кроме того, темпы изменений в некоторых странах бывшего советского блока за последние десятилетия были столь быстрыми, что использование термина «посткоммунизм» кажется все более проблематичным.
С точки зрения Коткина и Бейсинджера, в каждом конкретном случае следует учитывать возможности влияния наследия более раннего периода и новых факторов, возникших после крушения коммунистической системы. При этом определенные формы исторического наследия могут не охватывать «все части бывшего коммунистического блока или даже все части Советского Союза. Коммунистический опыт не является единственным значимым историческим опытом, оставившим свое наследие, могут сохраняться разнообразные виды наследия, в том числе предшествовавшие коммунизму (российские имперские, габсбургские, оттоманские), характерные для коммунизма в целом или специфические для Советского Союза» [20. P. 7]. Что касается наследия коммунистического периода, то важное значение имеет то, «где, в каких сферах, каким образом и почему оно проявилось либо не проявилось» [20. P. 7]. Исследователей особенно интересует то, каким образом определенные практики сохраняются и воспроизводятся в условиях масштабных макросоциальных изменений.
Коткин и Бейсинджер выделяют несколько форм, которые может принимать историческое наследие [20. P. 12—16]. Фрагменты прежних институтов могут сохраняться практически в неизменном виде, эти институты могут быть приспособлены для новых целей, элементы прежних и новых институтов могут соединяться, образуя нечто принципиально новое, или усвоенные в процессе социализации способы восприятия и действия могут налагать ограничения на поведение индивидов. В последнем случае речь идет о габитусе в понимании П. Бурдье. В то же время в ряде случаев сложно четко разграничить подлинное историческое наследие и использование социальными акторами прошлого для достижения сегодняшних целей. Кроме того, сохранение определенных практик может быть обусловлено многообразными причинами — как историческим наследием, так и функциональными требованиями [20. P. 20].
В новейших исследованиях роли исторического наследия в жизни посткоммунистических обществ оно не рассматривается как культурная программа, однозначно определяющая развитие в заданном направлении. Как подчеркивают Коткин и Бейсинджер, «не все глубоко укорененные формы исторического опыта влияют на последующее поведение; историческое наследие обычно взаимодействует с другими причинными механизмами и процессами; множественные формы наследия могут взаимно усиливаться или противоречить друг другу; большая часть повседневного поведения может быть связана скорее с контекстом, чем с историческим наследием; та степень, в которой наследие оказывает „определяющее“ влияние, варьирует и требует изучения» [20. P. 8—9]. Тем самым они выступают против представления о наследии коммунизма как некоем «генетическом коде», с неизбежностью задающем направление развития. В данном случае подход Коткина и Бейсинджера противоречит идее «культурной программы» Эйзенштадта, но вполне сочетается с концепциями Арнасона и Вагнера, допускающими вариативность и взаимодействие факторов социокультурных изменений.
В качестве примера сохраняющегося влияния исторического наследия советской системы можно назвать различные версии консервативной идеологии в российском обществе. В частности, М. Ларюэль использует метафору «экосистемы» для обозначения групп интересов, продвигающих консервативную идеологию [21. P. 1]. С ее точки зрения, можно выделить три ключевые экосистемы: военно-промышленный комплекс, который охватывает силовые ведомства, государственную и получастную военную промышленность; сферу влияния Русской православной церкви, включающую Московскую патриархию, православных бизнесменов и организации гражданского общества; президентскую администрацию, которая в значительной мере выражает идеологическую позицию российской политической элиты. Военно-промышленная экосистема и сфера влияния РПЦ выдвигают более последовательную идеологическую повестку, тогда как президентская администрация является «наименее идеологически жесткой и наиболее способной к адаптации в новых контекстах» [21. P. 4].
Для анализа различных версий консервативного дискурса российских элит можно использовать понятие интерпретации модерна. Если обратиться к выделенным Ларюэль «идеологическим экосистемам», то следует, прежде всего, отметить преемственность военно-промышленной экосистемы по отношению к советской версии модерна. Несмотря на внутренние противоречия и конфликты в данной среде, ее представители разделяют идею сохранения определенного идеологического контроля над обществом. «Большинство из них верит в систему, вдохновляемую идеями советского типа, в условиях которой людей побуждают проявлять „здоровый патриотизм“, а молодежь воспитывается в военно-патриотическом духе» [21. P. 3]. На первый взгляд, соотнесение сферы влияния РПЦ с интерпретациями модерна не очевидно, однако Ларюэль отмечает, что сфера влияния православия, как и военно-промышленная экосистема, уходит корнями в советское прошлое. В данном случае необходим более широкий взгляд на взаимоотношение религиозной сферы и социальных процессов, который может опираться на понятие интерпретации модерна. Идеология РПЦ связана с представлениями об «особом пути» России как хранительницы традиций православной цивилизации, которая противостоит, прежде всего, секуляризованному, антитрадиционалистскому Западу, стремящемуся к универсализации собственного дискурса о правах человека. Таким образом, православная версия «цивилизационного национализма» включает в себя специфическую интерпретацию модерна.
Более широкая идеологическая палитра, которую использует политическая элита, выстраивая консервативный дискурс, включает, согласно Ларюэль, три важнейших элемента: ностальгию по советскому прошлому, прежде всего брежневского периода; государство-центричное видение российской истории; образ глобализированной, но культурно разнообразной России, сочетающей статус великой державы с либеральными экономическими ценностями. Последний элемент содержит заимствования из разных областей, в том числе «американских политических кампаний и маркетинга, западного постмодернизма, американского неоконсерватизма, консюмеризма, нарративов глобализации и трансформаций в Китае» [21. P. 4]. Иными словами, данная идеологическая палитра содержит элементы интерпретации как советской версии модерна, так и современных глобальных процессов.
Таким образом, различные «идеологические экосистемы» предлагают собственные интерпретации модерна. В случае военно-промышленного комплекса речь идет главным образом о реанимации некоторых черт советской системы. РПЦ отличает установка на противопоставление ценностей православной цивилизации универсалистским устремлениям западного модерна. Политическая элита, с одной стороны, использует ностальгию широких слоев населения по советскому периоду, с другой — по-своему интерпретирует глобальные процессы, связанные с распространением разных версий капиталистического модерна.
***
В целом новый поворот к историческому наследию в исследованиях трансформационных процессов в посткоммунистических обществах в значительной степени пересекается с социологической концепцией множественных модернов. Первоначальная ее версия, предложенная Эйзенштадтом, связана с понятием «культурной программы», что предполагает серьезную зависимость от колеи предшествующего развития, однако ограниченность данного подхода преодолевается в работах Арнасона и Вагнера. Социологическая концепция множественных модернов может служить теоретической основой для трансдисциплинарного анализа не только исторической динамики обществ советского типа, но и сохраняющегося наследия «альтернативной» версии модерна. Как демонстрируют современные исследования исторического наследия «реального социализма», в каждом конкретном случае следует учитывать возможности влияния как наследия более раннего периода, так и новых факторов, возникших после крушения коммунистической системы. В новейших работах наследие коммунизма уже не рассматривается как культурная программа, однозначно определяющая общественное развитие в заданном направлении.
Об авторах
Елена Витальевна Масловская
Социологический институт РАН - филиал ФНИСЦ РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: ev_maslovskaya@mail.ru
доктор социологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник сектора истории российской социологии
Ул. 7-я Красноармейская, 25/14, Санкт-Петербург, 190005, РоссияМихаил Валентинович Масловский
Социологический институт РАН - филиал ФНИСЦ РАН
Email: m.maslovskiy@socinst.ru
доктор социологических наук, ведущий научный сотрудник сектора истории российской социологии
Ул. 7-я Красноармейская, 25/14, Санкт-Петербург, 190005, РоссияСписок литературы
- Александер Дж. Смыслы социальной жизни: культурсоциология. М., 2013 / Alexander J. Smysly sotsialnoi realnosti: kultursotsiologiya [Meanings of Social Reality: Cultural Sociology]. Moscow; 2013 (In Russ.).
- Арнасон Й. Коммунизм и модерн // Социологический журнал. 2011. № 1 / Arnason J. Kommunizm i modern [Communism and modernity]. Sotsiologichesky Zhurnal. 2011; 1 (In Russ.).
- Арнасон Й. Понимание межцивилизационного взаимодействия // Метод. 2015. Вып. 5 / Arnason J. Ponimanie mezhtsivilizatsionnogo vzaimodeistviya [Understanding intercivilizational encounters]. Method. 2015; 5 (In Russ.).
- Блоккер П. Сталкиваясь с модернизацией: открытость и закрытость другой Европы // Новое литературное обозрение. 2009. № 6 / Blokker P. Stalkivayas s modernizatsiei: otkrytost i zakrytost drugoi Evropy [Confronting modernization: Openness and closure of the other Europe]. Novoe Literaturnoe Obozrenie. 2009; 6 (In Russ.).
- Браславский Р.Г. Цивилизационная теоретическая перспектива в социологии // Социологические исследования. 2013. № 2 / Braslavskiy R. Tsivilizatsionnaya teoreticheskaya perspektiva v sotsiologii [Civilizational theoretical perspective in sociology]. Sotsiologicheskie Issledovaniya. 2013; 2 (In Russ.).
- Дэвид-Фокс М. Модерность в России и СССР: отсутствующая, общая, альтернативная или переплетенная? // Новое литературное обозрение. 2016. № 4 / David-Fox M. Modernost v Rossii i SSSR: otsutstvuyushchaya, obshchaya, alternativnaya ili perepletennaya? [Modernity in Russia and the USSR: Absent, common, alternative or entangled?] Novoe Literaturnoe Obozrenie. 2016; 4 (In Russ.).
- Масловская Е.В., Масловский М.В. Концептуализация европейского модерна в социологии Джерарда Деланти // Социологическое обозрение. 2017. № 3 / Maslovskaya E., Maslovskiy M. Kontseptualizatsiya evropeiskogo moderna v sotsiologii Gerarda Delanty [Conceptualization of the European modernity in Gerard Delanty’s sociology]. Sotsiologicheskoe Obozrenie. 2017; 3 (In Russ.).
- Подвойский Д.Г. Тропами модерна: социологические вариации на тему // Социологические исследования. 2013. № 10 / Podvoisky D. Tropami moderna: sotsiologicheskie variatsii na temu [Paths of modernity: Sociological variations on a theme]. Sotsiologicheskie Issledovaniya. 2013; 10 (In Russ.).
- Arnason J. The Future that Failed: Origins and Destinies of the Soviet Model. London: Routledge; 1993.
- Arnason J. Alternating modernities: The case of Czechoslovakia. European Journal of Social Theory. 2005; 8 (4).
- David-Fox M. Multiple modernities versus neo-traditionalism. Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. 2006; 54 (4).
- David-Fox M. Crossing Borders: Modernity, Ideology and Culture in Russia and the Soviet Union. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press; 2015.
- Delanty G. The historical regions of Europe: Civilizational backgrounds and multiple routes to modernity. Historická Sociologie. 2012; 1-2.
- Delanty G. A transnational world? The implications of transnationalism for comparative historical sociology. Social Imaginaries. 2016; 2 (2).
- Eisenstadt S. The civilizational dimension of modernity: Modernity as a distinct civilization. International Sociology. 2001; 16 (3).
- Ekiert G. Three generations of research on post-communist politics - a sketch. East European Politics and Societies. 2015; 29 (2).
- Jowitt K. New World Disorder: The Leninist Extinction. Berkeley: University of California Press; 1992.
- Knöbl W. Path dependency and civilizational analysis: Methodological challenges and theoretical tasks. European Journal of Social Theory. 2010; 13 (1).
- Knöbl W. Contingency and modernity in the thought of J.P. Arnason. European Journal of Social Theory 2011; 14 (1).
- Kotkin S., Beissinger M. The historical legacies of communism: An empirical agenda. M. Beissinger, S. Kotkin (Eds.) Historical Legacies of Communism in Russia and Eastern Europe. Cambridge: Cambridge University Press; 2014.
- Laruelle M. The Kremlin’s ideological ecosystems: Equilibrium and competition // PONARS Eurasia Policy Memo No. 493. November 2017.
- Sakwa R. The Soviet collapse: Contradictions and neo-modernization. Journal of Eurasian Studies. 2013; 4 (1).
- Spohn W. World history, civilizational analysis and historical sociology: Interpretations of non-western civilizations in the work of Johann Arnason. European Journal of Social Theory. 2011;14 (1).
- Wagner P. A Sociology of Modernity: Liberty and Discipline. London: Routledge; 1994.
- Wagner P. The project of emancipation and the possibility of politics or what’s wrong with post-1968 individualism. Thesis Eleven. 2002; 68 (1).
- Wagner P. Modernity as Experience and Interpretation: A New Sociology of Modernity. Cambridge: Polity; 2008.
- Wagner P. Interpreting the present - a research programme. Social Imaginaries. 2015; 1 (1).