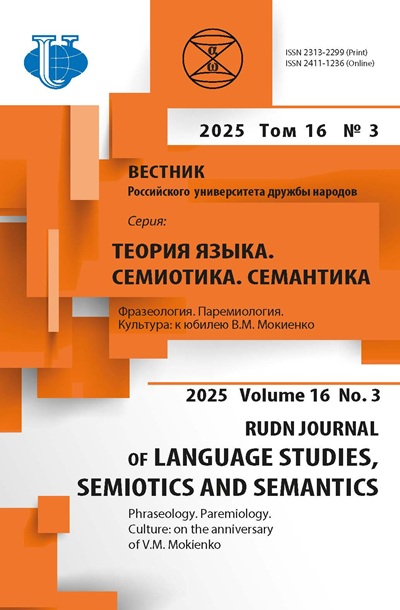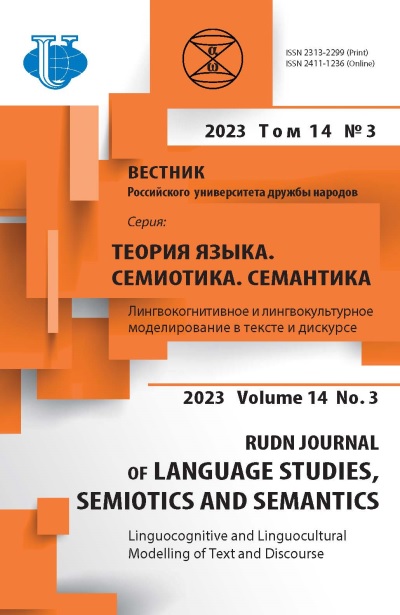Функционально-семантические доминанты языка цифровых трансмедиа в контексте актуальных проблем межкультурной коммуникации
- Авторы: Параккини Л.1, Трофимова Г.Н.2
-
Учреждения:
- Миланский государственный университет
- Российский университет дружбы народов
- Выпуск: Том 14, № 3 (2023): ЛИНГВОКОГНИТИВНОЕ И ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ТЕКСТЕ И ДИСКУРСЕ
- Страницы: 757-768
- Раздел: СЕМАНТИКА И СЕМИОТИКА
- URL: https://journals.rudn.ru/semiotics-semantics/article/view/36459
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-2299-2023-14-3-757-768
- EDN: https://elibrary.ru/RAIRAG
- ID: 36459
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Выявлены и систематизированы в тематических рамках ковида некоторые ключевые функционально-семантические характеристики языкового ландшафта современных трансмедиа, которые представляют собой мультиформатное медиапространство, состоящее из тематически взаимосвязанных медиаресурсов, отражающих единое событие на полях сетевых СМИ, социальных сетей и ньюсмедиа. Исследуя примеры трансмедийных кейсов по освещению событий особой социальной значимости (пандемии) в российских и итальянских трансмедиа, авторы приходят к выводу о том, что язык цифровых трансмедиа демонстрирует тенденции универсализации, что способствует снижению информационных рисков и ослаблению угроз информационного противостояния несмотря на фактор различия в функционировании итальянской и русской языковых систем.
Ключевые слова
Полный текст
Введение
Одной из актуальных проблем современной межкультурной коммуникации стало речевое взаимодействие в рамках обсуждения пандемии Ковид-19. Ее глобальный характер актуализировал языковое творчество во многих странах, освоение темы сопровождалось вхождением новых слов и выражений, которые сразу стали обсуждаться не только обывателями, но и учёными-исследователями в социологии, политологии, психологии, массовой коммуникации и языкознании. В частности, требование всеобщей вакцинации привело к серьёзному противостоянию её сторонников и противников, в том числе в речевом формате. В ситуации социальной изоляции и перехода коммуникации в дистантное, компьютерно-опосредованное пространство именно вербальная коммуникация стала полем активного взаимодействия, быстро перешедшего в фазу острого противоборства, в котором конфликтные стороны стали проявлять агрессию, реализующуюся в негативно-эмоциональных оскорблениях вплоть до прямых призывов к насилию. В то же время в языке ярко проявилась такая коммуникативная особенность, как высмеивание угрозы, усиление комического, иронического влияния на массовую коммуникацию. Все эти тенденции потребовали научного осмысления, которое уже реализовано в ряде статей.
Специфика описываемой ситуации заключается в том, что тема ковида захватила все уровни медиа, от официальных до обиходно-бытовых: социальные сети, сетевые СМИ, ньюсмедиа и пр. Их взаимодействие проявляется в трансмедийности, которая оказывает воздействие на освоение этих новых языковых средств прежде всего на лексическом уровне. В разных странах эти процессы обусловлены национально-культурными особенностями, что порождает неравенство их воздействующего потенциала и неконгруэнтность функционально-семантической доминантности. В то же время схожесть кризисных масштабов влечёт за собой универсализацию межкультурных различий на уровне освоения новой терминологии. В целом сравнительное изучение функционирования лексики ковидной тематики в русском и итальянском языках показало, что в различных лексических группах она осваивается по-разному в зависимости от информационной значимости и сферы использования.
Теоретические основы исследования
Функционирование языка в современных медиатекстах потребовало отдельного рассмотрения, которое привело к появлению нового направления на стыке языкознания, теории массмедиа и журналистики — медиалингвистики. Это позволило поместить языковой ресурс в точку пересечения нескольких направлений и по-другому взглянуть на специфику функционирования языковых единиц, их воздействующий потенциал и роль в реализации задач массмедиа, которые имеют свои особенности. Одной из них является ситуация, в которой находится современный медиатекст как инструмент и результат массовой коммуникации. Особенно существенным стало воздействие компьютерных и телекоммуникационных технологий, расширивших возможности медиатекста и обусловивших качественные сдвиги в восприятии медиа контента. С позиций медиалингвистики, по мнению Т.Г. Добросклонской, на первый план выходит «изучение концептуальной стороны текстов массовой информации, направленное на выявление соотношения реальной действительности и её медиарепрезентаций» [1. С. 51].
Особую ситуацию для функционирования языка представляют собой трансмедиа, в которых различные форматы, влияющие на смыслопорождение, так тесно взаимодействуют между собой, что это, в свою очередь, оказывает специфическое влияние на язык и стиль высказываний. Наиболее ярко это проявляется в кризисных ситуациях особой социальной значимости, в частности ковидной пандемии и кампании по вакцинации. В таком случае трансмедий ные взаимосвязи оказываются еще существеннее. Концепцию трансмедиа впервые предложил Г. Дженкинс в его статье Transmedia Storytelling [2], развивая затем в исследовании «Культура конвергенции» [3. P. 34]. Он предложил понятие трансмедийного нарратива, который развивается на пересекающемся поле медиаплатформ, каждая из которых вносит свой вклад в общий сюжет повествования: «трансмедийное повествование разворачивается в нескольких средах, и каждая сюжетная линия вносит особый и ценный вклад в общее повествование». «Эта новая форма повествования позволяет перейти от индивидуального и пассивного потребления к коллективному и активному развлечению» [3. P. 35], что в свою очередь влияет на языковые интересы и стилистические предпочтения аудитории. Дженкинс формулирует основные свойства трансмедиа, которые определяют речевое поведение их участников. Растекаемость он понимает как «способность общественности активно включаться в распространение медиаконтента через социальные сети, расширяя его экономическую и культурную ценность», а углубляемость — как более глубокое вовлечение в один из трансмедийных компонентов. Следовательно, усиливается и энергичность языкового творчества в стремлении осмыслить происходящее и найти для всех происходящих событий свои, наиболее точные, номинации. Непрерывность, которую автор оценивает как перманентную миграцию пользователей между соединенными цифровыми платформами, позволяет аудитории объединиться и поддерживать сильное чувство «непрерывности», которое способствует удовлетворению «согласованности» и наличию правдоподобия вымышленных миров.
Нарративность организует и функционирование новых лексических единиц, которые становятся ключевыми доминантами при создании и распространении историй. Сторителлинговый формат повышает занимательность языкового творчества и усиливает интерес к взаимным обсуждениям тематики. На различных цифровых мультимедийных платформах эти истории становятся, по мнению К. Сколари, «особого рода нарративной структурой, расширяющейся как за счет разных языков (вербального, иконического и т.п.), так и разных медиа (кино, комиксов, телевидения, видеоигр и др.)» [4. Р. 601]. В то же время вербальный компонент остаётся главным инструментом «конструирования нарративного мира на разных медийных платформах» [5. С. 22]. Постепенно новая лексика организует совокупность нарративов, «которые все больше становятся взаимосвязанным и неограниченным потоком медиаконтента, циркулирующего на разных платформах. При этом отдельные пользователи, ранее известные как “аудитория”, все активнее включаются в сопроизводство этих потоков» [6. Р. 290]. Н.А. Соколова подчёркивает, что трансмедиа как результат сочетания инициативы медиакомпаний с активностью аудитории, которая выходит из статуса пассивных потребителей, обретают новую роль «интерпретативных сообществ» [7. С. 20]. Язык ковидной эпохи ярко отражает различные разновидности этих интерпретаций, в которых смысловые коннотации новых языковых единиц имеют ключевое значение.
В последнее время исследователи выявили тенденцию к нарративизации в нехудожественном контенте, прежде всего в медиапространстве, объединяющем различные СМИ, социальные сети, новые медиа и пр. К. Калинов рассматривает трансмедийное повествование как «задействующее не только различные медиа или каналы доставки, …но и разные языки, которые, среди прочего, могут быть вербальными или знаковыми» [8. Р. 65]. В трансмедиа возникают нарративные пространства, которые Р. Праттен определяет как «единую сюжетную линию с определённым набором персонажей из многих сюжетов, подсюжетов, расширений» [9. Р. 15]. Нарративное пространство трансмедиа на тему Ковид-19 формируется как сфера функционирования огромного количества мини-нарративов, в которых активную роль играет новый язык ковидной эпохи. Основанное на них трансмедийное повествование Калин Калинов рассматривает как «мультимедийный продукт, который передает свое повествование через множество интегрированных медиаканалов» [8. Р. 66]. По мнению А.А. Калмыкова, трансмедиа продуцируют совместное творчество нескольких СМИ, телеканалов и интернет-порталов, периодических изданий и социальных сетей [10. С. 218]. Трансмедийный контент становится мультифункциональным, причём наряду с информированием значимым становится вовлечение аудитории в совместный и активный процесс словотворчества. По мнению Т.Г. Добросклонской, «трансмедиатекст — это интерактивный журналистский материал, созданный с применением мультимедийных технологий и опубликованный в интернет-пространстве» [1. С. 117]. В трансмедиа создаётся нарратив с особой модальностью, где, по выражению О.В. Краснояровой, «трансмедиатекст подстраивается под массовую аудиторию» [11. С. 230]. Новые слова и выражения по сути отражают процессы подстройки. М.А. Деминова и Д.В. Харькова считают, что вербальные и медийные компоненты текста тесно взаимосвязаны и образуют некую целостность, неразрывное единство, составляющее сущность понятия «трансмедиатекст» [12. С. 100]. Лексическое наполнение определяет смысловую канву трансмедиатекста как объединённого нарратива на тему Ковид-19.
Результаты исследования
Исследование речевой медиакоммуникации во время пандемии Ковида-19 выявило специфические функционально-семантические доминанты, которые широко представлены в русском и итальянском языках, демонстрируя как совпадения, так и различия. Мы сосредоточимся на различиях их поведения внутри русского и итальянского языков, обращая особое внимание на активные процессы словообразования с точки зрения лекси ко-семантического аспекта.
Методологически работа была выстроена пятиэтапно. В первых двух этапах рассматривались русские и итальянские материалы [13–16], относящиеся к сбору лексем пандемии (некоторые аспекты вопроса в русском языке изучены во втором разделе сборника под ред. Н.В. Козловской [17]). В обоих языках наметились четыре лексические категории, в рамках которых развились языковые доминанты, типичные для пандемического общения: 1) медицинские термины, которые мигрировали из специализированной прессы во все другие источники информации (изоляция, дистанция, маска, isolamento, distanza, mascher); 2) лексемы, которые ассоциировались с медициной во всех областях общения (локдаун, бустер (вакцина), (протеин) спайк, грин-пасо); 3) заимствования / кальки преимущественно из английского языка, которые вошли в русский и в итальянский; 4) неологизмы, образовавшиеся во время распространения пандемии через различные лингвистические процессы (ковидник, ковидизм, ковидинг, ковидить, раскороновать, вирусовать, вирусоскептик, коронаоке, маскофил. В итальянском языке был обнаружен только неологизм covidizzare, который переведёт русские варианты ковидить, раскороновать, вирусовать. Также существует лексема coronaoke, чтобы назвать домашние концерты, транслированные по сети во время пандемии. По сравнению со словами, как вирусоскептик и маскофил, в итальянском языке не сформировались неологизмы, которые можно считать эквивалентными. В нём используются конструкции, как, например, persona scettica rispetto al virus ‘человек, скептически относящийся к вирусу’, или sostenitore della mascherina ‘сторонник маски’)[1].
В пределах упомянутых категорий на третьем этапе работы были определены доминантные признаки, по которым рассматривалось поведение двух языковых систем, а также факторы влияния данных доминант на развитие лексики. В связи с ограниченным объёмом настоящей статьи было принято решение продемонстрировать результаты исследования на двух терминах медицинской сферы, а именно на лексемах вирус и ковид, как двух из самых репрезентативных лексем пандемического периода. Разница между двумя словами состоит в том, что первое уже являлось частью нормированного языка до 2020 г., а второе — это вновь образованная лексема.
Четвертый этап был сосредоточен на изучении функционирования данных лексем в трансмедийном пространстве России и Италии, где данные использовались бы в качестве мотивирующих слов для создания неологизмов.
В последней части работы анализировались значения неологизмов, выражающих одну и ту же семантику в рассматриваемых языках.
Приведём полученные результаты.
В то время как в русском языке наблюдается большая продуктивность рассмотренных примеров как мотивирующей основы, порождающей неологизмы благодаря словообразовательной цепочке, в итальянском такое развитие явно более ограничено. Например, из лексемы вирус русский язык создает суффиксальные глаголы вирусить, вирусовать, вирусничать и др., передающие семантику быть больным ковидом и передавать инфекцию.
- Долго… собираются вирусить?[2]
- Коронавирус вирусует не хуже прежнего.
- Вот же скукота! Сижу дома, вирусничаю, на больничном… дома скучно…
Итальянский язык, наоборот, чтобы передать данную семантику использует конструкции, образованные двумя и более лексемами (avere il virus, diffondere il virus[3]).
В русском языке доминанта ковид ещё более продуктивна. Она обра зует глаголы, которые выражают болезнь ковидом (ковидеть, ковидничать, ковидовать, ковидствовать, обковидить), заболеть ковидом (ковидиться, ковиднуть, ковиднуться, обковидиться, сковидиться), заразиться или заразить (заковидеть, заковидить, заковидиться), переболеть ковидом (перековидеть, перековидить, перекоронавирусить).
Благодаря использованию различных морфологических элементов (суффиксальной дериваций и префиксов), русский язык выражает с помощью глагольной формы различные состояния субъекта по отношению к заболеванию (быть больным, заболеть, переболеть, заражать). Также в этом случае, чтобы передать аналогичные понятия, итальянский предпочитает не неологические конструкции: avere il covid, prendere il covid, avere avuto il covid, infettare[4].
В русском языке функционирование слова ковид способствует расширению лексической системы также в отношении категории сущест вительного. Возникают понятия ковидец для обозначения больного ковидом; ковидизм, ковидоз, ковидра, ковидство для передачи семантики ковид-инфекции. Ковидизация указывает на общее распространение ковида; ковидник приобретает значение больницы для лечения ковида, больного ковидом и маски для защиты от ковида.
В итальянском языке с точки зрения деривационной неологизации в от ношении существительных также замечается более низкая продуктив ность, хотя были выявлены такие лексемы, как covidista, covidismo и covidico.
- I covidisti sostengono che qualsiasi misura… e legittima se riduce l’incidenza di Covid-19… ‘Ковидисты утверждают, что любая мера… является законной, если она снижает заболеваемость от Ковида-19’.
- Covidismo, ovvero l’ideologia del COVID-19 ‘Ковидизм, т.е. идеология от КОВИДА-19’.
- Covidico. La nuova era dell’umanita ‘Ковидик. Новая эра челове чества’.
- Первые два примера отражают очень тесную связь субъекта с ковидизмом, понимаемым как идеология, которая развилась после появления пандемии. Третий, с другой стороны, указывает на эпоху, связанную с пандемией ковида, несмотря на то, что обнаружились и контексты, в которых covidico обозначает того, кто болен ковидом[5]. Последний вариант не особо распространен, но существует в медиакоммуникации. Однако следует отметить, что, несмотря на наличие этих лексем, в целом проведенные исследования подтвердили, в том числе и в данном случае, склонность итальянского языка к использованию нормированных форм (например, malato di covid, infezione da covid, epoca del covid — болен ковидом, инфекция от ковида, эпоха ковида и т.д.).
Довольно существенные различия между двумя языками встречаются и при анализе неологизмов, рожденных в результате слияния двух лексем. Также в этом случае русский оказывается более продуктивным, чем итальянский. В русскоязычной медиакоммуникации активно употребляются такие слова, как вирусоносец / сца, вирусоносный, вирусолизация, которые также работают, заменяя базу вирус базой ковид. Итальянский язык не передает эти понятия с помощью одной лексемы, а предпочитает такие выражения, как portatore del virus, diffusione totale della malattia6 и т.д.
Сильное влияние, которое вирус оказал на все области жизни, привело к тенденции языковых систем усиливать распространение новой лексики, семантически связанной с болезнью, сочетая их со словами, типичными для различных сфер (экономической, правовой, социальной и т.д.). В этом смысле русский язык создал составные лексемы (вирусокризис, вирусоскептик, вирусобес, вирусобесный) или неологизмы, выражающие точное понятие, ссылаясь на семантическую аналогию, которая в сознании носителя языка формируется между вновь образованным словом и значением второй лексемы, которую оно использует. Например, вирусоборот (вирус + товарооборот), вирус-мажорные обстоятельства (вирус + форс-мажорные обстоятельства), вируспруденция (вирус + юриспруденция — о законе во время пандемии), дивановирус.
Применительно к слову ковид вспомним также ковигист (ковид + пофигист), ковидиот (ковидиотизм, ковидиотство, ковидиотный), ковидарность (ковид + солидарность). Относительно этой последней лексемы, интересно отметить, что прилагательное, которое происходит от неё (ковидарный), имеет два разных значения: элемент, связанный с ковидом (и в этом смысле оно является синонимом ковидный, коронавирусный), и человек, который выражает свою солидарность с теми, кто заразился ковидом. Также в русском языке были выделены слова ковидокалипсис (ковид + апокалипсис), ковидоман (тот, который боится пандемии и принимает все меры, чтобы её остановить), ковидономика (ковид + экономика = экономика во время ковида), ковидофрения (ковид + шизофрения).
И в этом случае итальянский язык оказался более консервативным, чем русский, предпочитая формированию неологизмов использование нормированных слов или конструкций (например, negazionista — тот, который отрицает существование вируса, economia dell’epoca pandemica — экономика пандемической эпохи, schizofrenia da covid — шизофрения от ковида и т.д.). Несмотря на это, однако, даже в итальянском языке удалось найти некоторые контексты, в которых появляются не столько неологизмы, сколько окказионализмы.
- Partecipiamo numerosi all’iniziativa Covidarieta della Fondazione… ‘Активно участвуем в инициативе Ковидарность Ассоциации…’
- Apocalisse Coronavirus sui cocktail bar italiani: previste perdite del 50 % nel 2020 ‘Апокалипсис Коронавирус на итальянские коктейль-бары: планируются потери на 50 % в 2020 г.’.
- Coronavirus, isteria collettiva in quattro passaggi ‘Коронавирус, коллективная истерия в четыре шага’.
Первый пример показывает соответствие русского и итальянского языков в создании неологизма по одному и тому же лингвистическому принципу (covidarieta = covid + solidarieta, ковидарность = ковид + солидарность). Из двух других контекстов вытекает возникновение связи между апокалипсисом и ковидом, с одной стороны, и ковидом и коллективной истерией, с другой. Однако единая составная лексема, как в русском языке, всё же не образуется.
Другим аспектом, который наблюдается из собранных данных, является частое создание в русском языке всех основных элементов, образующих словообразовательное гнездо (существительное, глагол, прилагательное), также исходя из неологизмов, созданных на основе определенной доминантной лексемы. Это подчёркивает существенно разную реакцию двух языков на распространение в них одних и тех же лексических единиц: русский язык показал большую склонность к неологизации, чем итальянский. Мы полагаем, в этом смысле, что можно говорить о более широкой степени языкового творчества внутри русской системы, которое выражается в применении норм деривации, что позволило расширить структуру словообразовательных гнезд различных доминантных лексем. Это относится к словам как русского, так и иностранного происхождения.
Заключение
Проведённое исследование показало, что в рамках трансмедийного пространства терминологические лексические единицы и в русском, и в итальянском языках проявляют схожие функционально-семантические показатели, которые демонстрируют межкультурную унификацию, снижающую информационные риски. Данная конгруэнтность существует, несмотря на разные реакции к лексико-семантическим доминантам, которые с морфологической точки зрения наблюдаются в двух рассмотренных языковых системах. Трансмедийные пространства России и Италии продемонстрировали способность к популяризации медицинских терминов: русский язык — полагаясь в больше степени, чем итальянский на деривационную неологизацию, а итальянский — не отрицая возможность создать новые лексемы, но предпочитая более нормированные конструкции.
1 Contemporary Media Production // International Journal of Communication. 2009. Vol. 3. № 4. P. 586–606.
2 Все указанные примеры размещены на различных страницах Интернета, к которым мы обратились 23.03.2022: ISS: con la TRECCANI a scuola di epidemia. Le parole del coronavirus. Режим доступа: https://www.treccani.it/magazine/parolevalgono/Le_parole_del_Coronavirus/index. html? page=2#listing-grid (дата обращения: 23.03.2022); Istituto Superiore di Sanitá, Nuovo Coronavirus // Le parole dell’epidemia. Режим доступа: https://www.iss.it/documents/20126/0/ Glossario.pdf/fe8c209d-33b7-dbc4-b324-44eee 879895f?t=1585325504835 (дата обращения: 23.03.2022); La Crusca Acasa: le parole della pandemia. Режим доступа: L: https:// accademiadellacrusca.it/it/ contenuti/lacruscaacasa-le-parole-della-pandemia/7945 (дата обращения: 23.03.2022).
3 Буквально иметь вирус, распространить вирус.
4 Буквально иметь ковид, получить ковид, имел/а ковид, заразить.
5 Covidico o covidotico? Режим доступа: https://www.treccani. it/magazine/ lingua_italiana/ domande _e_risposte/ lessico/lessico_805.html (дата обращения: 23.03.2022).
6 Буквально носитель вируса, общее распространение болезни.
Об авторах
Лайла Параккини
Миланский государственный университет
Email: laila.paracchini@unimi.it
ORCID iD: 0000-0002-4053-247X
кандидат филологических наук, научный сотрудник
20122, Италия, г. Милан, ул. Феста дел Пердоно, 7Галина Николаевна Трофимова
Российский университет дружбы народов
Автор, ответственный за переписку.
Email: trofimova-gn@rudn.ru
ORCID iD: 0000-0002-1295-5002
доктор филологических наук, профессор кафедры массовых коммуникаций филологического факультета
117198, Российская Федерация, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6Список литературы
- Добросклонская Т.Г. Вопросы изучения медиатекстов (опыт исследования современной английской медиаречи). М.: Едиториал УРСС, 2005.
- Jenkins H. The Cultural Logic of Media Convergence // International Journal of Cultural Studies. 2004. Vol. 7. № 1. P. 34-35.
- Jenkins H. Convergence culture: Where old and new media collide. N.Y.: New York University Press, 2006.
- Scolari C.A. Transmedia Storytelling: Implicit Consumers, Narrative Worlds and Branding in Contemporary Media Production // International Journal of Communication. 2009. № 3. P. 586-606.
- Гамбарато Р.Р. Панорама российских трансмедиа: опыт картирования мультиплатформенных инициатив // Шаги-Steps. 2017. № 2. С. 20-46.
- Jansson A. Mediatization and social space: Reconstructing mediatization for the trans media age // Communication Theory. 2013. Vol. 23. P. 279-296.
- Соколова Н.Л. Трансмедиа и «интерпретативные сообщества» // Международный журнал исследований культуры. 2011. № 3. С. 16-21.
- Kalinov K. Transmedia Narratives: Definition and Social Transformations in the Con sumption of Media Content in the Globalized World // Postmodernism problems. 2017. № 1. P. 60-68.
- Pratten R. Getting Started in Transmedia Storytelling: A Practical Guide for Beginners. Seattle: Create Space, 2011. P. 13-15.
- Калмыков А.А., Коханова Л.А. Интернет-журналистика. М.: Изд-во Юнити-Дана, 2005.
- Красноярова О.В. Новые термины в теории журналистики и массовой коммуникац ии: процессы формирования и принципы функционирования // Вопросы теории и практики журналистики. 2015. № 3. С. 229-238. https://doi.org/10.17150/2308-6203.2015.4 (3).229-238
- Деминова М.А., Харькова Д.В. Определение трансмедиатекста // Медиаисследования. 2020. № 7. С. 96-103.
- Словарь русского языка коронавирусной эпохи, институт лингвистических исследований / под ред. М.Н. Приемышева. СПб: РАН, 2021.
- Cornaglia Ferraris P. COVID-19. Piccolo dizionario di ció che sappiamo. Laterza: RomaBari, 2020.
- De Vecchis K. Long Covid e sindrome post-Covid: nuove parole dalla pandemia // Italiano digitale. 2021. № XVIII (3). P. 102-107.
- Paoli M. L’italiano e uscito dal lockdown // Italiano digitale. 2020. № XIII (2). P. 108-121.
- Новые слова и словари новых слов / под ред. Н.В. Козловской. СПб: ИЛИ РАН, 2020. С. 148-190.
Дополнительные файлы