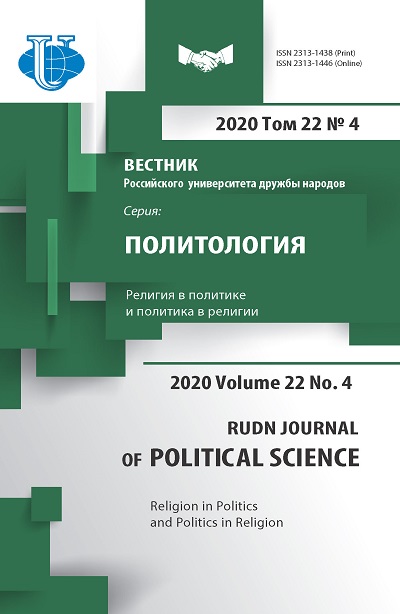Взаимоотношения исламских структур и государства: случай Татарстана
- Авторы: Гузельбаева Г.Я.1
-
Учреждения:
- Казанский федеральный университет
- Выпуск: Том 22, № 4 (2020): РЕЛИГИЯ В ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКА В РЕЛИГИИ
- Страницы: 678-689
- Раздел: РЕЛИГИЯ И ПОЛИТИКА В РОССИИ: СЮЖЕТЫ И ПОЛЕМИКА
- URL: https://journals.rudn.ru/political-science/article/view/24946
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-1438-2020-22-4-678-689
- ID: 24946
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В статье анализируются отношения, которые сложились за последние 30 лет периода постсекулярности между государством и исламскими структурами на примере Республики Татарстан - региона со значительной долей мусульманского населения. На основе данных 14 глубинных интервью с экспертами, имамами и рядовыми жителями республики показано, что светская власть играет доминирующую роль, осуществляя контроль над исламским сообществом и Духовным управлением мусульман. Современные процессы реисламизации связаны с рисками, вызванными исламской глобализацией, что может быть чревато утратой региональной исламской традиции и угрозой стабильности республики. В этих обстоятельствах государство усиливает контроль над религиозной сферой и ставит перед ДУМ РТ важную задачу нейтрализации и профилактики экстремизма. Основными способами преодоления радикализации верующих выбраны просветительская деятельность с особым вниманием к молодежи и образовательная работа прежде всего для подготовки и обучения мусульманского духовенства. Особое внимание в статье посвящено возможности в современных реалиях соблюдать принцип светскости. Другой вопрос касается характеристики двух основных частей, из которых состоит мусульманская умма Татарстана, их различного отношения к проблеме вмешательства государства в дела ислама и реакции на них со стороны государства и официальных исламских организаций. Анализ ситуации позволяет сделать вывод, что ДУМ РТ сложно справиться с запросом служить буфером между светскими властями и исламским сообществом, реагируя на требования не только государства, но и рядовых мусульман.
Полный текст
Введение Взаимодействие между государственной властью и религиозными структурами - один из важнейших аспектов, характеризующий процессы постсекулярности. Ю. Хабермас указывает, что в результате возврата конфессионального измерения в общественную сферу складываются новые сочетания светского и религиозного [1]. Это подразумевает не остановку и смену процессов, а их дальнейшее движение [2]. Описывая ситуацию в России, французская исследовательница К. Руссле утверждает, что религиозность используется элитами для построения постсоветского государства так же, как государственный атеизм участвовал в строительстве государства советского [3, с. 57]. Более двух последних десятилетий в России выстраивается новая модель государственно-конфессиональных отношений. При этом высказываются опасения клерикализации, расширения сферы деятельности религиозных организаций, лоббирования интересов отдельных конфессий на федеральном и региональном уровнях, а также искажения принципа светскости, что проявляется в усилении взаимодействия церкви с институтами политической власти и в попытках религиозных объединений влиять на политические и социальные процессы. Данная статья посвящена анализу взаимодействия между российской государственной властью и религиозными организациями на примере процессов реисламизации в Республике Татарстан с иллюстрацией того, как государство контролирует деятельность исламских структур. Отдельное внимание уделяется ситуации разделения мусульманской общины Татарстана на сторонников традиционного татарского ислама и приверженцев глобализационного ислама, характеристике Духовного управления мусульман РТ как официальной исламской организации, призванной служить посредником между проводимой светскими властями политикой и верующими мусульманами. Также представлены различные мнения татарстанского сообщества о влиянии государства на исламские структуры и соблюдении принципа светсткости1. Реисламизация: движение к религии верующих и инструмент в политике государства Деприватизация, которая является одним из проявлений постсекулярности и обозначает процесс возвращения явлений религиозности в публичное пространство [4], активно продолжается в России с начала 1990-х гг. Православная церковь смогла в определенной степени восстановить свою публичную роль, однако, как утверждает Б. Тернер, нельзя утверждать, что ее влияние основывается на духовном авторитете. Причина популярности религиозных институтов кроется скорее в понимании религии как части традиционного культурного наследия. При этом российское общество сохраняет светские ценности и остается секулярным [5]. Это является справедливым не только для православной части населения России, но и для остальных конфессий, в частности ислама, особенно в Волжско-Уральском регионе страны. Российские мусульмане воспринимают свою религию во многом как часть этнической культуры и один из маркеров этнонациональной идентичности [6]. В разворачивании процессов религиозного ренессанса участвуют как конфессии и рядовые верующие, так и государство. С начала 1990-х гг., когда реисламизация в Республике Татарстан шла быстрыми темпами, она сочетала, с одной стороны, реализацию желаний простых верующих и, с другой - движение к религии со стороны власти. Для мусульман мотивация реисламизации была обусловлена потребностью в новой солидарности и поиском духовных ориентиров в сложный период социальной трансформации в ситуации разрушения советской идеологии и растворения моральных основ. Для политических элит ислам был призван служить в качестве значимого ресурса в контексте налаживания отношений с международным сообществом (на мусульманском Востоке) и позиционирования своего особого места среди других российских регионов. Как отмечает Л. Сагитова, это сочетание интересов создает сложную картину смыслов, целей и тактик в конструировании политического дизайна Татарстана и стратегии взаимодействия светских органов власти и религиозных структур [7, с. 314-315]. Реисламизация в Республике Татарстан проявлялась с начала 1990-х гг. через строительство и восстановление храмов, рост числа их прихожан, появление духовных учебных заведений, издание религиозной литературы, увеличение роли духовных лиц в общественной жизни. По данным социологов по РТ, уровень религиозной идентичности среди этнических мусульман достаточно высок: верующими себя уверенно называют около половины татар [8]. Интерес к вере затрагивает различные социальные группы населения: исследователи фиксируют рост исламской идентичности среди людей различного возраста, гендерной принадлежности, с разным уровнем образования, проживающих и в городах, и в сельской местности [8-10]. И все-таки при декларируемой приверженности исламу для большинства татар характерно игнорирование исполнения исламских практик. Достаточно высокий уровень религиозной идентичности сопровождается слабыми переменами в ценностно-нормативной системе. Государственная власть относится к религии по-своему. Ислам позиционируется ею как «товар», хорошо продающийся на внутреннем и внешнем рынке, а образ «мирного ислама» используется для формулирования современного позитивного, привлекательного имиджа Татарстана. Наряду с этим ислам в глазах региональной власти связан с рисками, формируемыми исламской глобализацией, что может привести к утрате исторически сложившейся татарской мусульманской традиции, внести раскол в умму и привести к появлению мусульманских групп экстремистской направленности [7, с. 317]. Духовное управление мусульман Татарстана как посредник между государством и верующими Государство взаимодействует с мусульманским сообществом посредством религиозных организаций, головная структура которых представлена Духовным управлением мусульман (ДУМ). Практически каждая область нашей страны, где проживают мусульмане, имеет свое духовное управление. На общероссийском фоне среди региональных исламских структур выделяется ДУМ Республики Татарстан как управление, относящееся к наиболее богатому региону с исламским компонентом, которое не входит в подчинение ни одного из центральных духовных управлений. Однако, как и многие российские ДУМы (муфтияты), оно создано и контролируется государством. Формально избираемый председатель ДУМ РТ, или муфтий, фактически назначается светскими властями, а сам муфтият осуществляет контроль и руководство на местах, в том числе назначая «настоятелей» мечетей (имам-хатыбов). Приведем цитаты из глубинных интервью с мусульманами для иллюстрации того, как эта ситуация воспринимается членами мусульманской общины (уммы). Когда-то мы радовались, что государство включило в объекты своей помощи и политики религиозные организации, это вроде способствовало укреплению ислама и росту интереса к вере. Власти помогали строить мечети, организовывать байрамы [праздники], восстанавливать медресе. Но больше внимания религии - и больше контроля. В результате власть вообще все диктует муфтияту. Поэтому там нет ярких популярных в народе имамов, там послушные функционеры теперь (Информант 2, мусульманин, Казань, 2019 г.). Подконтрольность ДУМ РТ государству отражает общую ситуацию взаимодействия между светской властью и религиозными организациями. Отношения религиозных и государственных структур в России строятся на доминировании последних. Перефразировав слова П. Бурдье, отметим, что религиозные иерархи стремятся внушить и закрепить «схемы восприятия» и действия, которые исходят от политических структур. Церковь и ее иноконфессиональные эквиваленты способствуют сохранению политического строя благодаря своей специфической функции поддержания символического порядка [11, с. 55], они придают легитимность политической системе в ответ на политическую, административную и материальную поддержку со стороны светских властей. Государство выступает патроном, а религиозные организации принимают это как данность и подчиняются, приветствуя политический курс властвующей элиты. Одним из ярких примеров подчиненности ДУМ Татарстана явились последние выборы председателя Духовного управления мусульман в 2017 г., когда при безальтернативном голосовании Глава республики Р. Минниханов открыто призвал поддержать кандидатуру муфтия, по сути предложенную им самим. Эта практика, ставшая обычной для мусульманского сообщества, по сути, нарушает базовые принципы светского государства, а именно невмешательство во внутренние дела Духовного управления мусульман РТ. Мусульмане не то, что не сопротивляются, что государство ими напрямую руководит, они воспринимают это как норму. Хваленое мусульманское самоуправление у нас не видели никогда. Последний съезд [мусульман, в апреле 2017 г.] <…> там был Минниханов, и он нахваливал Камиля [Самигуллина, муфтия Татарстана с 2012 г. по настоящее время], рекомендовал, как это у нас называется, его избрать. Конкурента на выборах муфтия не было. Все проголосовали и не увидели в этом давления. Ну, он многих устраивает, потому что это не самостоятельная фигура, споров из-за него минимум (Информант 4, эксперт-исламовед, Казань, 2019 г.). Исламские лидеры открыто поддерживают светскую власть и рекомендуют имамам через проповеди доносить до верующих основные положения социально-политической повестки дня, от общих фраз одобрения правительства и законодательной власти до необходимости терпимо относиться к трудностям [12; 13]. Подчинение ДУМ РТ государству реализуется через осуществляемые муфтиятом практики, в том числе кадровую политику, озвучиваемые и публикуемые тексты (проповеди, статьи в СМИ) и интервью. В случае споров и разногласий между властью и рядовыми мусульманами официальные исламские лица обычно принимают сторону государственных органов. Примечательно, что большинство мусульман, преимущественно так называемых «номинальных», т.е. не соблюдающих ритуальную религиозную практику, воспринимают это как норму. Важный контекст, на фоне которого разворачиваются отношения светских и религиозных структур в республике, связан с рисками исламской глобализации. В обстановке опасений, связанных с терроризмом, у государства возникает соблазн более жестко регулировать конфессиональные организации, сообщества верующих и всю религиозную сферу [3, с. 11]. Появление новых религиозных практик и течений, что характерно для постсекулярных процессов, развело мусульман Татарстана на две основные части: приверженцев так называемого татарского ислама и сторонников исламской глобализации. Первые тяготеют к исторической традиции поволжского ислама со своей богословской школой и тесными связями с этнической татарской культурой, вторые предпочитают арабизированную версию ислама, распространившуюся глобально в мусульманском мире. Между этими двумя частями существуют споры и конкуренция, при этом поддержку от ДУМ РТ и государства имеют приверженцы татарского ислама. Сторонники глобализированного ислама являются последователями идей, популярных в разных концах глобального мусульманского мира, но новых для уммы Татарстана. Эти идеи оцениваются сегодняшними мусульманскими и светскими официальными лицами, некоторыми экспертами и псевдоэкспертами как радикальные, а их сторонники ассоциируются с негативными явлениями в современном мусульманском мире и порой стигматизируются в качестве потенциально опасных и неблагонадежных. С сожалением отметим, что в этой ситуации недопонимания и недоверия, которые присутствуют между двумя сегментами верующих, муфтиятом не уделяется достаточного внимания налаживанию диалога между ними и преодолению подозрительности и противоречий. После распада СССР, когда люди потянулись в мечети, квалификация наших имамов была на низком уровне, литературы мало. Для развития ислама многого не хватало. Стали приезжать арабские миссионеры, стали помогать, много позитивного от них шло. Но еще с ними приехала другая трактовка ислама, специфическая литература, зато они ехали с деньгами. Государство тогда не обращало на это внимания, а мусульмане смотрели на арабов с восхищением и почитанием. Никто не пытался контролировать этот процесс, а муфтияту кроме как у арабов деньги брать было неоткуда, поэтому муфтият с арабскими странами дружил. Потом до государства дошло, чем это опасно, оно все взяло под контроль, и теперь от его всевидящего ока никуда не деться (Информант 7, мусульманин, Набережные Челны, 2019 г.). Рядом экспертов высказываются опасения, что распространение глобализированного ислама может привести к утрате исторически сложившейся теологической традиции татар, внести раскол в умме Татарстана, а также способствовать возникновению мусульманских сообществ экстремистской направленности. Увеличение салафитского влияния, особенно в первое десятилетие нового века, и теракты июля 2012 г. против мусульманских лидеров[170] воспринимаются властью как серьезная угроза стабильности региона. С этим связано усиление государственного контроля над исламскими общинами и институтами в Татарстане [7, с. 137], что направлено на создание правовых ограничений на пути распространения религиозного экстремизма. В этой обстановке ДУМ РТ видит одной из основных целей своей деятельности нейтрализацию и профилактику экстремизма. Из возможных способов преодоления радикализации верующих особый акцент сделан на просветительской деятельности, направленной на различные группы исламского сообщества, среди которых особое внимание уделяется молодежи и образовательной работе, прежде всего подготовке квалифицированных имамов [14]. Работа в этих направлениях обозначена государством как наиболее важная задача, поставленная перед Духовным управлением. Для ее реализации помимо прочего ведется деятельность в рамках Совета по исламскому образованию РФ[171], а в 2016 году в Татарстане в г. Болгар была создана Болгарская академия[172] как высшее исламское учебное заведение, призванная возродить и продолжить татарское исламское богословское. Соблюдается ли принцип светскости в ситуации вызовов глобального ислама? Место религии в российском обществе имеет правовое регулирование и основывается на Конституции, где прописано, что РФ является светским государством. Это подразумевает, что религия отделена от государства, и они не вмешиваются в дела друг друга. При сотрудничестве с религиозными организациями официальные светские структуры играют ведущую роль. Однако пристальный контроль со стороны властей над религиозной сферой вызывает вопросы относительно светского характера российского государства и его нейтральной позиции по отношению к различным конфессиям. Подобные сомнения высказываются не только экспертами по делам религий, но и на уровне общественного мнения. В Татарстане присутствуют различные оценки взаимоотношений светских и религиозных организаций. Для их изучения нами были проанализированы высказывания как верующих, так и представителей секулярного сегмента республики. Одна часть жителей республики не может согласиться с доминированием государства на исламском поле республики. Они усматривают нарушение Конституции во вмешательстве властных структур в решение внутримусульманских дел и излишнем контроле государства, а также обвиняют ДУМ РТ за приспособленчество, отсутствие независимой позиции и игнорирование интересов мусульман. Другая часть общества высказывает одобрение политике государства по отношению к религии. Приведем два аспекта, с которыми связана поддержка официальной стратегии в государственно-конфессиональных взаимодействиях. Первый касается восприятия ислама как неконтролируемой угрозы, формы социального и политического протеста, вплоть до возрождения сепаратистских настроений [15, с. 627]. В этом случае приветствуется контроль властей над ситуацией внутри ислама и утверждается необходимость продолжения политики предотвращения любых экстремистских проявлений. Приведем цитату из разговора с русским информантом, называющим себя неверующим. Им волю дай, они делов наворотят [информант продолжает свои рассуждения о так называемых «ваххабитах»]. Примеры мы видели и на юге России, и в среднеазиатских республиках, и дальше за рубежом. Когда ослабляется государственный контроль, ситуацию в свои руки быстро стараются взять исламские группировки. В Татарстане нельзя даже близко такого допустить, здесь не только татары живут, да и татары - народ преимущественно светский и уж точно от шариата далекий. Но есть и такие, кто хочет жить в мусульманском окружении по своим правилам, они не хотят соприкасаться с нами [со светским обществом и государством]. <…> Наша надежда на то, что государство будет продолжать за ними наблюдать, а в случае чего - нейтрализовывать (Информант 11, светский, русский, Казань, 2019 г.). Большое значение имела деятельность, направленная на снижение влияния на умму и муфтият выходцев из арабских стран, которые несли идеи, не всегда сочетающиеся с привычной для татар жизнью в светском контексте. Это влияние из-за рубежа расценивалось некоторыми мусульманами, духовными исламскими лидерами и в особенности силовыми структурами республики как нежелательное и даже опасное. Поэтому снижение числа арабов в мечетях Татарстана воспринимается в качестве позитивного изменения внутреннего исламского контекста. Второй аспект одобрения государственной политики относится к признанию того, что влияние светских органов привело к прекращению конфликтов внутри Духовного управления мусульман и более слаженной работе. Отчасти, хорошо, что государство контролирует то, что происходит с исламом. Конечно, есть перегибы, есть необдуманные шаги, многое делается топорно, но в целом это нормально сейчас. Скандалы в муфтияте прекратились. Ограничить присутствие у нас арабских проповедников все-таки было необходимо (Информант 5, имам, Азнакаевский район РТ, 2019 г.). Установку на невмешательство государства в дела религии сегодня можно оценить как формальную установку, не поддерживаемую практикой, поскольку роль светских официальных структур в жизни мусульманских общин значительна. Это касается не только административной и политической поддержки от государственных органов. В ситуации сложного экономического положения религиозных организаций огромную роль играет опосредованное материальное содействие со стороны властей. Если в 1990-е и начале 2000-х гг. благотворительность оказывалась зарубежными спонсорами, то после вытеснения из России иностранных фондов этот источник иссяк. Несмотря на относительно благополучный материальный статус жителей Татарстана на общем российском фоне, благотворительная и спонсорская помощь предпринимателей-мусульман не служит серьезной экономической поддержкой для исламских общин. Единственным стабильным источником средств может быть покровительство государства и местных администраций [3, с. 94]. При звучащих обвинениях в нарушении властями принципа светскости необходимо признать, что государство вынуждено стремиться к балансу интересов религиозных и секулярных акторов и призывает не политизировать сложные вопросы государственно-конфессиональных отношений. Примерами могут служить недавний конфликт в Екатеринбурге в 2019 г. по вопросу строительства православного собора Святой Екатерины на месте сквера[173], активные дискуссии в Санкт-Петербурге в 2017 г. о возможной передаче Исаакиевского собора в ведение РПЦ[174], споры о строительстве мечетей в ряде городов. Эти случаи демонстрируют необходимость учитывать мнение различных групп граждан и пересматривать предварительные соглашения между государственными и религиозными институтами [15, с. 267]. Светским властям приходится принимать во внимание интересы неверующей части населения и верующих других конфессий, особенно в острых спорных ситуациях. Заключение Современные процессы реисламизации как одно из проявлений постсекулярной тенденции реализуются на уровне приватных практик, выходящих из частной сферы в область общественного пространства, и на уровне государства, которое использует религию в качестве инструмента для продвижения своей политики и укрепления символического капитала. За прошедшие 30 лет между государством и исламом сложились тесные взаимоотношения, которые характеризуются прежде всего тем, что государство доминирует, а исламские структуры играют подчиненную роль, являясь символическим ретранслятором политики властей, обменивая это на административную и экономическую поддержку. Политическим элитам Татарстана ислам необходим как важный ресурс для налаживания политических и экономических отношений на российском и международном уровнях. Однако в то же время ислам в глазах региональной и федеральной власти ассоциируется с рисками, за которыми может стоять угроза появления групп экстремистской направленности и потеря стабильности в мусульманском сообществе и в республике в целом. Опасения, связанные с радикализацией и терроризмом, побуждают государство усилить контроль за религиозной сферой. Проникновение на территорию России, и в частности в Татарстан, новых исламских направлений стимулировало появление сторонников исламской глобализации, в том числе приверженцев так называемого «чистого ислама», которые наряду с последователями традиционного для Поволжья «татарского» ислама, связанного с этнической культурой татар, составляют два основных лагеря мусульманского сообщества республики. Между этими двумя частями мусульманской уммы республики существуют споры и недопонимания. Важно отметить, что сторонники глобализированного (другое определение - арабизированного) ислама порой ассоциируются у мусульманских и светских акторов с негативными явлениями радикализации в современном мусульманском мире. В этой обстановке перед ДУМ РТ стоит важная государственная задача профилактики экстремизма. Для этого организована работа с молодежью, обучающие программы для исламских духовных лиц, другие виды деятельности, направленные на просвещение мусульман. Среди жителей Татарстана присутствуют различные оценки взаимодействия светских властей и религиозных общин. Одни не могут согласиться с преобладанием государства на исламском поле республики, другие высказывают одобрение политике государства по отношению к религии, что связано с имиджем ислама как потенциальной неконтролируемой угрозы. Сложности в соблюдении принципа светского государства связываются некоторыми наблюдателями в том числе с необходимостью проведения антиэкстремистской политики. В ситуации разброса мнений верующих мусульман, наличия мусульманского «официального мейнстрима» и «инакомыслящих», а также активной противоэкстремистской политики государства одна из важнейших задач муфтията - быть буфером между светскими властями и исламским сообществом. К сожалению, нельзя утверждать, что ДУМ успешно справляется с этим запросом. Многие члены мусульманского сообщества солидарны в том, что муфтият подчиняется государству и слабо реагирует на запросы рядовых мусульман, которые представляют в реальности мозаичную картину. Вероятно, иначе крайне сложно легитимно функционировать в условиях существующего политического поля России, и Духовное управление платит за это недостаточно высоким уровнем авторитета среди практикующих мусульман - особенно среди той части верующих, которая активно включена в исламскую ритуальную практику и жизнь уммы. Процессы реисламизации сопровождаются обособленностью и недопониманием между верующими и неверующими, между представителями разных групп мусульман - сторонниками традиционного татарского ислама и глобализированного ислама. В этой непростой обстановке недостаточно внимания уделяется налаживанию диалога между ними и преодолению взаимной подозрительности и противоречий.
Об авторах
Гузель Яхиевна Гузельбаева
Казанский федеральный университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: guzel.guzelbaeva@kpfu.ru
кандидат социологических наук, доцент кафедры общей и этнической социологии
Российская Федерация, 420008, Казань, ул. Кремлевская, 18Список литературы
- Habermas J. Notes in Post-Secular Society. New Perspectives Quarterly. 2008. Vol. 25. P. 17-29.
- Узланер Д. Картография постсекулярного // Отечественные записки. 2013. № 1 (52). С. 175-192.
- Религия и радикализм в постсекулярном мире / под ред. Е.И. Филипповой и Ж. Радвани. М.: ИЭА им. Р.Р. Миклухо-Маклая РАН, Горячая линия - Телеком, 2017. 236 с.
- Casanova J. Public Religions Revisited // De Vries H. (ed.) Religion: Beyond the Concept. New York, NY: Fordham University Press; 2008. P. 101-119.
- Тернер Б. Религия в постсекулярном обществе // Государство, религия, церковь в России и за рубежом. 2012. № 2. С. 21-51.
- Мчедлова М.М. Религиозная ситуация в России и в ее регионах // Этническое и религиозное многообразие России / под ред. В.А. Тишкова, В.В. Степанова. М.: ИЭА РАН, 2018. С. 161-190.
- Сагитова Л.В. Ислам в конструировании регионального политического дизайна современного Татарстана // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Политология. 2018. Т. 20. №. 3. P. 313-322. doi: 10.22363/2313-1438-2018-20-3-313-322.
- Гузельбаева Г. Я. Постсекулярные тенденции у татар в начале XXI века // Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2014. Т. 156. Кн. 6. С. 212-219.
- Косач Г. Татарстан: религия и национальность в массовом сознании // Новые церкви, старые верующие - старые церкви, новые верующие: Религия в постсоветской России / под ред. К. Каариайнена, Д. Фурмана. М.; СПб.: Летний сад, 2007. С. 341-395.
- Фурман Д., Каариайнен К., Карпов В. Религиозность в России в 90-е гг. XX - начале XXI в. // Новые церкви, старые верующие - старые церкви, новые верующие: религия в постсоветской России / под ред. К. Каариайнена, Д. Фурмана. М. ; СПб. : Летний сад, 2007. С. 6-86.
- Бурдье П. Генезис и структура поля религии / Бурдье П. Социальное пространство: поля и практики / пер. с фр.; сост., общ. ред. пер. и послесл. Н.А. Шматко. СПб.: Алетейя; М.: Институт экспериментальной социологии, 2005. С. 7-74.
- Набиев Р.А. Власть и религиозное возрождение. Казань: Издательство Казанского федерального университета, 2014.
- Хабутдинов А.Ю. Развитие мусульманской общины Татарстана в 2018-2019 гг. // Ислам в современном мире. 2019. № 15 (4). С. 155-171. doi: 10.22311/2074-1529-2019-15-4-155-172.
- Ахунов А.М. Роль религиозного фактора в становлении системы религиозного образования в постсоветском Татарстане: проблемы и пути их преодоления // Ислам в современном мире. 2016. № 3. Т 12. С. 179-188. doi: 10.22311/2074-1529-2016-12-3-179-188.
- Почта Ю.М. Религия и политика на постсоветском пространстве (на примере мусульманского фактора) // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Политология. 2019. Т. 21. № 4. С. 620-632. doi: 10.22363/2313-1438-2019-21-4-620-632.
Дополнительные файлы