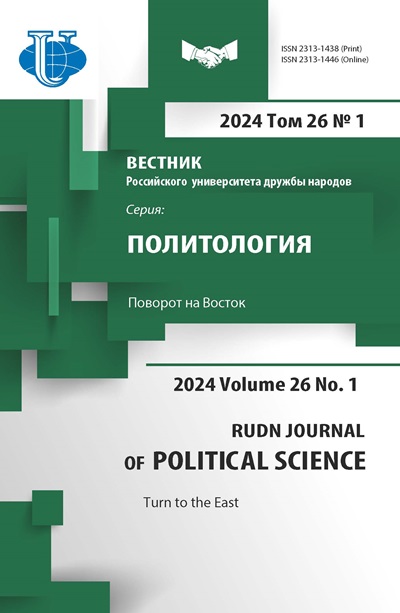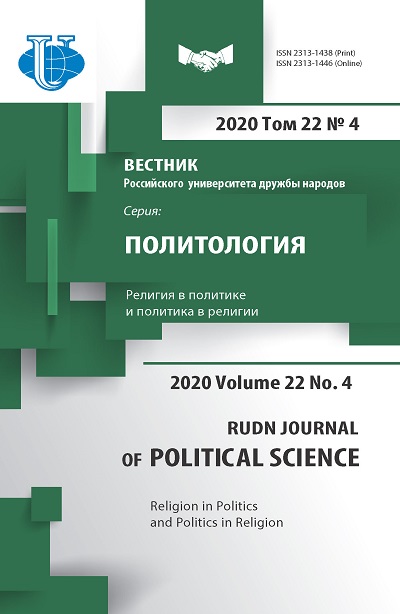Симулятивная реальность как вызов национальной идентичности: теория и российские политические практики
- Авторы: Титов В.В.1
-
Учреждения:
- Финансовый университет при Правительстве РФ
- Выпуск: Том 22, № 4 (2020): РЕЛИГИЯ В ПОЛИТИКЕ И ПОЛИТИКА В РЕЛИГИИ
- Страницы: 590-602
- Раздел: РЕЛИГИЯ, НАЦИЯ, ИДЕНТИЧНОСТЬ: ПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗВУЧАНИЕ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
- URL: https://journals.rudn.ru/political-science/article/view/24940
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-1438-2020-22-4-590-602
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Цель исследования состоит в политико-теоретическом анализе феномена симулятивной реальности, его влияния на трансформацию национально-государственной идентичности, понимаемой как макрополитический конструкт - интегрированный образ «нас», «своих», динамика которого обусловлена как логикой развития конкретной национальной политической системы, так и широким спектром исторических и культурно-психологических факторов. Автор определяет симулятивную политическую реальность как многомерное пространство политических симулякров в их взаимодействии и трансформации . Подвижность информационного ландшафта современного российского общества приводит к конструированию аморфных и неустойчивых идентичностей, не имеющих глубинной ценностно-смысловой основы и опирающихся на эмоциональный и символический контент. Указанные идентичности, выстраивающиеся вокруг социальной моды - виртуальных сообществ по интересам, успешно конкурируют с установками российской национальной идентичности, снижают ее значимость. В особенности указанная тенденция характеризует самоидентификацию молодых россиян - представителей поколений «миллениалов» и «цифровых аборигенов». Специфика развития цифрового пространства Рунета не является главной причиной, но во многом способствует девальвации образа прошлого, а также выступает одним из информационно-психологических драйверов кризиса образа будущего.
Полный текст
Введение Одним из широко обсуждаемых вызовов, адресованных российской национально-государственной идентичности, является кардинальная трансформация информационного ландшафта современного социума. Провоцируемое ею изменение «картины мира» порождает множественные психологические, социокультурные и поведенческие эффекты, нехарактерные для традиционных «пространств повседневности» прошлого. Главным образом, речь идет о «информационной перегрузке» современного общества, очевидном «цифровом разрыве» между различными социальными поколениями, «вирусном» распространении агрессивной и деструктивной информации. Однако указанный интегративный вызов не исчерпывается только эффектами социально-психологической и политической деструктивности, а характеризуется такими глубинными проявлениями, как изменение моделей восприятия социальной (в том числе политической) информации, что выражается в доминировании клипового политического сознания, часто приобретающего «сериальные» формы. Не менее заметный аспект связан с размыванием границ публичности/приватности в «виртуальном» пространстве. Указанные моменты подчеркивают необходимость обращения к концепциям «виртуальной» и «симулятивной» реальности, изучения влияния последней на политическое сознание в целом и на трансформацию национальной идентичности в частности [1-3]. Целью данного исследования является оценка влияния феномена симулятивной реальности на трансформацию национально-государственной идентичности. В рамках представленной работы под национально-государственной идентичностью понимается макрополитический конструкт - интегрированный образ «нас», «своих», динамика которого детерминирована как логикой развития конкретной национально-политической системы, так и широким спектром исторических и культурно-психологических факторов. Теоретические основания исследования Представляется необходимым обратиться к теоретическому осмыслению концепта «симулятивной реальности». В современном российском социогуманитарном знании более востребованным является словосочетание «виртуальная реальность», которая противопоставляется «реальной» социальной жизни, протекающей «в режиме офлайн». Проблема «виртуальности» в различных ее проявлениях получила широкое освещение в трудах ученых, представляющих различные отрасли современного социогуманитарного знания. Среди работ отечественных ученых следует особо выделить исследования Н.А. Носова, Д.И. Чистякова, В.В. Кафтана и ряда других авторов [4; 2; 3]. Н.А. Носов рассматривает виртуальную реальность в ее оппозиции к реальности физической, константной, подчеркивая при этом такие системообразующие ее свойства, как порожденность, актуальность, автономность, интерактивность [4]. В рамках данной статьи особый интерес представляет такое свойство, как актуальность, предполагающее восприятие мира в темпоральных рамках «здесь и сейчас». Очевидное социально-психологическое последствие распространения такого «темпорального фрейма» - не только деструктуризация «сложных», насыщенных в когнитивном плане форм социального сознания, но и аморфность личностных и социальных идентичностей [5]. В таких условиях доминирующей моделью ответа на вопрос «кто мы?» становится «подвижная идентичность», в основе которой лежат политико-психологические механизмы подражания и заражения. Опираясь на упомянутые выше исследования, можно определить симулятивную политическую реальность как многомерное пространство политических симулякров в их взаимодействии и трансформации. Говоря о свойствах симулятивной реальности, выделим три, на наш взгляд, наиболее важных в контексте трансформации макросоциальной идентичности (и макрополитической идентичности как ее разновидности). Во-первых, все большее число исследователей склоняются к пониманию, что фундаментальным свойством симулятивной реальности, возникающей в ходе онлайн-коммуникации, является неустойчивость/гипердинамизм [1]. Во-вторых, симулятивная реальность по своей природе крайне подвержена эффекту эмоциональной «наркотизации», что приводит не только к дальнейшему размыванию когнитивного компонента, но и к утрате ценности познавательной деятельности в политике. Следствием становится упрощение политических практик на фоне роста и усложнения административных структур (в том числе в связи с потребностью «рассеять» ответственность за непредсказуемый результат), а также стремление политических акторов (от отдельного человека до государства) принимать реактивные политические решения (по схеме «вызов - ответ»). В-третьих, важно отметить, что современная симулятивная политическая реальность обладает значительным стрессогенным потенциалом, имеет отчетливый стрессовый характер, крайне агрессивный по своей психологической природе [6]. Концептуальная модель национально-государственной идентичности Предваряя анализ феномена симулятивной реальности, необходимо сформулировать определение национально-государственной идентичности. Следует отметить, что указанная проблема получила широкое развитие в рамках традиций зарубежной и российской политической науки. Среди трудов, наиболее востребованных сегодня, можно выделить работы Б. Андерсона [7], С. Хантингтона [8], И.С. Семененко [9], О.Ю. Малиновой [10], Л.А. Фадеевой [11], Т.В. Евгеньевой [1] и других авторов. Особый интерес представляют исследования отечественных политологов, посвященные символической и мемориальной политике [1; 6; 10], политико-культурным основаниям самоидентификации различных российских регионов [11; 12; 13] и сегментов российского общества [1; 6; 10, 11]. Существенным потенциалом для понимания национально-государственной идентичности обладает макрополитический подход, представленный в трудах В.В. Бушуева, И.Н. Тимофеева, а также современные политико-психологические теории идентификационного выбора [14; 15]. Опираясь на синтез указанных концепций, можно определить национально-государственную идентичность как макрополитический конструкт - интегрированный образ «нас», «своих», динамика которого обусловлена как трансформацией конкретной национальной политической системы, так и широким спектром исторических и культурно-психологических факторов, на нее влияющих. Данное определение опирается, в первую очередь, на концепции российской политико-психологической школы, получившие развитие в трудах Е.Б. Шестопал, Т.В. Евгеньевой, А.В. Селезневой. Как известно, в рамках данного направления российской политической науки ключевое место занимает теория образа «нас», понимаемого как сложный политико-психологический конструкт. Указанный образ аккумулирует в себе не только текущие массовые представления о политике, но и предшествующий коллективный социокультурный опыт и сопутствующие ему установки массового сознания. В данном контексте подход отечественных политических психологов во многом созвучен ряду широко известных зарубежных теорий [7; 8]. Несомненный интерес представляет и соотношение сформулированного выше определения с концептом макрополитической идентичности, предлагаемым О.Ю. Малиновой. Такой тип идентичности «охватывает все основания идентификации рассматриваемого сообщества, присутствующие в публичном дискурсе, позволяя анализировать возникающие между ними смысловые конфликты. В то же время его можно рассматривать в качестве общего знаменателя для понятий, с помощью которых российская идентичность описывается в научном дискурсе [10]. Говоря о соотношении терминов «национально-государственная идентичность» и «макрополитическая идентичность» и признавая их несомненное родство, следует сделать три важные, по нашему мнению, ремарки. Во-первых, термин «макрополитическая идентичность» несколько шире, поскольку претендует на роль «знаменателя» для описания многообразия моделей российской идентичности. Во-вторых, на наш взгляд, несмотря на более высокий интегративный методологический потенциал термина «макрополитическая идентичность», представленное определение национально-государственной идентичности (опираясь на классическое понимание «политической нации») помогает раскрыть структурное содержание феномена коллективной идентичности как такового, с точки зрения его культурно-психологической природы. В-третьих, представляется, что сформулированное нами определение помогает рельефно обозначить не только институциональную составляющую - роль государственной политики идентичности, но и взаимосвязь кристаллизации российской политической нации с историко-культурной традицией российской государственности. Это делает оправданным использование данного концепта в рамках проводимого нами анализа. Материалы и методы В качестве эмпирической базы исследования выступает совокупность материалов, созданных пользователями Рунета в процессе интернет-коммуникации в течение последних двух лет - с момента начала завершающей фазы последнего большого электорального цикла в 2018 г. и начала реализации непопулярных социально-экономических реформ федеральным центром. Методология исследования включает в себя элементы дискурсивного и политико-психологического анализа, сочетаемые с исследовательскими стратегиями, предписываемыми подходом «кейс-стади». Российская идентичность перед вызовами симулятивной политической реальности: «спящая» этничность и образы прошлого Первый вызов, о котором говорят весьма часто, связан как с оживлением мемориальных локальных и субэтнических идентичностей (например, поморы как самоидентификация, вновь возникшая в ходе переписи населения 2002 г.), реконструируемых не на когнитивном фундаменте (анализе исторических фактов, изучении традиций), а на мифологическом сознании, в основе которого находится дуалистический компонент - сочетание «особости-инаковости» и «культа страдания». Показательны примеры ряда сообществ социальной сети «ВКонтакте», ориентированных на идентификационный ренессанс через актуализацию политических и социокультурных симулякров - редуцированных мифологических конструктов Мещеры, Ингерманландии и т.д. Подобные симулякры выступают не столько конкурентами общероссийской идентичности, сколько средством ее размывания, нивелирования ее значимости для отдельного человека. При этом ответ на вопрос «кто мы?» становится не многосоставным, как предполагает концепция «матрешечной» российской идентичности (например, гражданин России и донской казак «по происхождению»), а предельно ситуативным и условным («не русский, а ингерманландец, наверно…») [1; 12]. Второй вызов, адресованный российской идентичности и также тесно связанный с «веком цифровых технологий», - серьезный кризис образа прошлого, имеющий место в российском массовом сознании. С одной стороны, мы наблюдаем рост значимости образа прошлого как фактора, формирующего национально-государственную идентичность. Опрос, проведенный в ноябре - декабре 2018 г. социологами Левада-центра, показал, что у 53% респондентов мысли о своем народе ассоциируются в первую очередь с такими понятиями, как отметил «наше прошлое, наша история». Основным фактором выработки ингруппового фаворитизма (важнейшего фактора консолидации макросоциальной корпорации) также выступает память о достижениях прошлого. Среди событий и явлений, вызывающих у участников опроса чувство гордости за свою страну, 87% упомянули победу в Великой Отечественной войне, 50% - освоение космоса, 40% - великую русскую литературу. Представления россиян о себе как об общности по-прежнему преимущественно обращены в прошлое1. В ходе исследования, проведенного в 2018 г. Е.Б. Шестопал и Н.В. Смулькиной, около 50% респондентов упомянули национальную историю в числе «сильных сторон России». По уровню популярности этот вариант ответа уступил лишь «природным ресурсам» (61,5%) и «Вооруженным Силам» (50,1%) [16]. Вместе с тем фиксируется развитие альтернативных исторических традиций, как правило, связанных с определенными политическими группами. Они построены в ключе полной ревизии национальной истории, как минимум, в рамках событий ХХ века. «Переписывание истории» в данном случае чаще всего подразумевает смену оценочных маркеров и конструирование симулякров в отношении событий и фигур исторических деятелей, формирующих символическую основу выработки национально-государственной идентичности. В первую очередь это касается нарратива, связанного с историей Великой Отечественной войны. Важно отметить, что в процессе мемориальной ревизии активно участвует и само государство (достаточно вспомнить о попытках моральной реабилитации К. Маннергейма и П.Н. Краснова). Сегодня следует признать, что некоторые концепции симулятивной исторической «постправды» нашли широкое распространение внутри различных групп истеблишмента. Однако целый ряд социологических исследований показывает, что основная масса российских граждан сохранила преимущественно позитивное представление в отношении памяти о событиях советского периода. Наглядным подтверждением этого может служить восприятие в обществе фигуры И.В. Сталина. Опросы ВЦИОМ, проведенные в июне-июле 2017 г., показали, что 62% россиян поддерживают инициативу по размещению мемориальных объектов, сообщающих о достижениях «отца народов». И в то же время 65% респондентов высказались против установки памятных знаков, посвященных неудачам или преступлениям И.В. Сталина. Среди представителей молодежи (то есть поколения активных пользователей Интернета) доля респондентов, поддерживающих создание мемориальных объектов, «прославляющих государственные успехи Сталина», была наиболее высокой (77%). 43% участников опроса ВЦИОМ выразили мнение, что репрессии 1930 - 1940-х гг. были вынужденной мерой, которая позволила политическому руководству «обеспечить порядок в обществе»[64]. Одновременно происходит процесс идеализации советского прошлого. Так, согласно результатам исследования Левада-центра, проведенного в мае 2019 г., в течение 2008-2019 гг. почти вдвое (с 29 до 59%) увеличилось число россиян, полагающих, что для исторического пути советского государства была характерна «забота государства о простых людях». Доля респондентов, декларирующих «постоянное улучшение жизни людей» при СССР, выросла с 14 до 39%. В то же время существенно сократилось число опрошенных, акцентирующих внимание на негативных элементах повседневной жизни в Советском Союзе. Количество респондентов, упоминающих очереди, дефицит и карточки, упало с 42 до 24%. В 2008 г. об изоляции страны от внешнего мира, отсутствии возможности выезжать за рубеж и возвращаться заявляли 24% респондентов, в 2019 г. - 17%[65]. Существенной популярностью пользуется представление о том, что новейшая отечественная история развивается по «неправильному» пути. Наглядным проявлением этого стал рост популярности литературы и произведений фанфикшена, посвященных теме хронопутешественников-«попаданцев», действия которых способствуют кардинальному изменению хода известной нам истории России прошлого столетия [17] . Истоки кризиса лежат в ХХ веке и не могут быть осмыслены исключительно в ракурсе негативного воздействия Интернета на политическое сознание и уровень исторической грамотности россиян. По нашему мнению, симулятивная реальность в данном случае выполняет двойственную функцию пространства-триггера, являясь, с одной стороны, удобным полем для дискуссий о прошлом, ареалом формирования различных научных, псевдонаучных и бытовых дискурсов российской истории: подражательно-имитационного (вспоминая «страну этикеток» А. де Кюстина), конспирологического («план Даллеса») и, конечно же, трансцендентального «особого пути» в его различных метаморфозах - от «третьего Рима» до «русского мира» как глобальной идеологии будущего[66]. В итоге перед российским обществом вырисовывается не целостный (или хотя бы частично интегрированный конвенциональный) образ прошлого, а многообразие локальных представлений-симулякров, лишенных когнитивной основы, а не редко и отрицающих сам факт существования собственных физических первоисточников и прообразов-оригиналов (Гагарин не только «не летал в космос», но «никакого Гагарина вообще никогда не было») [6]. Образ будущего России в пространстве симулятивной реальности По нашему мнению, степень воздействия факторов симулятивной реальности на коллективный образ будущего россиян существенно выше, чем на образ прошлого, поскольку в массовом сознании нет соответствующих установок, которые могут сдерживать деструктивные интенции - формирование негативных и даже катастрофических сценариев будущего России. Говоря о тех вызовах, которые природа симулятивной реальности адресует общенациональному образу будущего, в первую очередь следует выделить такую макросоциальную и психологическую проблему, как гипердинамизм интернет-пространства, порождающий фундаментальную неустойчивость настоящего, ситуацию при которой перемены (часто негативные и не вполне ожидаемые, наподобие пенсионной реформы-2018) являются единственной константой социально-политического бытия человека. Следуя простой установке темпоральной экстраполяции и воспринимая будущее как «расширенное настоящее», «типичный россиянин», как правило, или приходит к негативизации будущего, или, по крайней мере, оценивает его настороженно. Согласно данным опроса ФОМ, опубликованным в августе 2019 г., 62% россиян были убеждены в том, что текущая ситуация в стране неблагоприятна для планирования будущего. В числе обуславливающих это факторов были упомянуты нестабильность, неуверенность в завтрашнем дне (20%), маленькие зарплаты и пенсии, низкий уровень жизни людей (12%), рост цен и тарифов (10%). Среди опрошенных 35% были уверены в том, что их будущее зависит преимущественно от внешних обстоятельств, а не личных усилий (противоположной точки зрения придерживались 54% респондентов). Примечательно, что степень уверенности в возможности влиять на свое будущее была обратно пропорциональна возрасту и величине социального опыта участников опроса. Если среди представителей молодежи собственные усилия как фактор, определяющий судьбу человека, обозначили 73% респондентов, то среди опрошенных в возрасте 46-60 лет - 46%[67]. Образ России «20 лет спустя», сформированный к 2019 г., отличала низкая степень социального оптимизма. В том, что в РФ будет более спокойно и безопасно жить, были убеждены лишь 18% опрошенных. Рост социальной защищенности прогнозировал 21% респондентов, улучшение ситуации в экономике - 25% [Там же]. Опрос Левада-центра, проведенный в сентябре 2018 г. среди молодежи крупных городов России, Украины и Белоруссии, показал, что в мегаполисах РФ 62% жителей в возрасте от 18 до 35 лет придерживаются мнения об отсутствии возможности планировать свое будущее на период более 1 года. Для молодых россиян планирование будущего затрудняют неблагоприятная экономическая ситуация, практика нарушение прав граждан представителями власти, отсутствие стабильности и поддержки со стороны государства, дефицит достоверной информации и трудности с поиском работы. Более 50% молодых жителей городов-«миллионников» в России не могут прогнозировать будущее своей страны на период более 2 лет. Половина респондентов-россиян обеспокоены своими личными перспективами, 67% испытывают тревогу относительно будущего страны[68]. Конструированию негативного и размытого образа будущего в сознании россиян способствует все более заметная конфликтность и катастрофичность контента современного Интернета, которая пронизывает все структурные уровни социальных отношений - от межличностных до международных. В такой ситуации иррациональный и жестокий конфликт, основанный не на прагматическом поведении, а на эмоциональной неустойчивости его участников, становится социальной нормой, той призмой, через которую формируется политическая картина мира конкретного «юзера». Следующее препятствие для конструирования образа будущего связано с геополитической риторикой, имеющей место в современной России. Речь идет о доминирующем политическом дискурсе, в рамках которого наша страна все более отчетливо предстает в образе «осажденной крепости», окруженной могущественными врагами, заинтересованными в ее уничтожении (коллективный «запад», украинские «нацисты», ближневосточные террористы и т.д.). При этом важно заметить следующее: несмотря на многочисленные официальные опровержения и заявления, что Российская Федерация не находится в международной изоляции, психологическая установка «враги вокруг нас» занимает все более существенное место в пространстве симулятивной реальности. Осмысливая «день сегодняшний»: российская идентичность в поисках внутреннего «врага» Обращаясь к метаморфозам симулятивной реальности Рунета, хочется выделить во многом стихийные процессы частичной эмоциональной консолидации граждан России на основе поиска общего внутреннего врага. В 2018 - начале 2020 г. таким обобщенным «злом» выступил собирательный образ «хамоватого чиновника», предлагающего россиянам питаться «макарошками» и заявляющего, что государство «вам ничего не должно». Указанный образ - с одной стороны, репрезентация традиционного архетипа «злых бояр» в условиях цифровой эпохи, с другой - интегративный симулякр, эволюционирующий в рамках собственной траектории, причем как в социальных сетях, так и на условно «провластных» новостных интернет-ресурсах. При этом в массовом сознании сохраняется монолитное восприятие «чиновников» как референции для всего правящего слоя: министров, депутатов, губернаторов, государственных и муниципальных служащих, работников управляющих кампаний в сфере ЖКХ и т.п. По нашему мнению, данный интернет-образ имеет интегративный характер и симулятивную природу. Он практически полностью утратил связь с собственными первоначальными персонами-прототипами (Н. Соколова, О. Глацких, С. Цуканов и т.д.), но, тем не менее, активно продолжает тиражироваться в социальных медиа. Однако важно подчеркнуть и тот момент, что данный образ не является виртуальным в полном смысле этого слова, а именно симулятивным - развивающимся по собственной траектории, но регулярно подпитываемым соответствующим контентом-драйвером, черпаемым из «реальной» жизни и распространяемым в Сети. Как правило, речь идет о «простых людях», снимающих на мобильные телефоны случаи неадекватного поведения власть имущих, но иногда подобный контент попадает в сеть и другими способами, например, через целенаправленные «сливы» информации (и даже авторские «стримы», как было в ситуации с Р. Горрингом). Среди широкого спектра проблем, связанных с формированием симулятивных идентичностей в современном информационном пространстве России, неизбежно возникает вопрос об «ответственности» за конструирование симулякров прошлого и формирование в массовом сознании преимущественно негативного образа будущего. В данном ракурсе серьезную ценность представляет теория социального конструирования реальности Бергера-Лукмана, где указанные процессы рассматриваются не как синоним целенаправленного политического манипулирования - исключительного «конструирования сверху» (по существу, навязывания тех или иных представлений), а как результат сложной и многовекторной социальной динамики [18]. Очевидно, существенную долю ответственности должны нести постсоветские политические элиты, не сумевшие выработать и реализовать внятную модель политики идентичности, которая отвечала бы информационно-психологическим и социокультурным вызовам начала ХХI столетия. Однако не менее важным существенным является и тот момент, что формирование симулятивных идентичностей во многом стало «ответом» на вызов новой коммуникативной реальности, на интенсивное и слабо управляемое (фактически «вихревое») развитие социальных медиа Рунета, которые и стали пространством кристаллизации многочисленных социально-политических симулякров и связанных с ними идентификаций. Заключение Завершая исследование феномена симулятивной реальности, его влияния на трансформацию российской национальной идентичности, представляется возможным сделать ряд выводов. Указанные выводы, безусловно, не являются итоговыми, а исключительно - промежуточными, призванными диагностировать важные тенденции в исследуемой сфере. Во-первых, можно определить симулятивную политическую реальность как многомерное пространство политических симулякров в их взаимодействии и трансформации. При этом подчеркиваются существенные отличия симулятивной реальности от реальности виртуальной, субъективной, вымышленной и конструируемой исключительно вне пространства «реальных» (физических) политических практик и процессов. Отмечается, что симулятивная реальность обладает двойственной генетической природой, обусловленной синтезом элементов как интернет-пространства, так и традиционных внесетевых «пространств повседневности» [19]. Во-вторых, симулятивная реальность серьезно трансформирует современные политические практики, поскольку отличается гипердинамизмом, ускоренной сменой политических эпизодов в «сериальной» политической картине мира. доминированием эмоционально-оценочного компонента над когнитивным в структуре формируемых политических представлений. Еще одно отличительное свойство современной симулятивной реальности в политике - ее выраженный стрессогенный характер, активное распространение неконвенциональных и деструктивных форм политического восприятия и поведения как в онлайн-пространстве, так и в рамках политической коммуникации-офлайн. В-третьих, масштабный информационно-психологический вызов, который симулятивная реальность адресует российской идентичности, носит комплексный характер и обусловлен не только ситуационным контекстом, «издержками» политического процесса в современной России, но и внутренними, генетическими свойствами данного типа социальной реальности. В-четвертых, фактор симулятивной реальности Рунета серьезно трансформирует темпоральную «систему координат» российской национальной идентичности. Логика развития цифрового пространства Рунета не является главной причиной, но во многом способствует девальвации образа прошлого. Знания о прошлом не только утрачивают фундаментальную ценность a priori, но и теряют прикладную значимость как в глазах новых, «цифровых» поколений (что может объясняться спецификой их социализации в 2000-2010-е гг.), так и представлениях российских политических элит, все более ориентирующихся на технократический стиль управления. Специфика современной симулятивной реальности в России выступает не системной причиной, а важным информационно-психологическим драйвером кризиса образа будущего. Деформация представлений значительной части россиян о будущем связана в том числе и с агрессивностью образа настоящего, формирующегося в интернет-пространстве, ситуацией, когда «человеческая деструктивность» в различных ее проявлениях наполняет информационный ландшафт повседневности. Политическая повестка дня, преобладающая в Рунете, все более ориентирована на конфликтные практики, ситуативную самоидентификацию посредством поиска политических «врагов», как внешних, так и внутренних, и отказ от стратегий долгосрочного политического целеполагания.
Об авторах
Виктор Валериевич Титов
Финансовый университет при Правительстве РФ
Автор, ответственный за переписку.
Email: vvtitov@fa.ru
кандидат политических наук, старший научный сотрудник департамента политологии
Российская Федерация, 125993, Москва, Ленинградский проспект, 49, (ГСП-3)Список литературы
- Евгеньева Т.В., Титов В.В. Образ «врага» как инструмент формирования политической идентичности в сети Интернет: опыт современной России // Информационные войны. 2014. № 4. С. 22-27.
- Чистяков Д.И. Информационное общество и масс-медиа в коммуникативном пространстве постсовременности // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия «Философия». 2013. № 2. С. 173-179.
- Кафтан В.В. Формы и феномены массовой коммуникации // Журнал философских исследований. 2018. Т. 4. № 1. С. 26-42.
- Носов Н.А. Психологические виртуальные реальности. М.: Ин-т человека, 1994.
- Бодрийяр Ж. Симулякры и симуляции. М.: Постум, 2016.
- Белов С.И. Российская мемориальная политика в зеркале блогосферы (на материалах кинообзоров видеоблогеров) // Вестник Российской нации. 2018. № 3 (61). С. 169-178.
- Anderson B. Imagined Communities: Reflections on the Origins and Spread of Nationalism. London: Verso, 1991.
- Хантингтон С. Кто мы?: Вызовы американской национальной идентичности. М.: Транзиткнига, 2004.
- Семененко И.С. Нация, национализм, национальная идентичность: новые ракурсы научного дискурса // Мировая экономика и международные отношения. 2015. № 11. С. 91-102.
- Малинова О.Ю. Конструирование макрополитической идентичности в постсоветской России // Политическая экспертиза: ПОЛИТЭКС. 2010. № 1. С. 5-28.
- Фадеева Л.А. Проблема идентичности в сравнительной политологии. // Полис. Политические исследования. 2011. № 1. С. 134-139.
- Волков Ю.Г. Образы будущего в формировании российской идентичности // Социально-гуманитарные знания. 2019. № 1. С. 81-98.
- Морозова Е.В. Сложносоставная идентичность как объект политологического анализа // Человек. Сообщество. Управление. 2012. № 1. С. 60-66.
- Бушуев В.В., Титов В.В. Национально-государственная идентичность в современном мире и роль исторической политики в ее формировании (теоретико-методологический анализ) // Вестник Московского государственного гуманитарного университета им. М.А. Шолохова. История и политология. 2011. № 4. С. 80-82.
- Тимофеев И.Н. Российская политическая идентичность сквозь призму интерпретации истории // Вестник МГИМО. 2010. № 3. 2010. С. 51-59.
- Шестопал Е.Б., Смулькина Н.В. Какой видят свою страну сегодня российские граждане? // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз (Журнал политической философии и социологии политики). 2018. № 2 (89). С. 51-68.
- Фрумкин К.Г. Альтернативно-историческая фантастика как форма исторической памяти // Историческая экспертиза. 2016. № 4. С. 17-28.
- Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. М.: Медиум, 1995.
- Castells M. The power of identity. Cambridge: Mass., 1997.