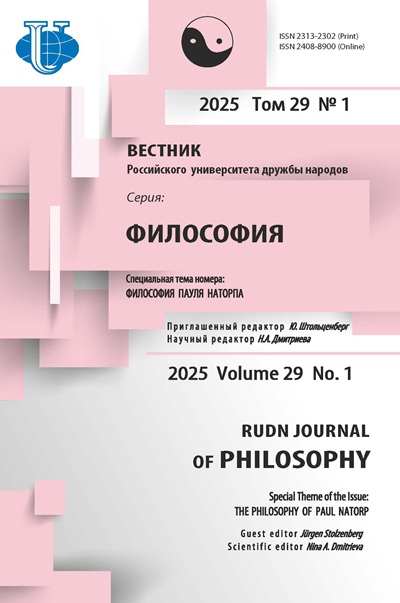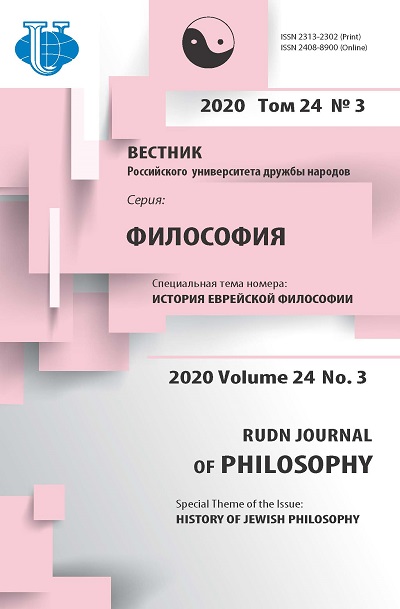Том 24, № 3 (2020): ИСТОРИЯ ЕВРЕЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ
- Год: 2020
- Статей: 16
- URL: https://journals.rudn.ru/philosophy/issue/view/1351
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-2302-2020-24-3
Весь выпуск
История еврейской философии
Еврейство в философии
 321-327
321-327


Концепция религиозного плюрализма М. Мендельсона и ее теоретико-познавательные основания
Аннотация
Статья посвящена рассмотрению концепции религиозного плюрализма М. Мендельсона и некоторым аспектам его теории познания и языковой теории, являющихся фундаментом теории плюрализма. В статье показывается, что М. Мендельсон высказывал взгляды, далеко опережающие свою эпоху. Его теория познания повторяет некоторые линии размышления Юма, которого он оценивал высоко, что не было характерно для немецкого Просвещения. В силу этого Мендельсона можно считать предшественником Канта в позитивной оценке Юма. Некоторые идеи Мендельсона затем повторяются и получают дальнейшее развитие в феноменологии. В статье аргументировано показывается, что взгляды Мендельсона на взаимодействие религий хотя и имеют ряд черт, роднящих этого мыслителя с другими мыслителями эпохи Просвещения, однако имеют также и принципиальное различие с ними. В итоге, его концепция религиозного плюрализма близка современному пониманию религиозного плюрализма. В статье также предпринимается попытка вскрыть причины, по которым Мендельсон, несмотря на свою колоссальную значимость как для немецкой философии, так и для еврейской культуры, на долгое время был практически забыт.
 328-341
328-341


Каббала и философия в творчестве раннего Маймона
Аннотация
Сборник Хешек Шломо («Желаемое Соломоном»), включающий ранние, написанные на иврите сочинения Соломона Маймона, до недавнего времени оставался вне поля зрения исследователей. Программная статья профессора Гидеона Фройденталя о становлении. Маймона, доказывающая необходимость при оценке творчества мыслителя учитывать его ранние произведения, изменила ситуацию. Фройденталь опубликовал и проанализировал предисловие Маймона к сборнику Хешек Шломо , а затем (в конце 2019 г.) один из входящих в сборник трактатов Ма‘асе ливнат ха-саппир («Выделка прозрачного сапфира»), содержащий идеи и понятия каббалы. При этом в своем анализе Фройденталь сосредоточился на рационалистической интерпретации каббалы Маймоном. Наша статья является попыткой дополнить исследование Фройденталя анализом другой стороны мысли раннего Маймона. Мы постараемся показать, что каббала, понимаемая ранним Маймоном в широком смысле как древнее еврейское знание, представлялась ему дополняющей философию и разрешающей порожденные философией проблемы. В своем раннем творчестве Маймон выступает не только как критик распространенной профанной каббалы, но и как критик философии Маймонида. Без философии невозможно понять истинную каббалу, но философское знание недостаточно и поро, ошибочно, истинная каббала его корректирует и уточняет. Критика аристотелизма и связанные с этим решения, предлагаемые Маймоном в его ранних произведениях (возможно, под влиянием Хасдая Крескаса), могут пролить свет на становление его мысли периода зрелости.
 342-361
342-361


Розенцвейг между Востоком и Западом: Восстановление Индии и Китая в «Звезде избавления»
Аннотация
 362-378
362-378


Представления Розенцвейга и Левинаса о Другом в контексте понимания различия у Деррида
Аннотация
 379-397
379-397


«Размышления об использовании учебных занятий в воспитании любви к Богу» Симоны Вейль: комментарий
Аннотация
 398-409
398-409


ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ И ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ
Междисциплинарные исследования самосознания на основе феноменологии Карла Ясперса
Аннотация
В данной статье рассматриваются новые возможности в изучении самосознания, которые открываются благодаря междисциплинарному подходу. Этот подход позволяет решить ряд актуальных концептуальных и методологических проблем в частных науках - психологии и психиатрии, и подтолкнуть теоретические исследования самосознания в философии. Общее развитие психиатрии и в России, и за рубежом в 20-м и начале 21-го века шло по другим направлениям и заключалось в основном в совершенствовании диагностики и терапии на основе объективно измеренных показателей. Как следствие, изучение феноменологии расстройств самосознания оказалось весьма поверхностным. Междисциплинарная точка зрения может стать началом новых теоретических исследований самосознания в философии и, кроме того, спровоцировать прагматические полезные выводы для психологической и психиатрической науки. Авторы статьи утверждают, что разграничение методологических инструментов различных наук при изучении самосознания в принципе излишне и не нужно. Мировоззренческая основа для междисциплинарных исследований может и должна формироваться именно философами. Феноменология Карла Ясперса и его концепция самосознания в этом смысле эвристически весьма привлекательны. Используя феноменологический подход Карла Ясперса, идеи его сторонников и последователей, а также отказываясь от узкодисциплинарного взгляда на предмет, авторы статьи предлагают рабочую модель самосознания, в которой оно описывается через свои конкретные функции. Эта модель может быть прагматически полезна для специалистов в области психического здоровья: психиатров, психологов и психотерапевтов. Она также может быть интересна философам, использующим феноменологический анализ.
 410-418
410-418


Стратегии освоения времени: подлинная и неподлинная историчность человека
Аннотация
В статье представлен анализ некоторых разделов редко цитируемого текста К. Ясперса, который исследуется на предмет постановки вопроса о времени в философско-антропологическом ключе. Работа была опубликована в 1931 году и после этого неоднократно переиздавалась, одна из дат переизданий особенно показательна - 1947 год (вслед за текстом лекции «Вопрос о виновности»). Это указывает на то, что К. Ясперс видел, с одной стороны, необходимость актуализировать вопрос о духовной ситуации, с другой стороны, полагал, что его концептуализация проблемы темпоральности в первой трети ХХ века является универсальной методологической схемой, применимой и в более поздний период. На это указывает редакция текста «Духовной ситуации времени» 1947 года, который рассматривается в данной статье. Так как философия Ясперса достаточно изучена, то основная цель анализа - показать, как трактуется персональная историчность, и почему освоение времени видится философу насущной человеческой задачей. Показано, что Ясперс, применяя экзистенциальный подход, предлагает универсальную схему того, как может быть прожита духовная ситуация человеком, и как возможно сделать время своим. Потребность в освоении времени присуща человеку, а вот готовность делать это осмысленно, исходя из осознания возможности подлинного бытия, не очевидна. Человек по большей части не осознает выбор определенного толкования времени, также он не всегда последовательно рационален в конструировании контекста собственной историчности. Раскрывается суть таких концептов, как духовная ситуация, знание целого, философская жизнь.
 419-431
419-431


Идея времени в лекциях Бергсона
Аннотация
Статья вводит в научный оборот изданные лекционные курсы Бергсона «Идея времени» (изд. 2019) и «История идеи времени» (изд. 2016), которые читались им в Коллеж де Франс в 1901-1903 годах. Дается краткое описание лекционной деятельности Бергсона, подчеркивается, что данные материалы лекций позволяют лучше понять ту популярность, которую завоевал Бергсон среди современников. Поскольку лекционный жанр предполагает доступность и краткость изложения, то по лекциям Бергсона можно судить о том, что он сам считал наиболее важными и новаторскими идеями в своем философском учении, которые стоят того, чтобы представить их широкой публике. Отмечается, что Бергсон связывает «идею времени» с пересмотром основных философских категорий (абсолютное и относительное, бесконечное и конечное) и методов философии (понятийное и интуитивное познание). Большую часть своей аргументации и примеров в лекциях Бергсон обращает на демонстрацию неспособности привычного нам пути познания схватить длительность. Деконструируя этот способ познания, Бергсон показывает, что он опирается прежде всего на знаки, на символическую имитацию реальности. Раскрывая далее механизмы образования и такие характеристики знаков, как общность, фиксация и ориентированность на действие, Бергсон показывает, что они, а понятия тоже знаки, по своей природе могут лишь фрагментировать и расчленять поток становления в реальности. Однако интуитивный способ постижения, необходимый для схватывания длительности, представлен лишь некоторыми примерами и категориями (интеллектуальная симпатия, погружение в вещь в себе) и очерчивается Бергсоном скорее апофатически. Тем не менее, Бергсон приходит к выводу о необходимости радикально переориентировать метафизику на проблематику времени и тем самым осуществляет «темпоральный поворот» в начале двадцатого века.
 432-444
432-444


Экзистенциализм М. Шлика? Мориц Шлик и его этика молодости
Аннотация
В статье анализируется малоизвестная область философских исследований М. Шлика, который традиционно рассматривался как ученый, занимающийся проблемами теории познания и философии науки. В центре исследования находится работа «О смысле жизни» («Vom Sinn des Lebens», 1927), где философ не только закладывает основы своих будущих работ об этике, но и предлагает оригинальный подход к проблеме смысла жизни, связывая его с понятием «молодости». Он отмечает, что большинство людей смысл жизни видят в достижении определенных целей. В итоге жизнь почти полностью заполнена деятельностью, целью которой является сохранение нашего существования. Обрести смысл жизни можно только в деятельности, содержащей в самой себе цель и ценность, поэтому смысл жизни не может находится в работе, т.к. это деятельность не ради самой себя. Альтернативой является игра, присущая молодости. Она наполняет радостью и придает ценность жизни. Смысл жизни символизируется молодостью. Быть «молодым» можно в любое время, если понимать под юностью время игры, время деятельности и творчества. Это несет в себе необходимость изменения традиционной системы воспитания и этики, поддерживающих старость. В частности, он настаивает на том, что необходимо отказаться от этики долга и заменить ее новой этикой, где добродетель безмятежна, не испытывает давления долга и свободно разворачивается по собственной воле. Делается вывод, что «этика молодости» Шлика является симптоматичной для первой трети ХХ века с ее ориентацией на «нового» человека, универсальными свойствами которого были здоровье, бодрость, сила духа и общественный активизм.
 445-456
445-456


ЧЕЛОВЕК И ОБЩЕСТВО
От онтологии поступка к исторической ответственности: методология философского исследования
Аннотация
В статье автор анализирует методологические подходы к исследованию понятия «историческая ответственность», сравнивая немецкую традицию изучения (Х. Арендт, Т. Адорно) с онтологией поступка М.М. Бахтина. В немецкой традиции, сложившейся под влиянием осмысления Второй мировой войны, упор делается на восприятии ответственности в контексте соотношения с виной, в результате чего возникает существенный вопрос о природе ответственности и ее границах. В частности, Х. Арендт формулирует понятие «банальность зла», акцентируя внимание на исчезновении внутреннего восприятия ответственности, но не решает вопрос об истоках возникновения подобного чувства. Русская религиозная традиция, представленная М.М. Бахтиным, позволяет предложить способ решения поставленных вопросов в силу выявления онтологических оснований индивидуальной ответственности. Тем не менее, выводы М.М. Бахтина имеют большое значение и для решения проблемы коллективной ответственности. Бахтин обращается к ответственности как к онтологической характеристике человеческого существования, противопоставляя ее свободе. Ответственность проявляется в поступках, но онтологически предшествует отдельному действию, совершаемому человеком. Роль поступка в том, что он позволяет самому человеку осознать груз ответственности и действовать исходя из этих предпосылок. Перенос методологии Бахтина с индивидуальной на коллективную ответственность позволяет связать момент ее возникновения не с публичным признанием, а с самим фактом вступления индивида в определенное сообщество. Онтологическая целостность индивида приобретает и социальное измерение, причем не только синхроническое, но и диахроническое. По мнению автора, применение методологии Бахтина в сфере социальных исследований позволяет рассматривать проблемы исторической ответственности в контексте более фундаментальных философских вопросов о соотношении индивидуальной и коллективной идентичности, динамики идентичности, сочетании нормативности и вариативности в человеческом поведении.
 457-466
457-466


Одностороннее воздействие масс-медиа: человек не-коммуникационный
Аннотация
В статье рассматриваются формы и способы воздействия современных цифровых масс-медиа на человека, группы людей и общество в целом. Подчеркивается коммуникационная односторонность влияния средств массовой информации на человека. Акцент делается на трансмиссионной модели передачи информации с учетом становления ее ритуализированной формы. Особое внимание уделяется статусу и роли человека во взаимодействии с масс-медиа; приводятся доводы об исключенности человека из коммуникационного пространства. Деятельность современных цифровых медиаструктур обосновывается в качестве социальных «конструкторов реальности». Показаны технологические и визуальные возможности средств массовой информации в создании искусственных, иллюзорно-симулятивных моделей мира, воспринимаемых человеком в качестве объективных, истинных и реальных. Масс-медиа представлены как целостный социальный институт современного общества, действующий автономно, на основе собственных правил и норм, технологических и контентных принципов, условий сетевой коммуникации, цифровизации и медиатизации общества. В статье представлены концепции теоретического осмысления масс-медиа как самодостаточной аутопойэтической системы Н. Лумана, рассмотрения осуществления медийной коммуникации как не - коммуникации Ж. Бодрийяра. Показана роль зрелищности и визуальности в процессе телевизионного воздействия на субъектов, в конструировании образов и моделей мира, сопоставимых с уже имеющимися у потребителей информации картинами мира. Подчеркивается противоречивость и неоднозначность концептуальных оценок деятельности и влияния масс-медиа на современного человека.
 467-479
467-479


ФИЛОСОФИЯ ДИАЛОГА
Герменевтика Аристотеля и герменевтика софистов с точки зрения философии диалога. Часть I
Аннотация
В статье рассматривается логико-философское учение софистов, которое по мнению ряда современных исследователей, было более философским, чем это признавали их античные критики. Сравнение положений герменевтики Аристотеля с сохранившимися фрагментами Протагора и Горгия показывает, что учение софистов представляло собой своеобразную целостную философию, которая во многом предвосхитила философию диалога XX века. Несмотря на то, что философия Платона и Аристотеля пыталась преодолеть релятивизм и антионтологизм софистического учения, но некоторые элементы его диалогизма сохранились в последующей философии в диалектике и риторике. Первое, на что стоит обратить внимание - это различие между диалогической формой изложения философии у Платона и диалогом как фундаментальным основанием мышления, которое мы обнаруживаем у софистов. Сохраненный в диалектике Платона и риторике Аристотеля диалогизм оказывается скорее техническим методом убеждения собеседника, чем герменевтическим основанием, которым он является в философии диалога и в методе сократической дискуссии. Лингвистический поворот, который произошел в философии XX века, включает в себя не только повышенный интерес к языку и точности выражения. Не менее важна новая постановка вопроса о природе языка. Является ли язык инструментом формулировки мысли, как это полагал Аристотель и вслед за ним представители современной аналитической философии, или он обладает собственным фундаментальным статусом, как это считают представители философии диалога? В данном контексте для философии диалога очень важно найти в мышлении досократиков предшественников, которые уже две с половиной тысячи лет назад наметили пути для современной мысли. В первой части статьи анализируется связь герменевтики Аристотеля с герменевтикой софистов.
 480-501
480-501


Синтез культур Востока и Запада в философии Б.Д. Дандарона
Аннотация
В статье рассматривается феномен синтеза культур Востока и Запада в религиозной философии Б.Д. Дандарона - одного из наиболее известных представителей российского буддизма в XX веке. С его неординарной личностью связано и начало распространения буддийского учения в русском обществе. Дандарон занимался активной йогической, тантрической практикой, а также давал наставления тем, кто интересовался буддизмом. В результате вокруг него стал формироваться небольшой круг людей, которые пытались изучать и практиковать буддизм. Дандарон занимался также буддологической деятельностью, изучал тибетскую историю и историографию, описал тибетскую коллекцию рукописей. Указывается, что Дандарон не только сделал попытку рассмотреть буддизм с позиции западной философии, но создал собственное учение, получившее название «необуддизм». В результате ему удалось провести творческий синтез буддийской философии с западной философской традицией. По сути, им была разработана претендующая на универсализм философская система, синтезировавшая буддийские и западные духовные достижения. Пытаясь синтезировать восточные и западные традиции философской мысли, Дандарон обращался к известным компаративистским работам индийского мыслителя С. Радхакришнана и отечественного буддолога Ф.И. Щербатского. Автор отмечает также влияние на философию необуддизма идей В.Э. Сеземана, философа-неокантианца, с которым Дандарон был лично знаком. Идея необуддизма имела не только философско-теоретический, но и практический аспект, поскольку рассмотрение буддизма с позиции западной философии способствовало привлечению к данной религии людей западной культуры. В целом, стремление Дандарона создать универсальную синтетическую философскую систему находилось в русле философских и духовных исканий русской философии, и было отчасти связанo с традиционной проблемой «Восток-Запад», которая всегда была актуальной для России.
 502-511
502-511


НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
 512-517
512-517


 518-526
518-526