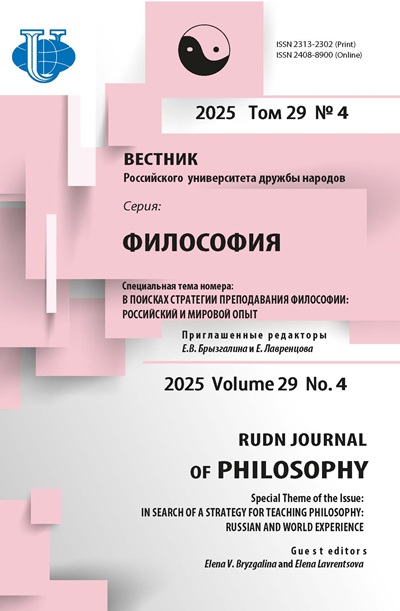Постнеокантианство и проблема возрождения систематической трансцендентальной философии
- Авторы: Цайдлер К.В.1, Белов В.Н.2, Перепечина А.С.2
-
Учреждения:
- Венский университет
- Российский университет дружбы народов
- Выпуск: Том 28, № 3 (2024): ПОСТНЕОКАНТИАНСТВО
- Страницы: 635-652
- Раздел: ПОСТНЕОКАНТИАНСТВО
- URL: https://journals.rudn.ru/philosophy/article/view/40981
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-2302-2024-28-3-635-652
- EDN: https://elibrary.ru/YDGLDL
- ID: 40981
Цитировать
Аннотация
Рассматривая вопрос о возможном возрождении систематической трансцендентальной философии, автор прослеживает развитие проблем от зарождающегося неокантианства до постнекантианства и до настоящего времени. Неокантианство во многом определило это развитие, так как, следуя «аналитическому методу» Пролегомен , оно основывало свои теоретические претензии на «факте науки» и других фактах культуры. Поскольку факты науки и культуры начали драматически меняться в начале ХХ века, этот «объективизм значимости» быстро терял доверие. Хотя его критиковали и в неокантианстве (Эмиль Ласк, Пауль Наторп), эти разрозненные подходы и призывы к обновлению и углублению рефлексии принципов оставались неэффективными, поскольку его спасение искали в вынужденной ориентации на отдельные науки или в новых ортодоксальных взглядах и академических «исследованиях». О преемственности в постановке трансцендентально-философских вопросов, но ни в коем случае не о возрождении систематической трансцендентальной философии, позаботились задокументированные автором под названием « Критическая диалектика и трансцендентальная онтология » постнеокантианские подходы межвоенного и послевоенного периода Рихарда Хенигсвальда и Вольфганга Крамера, Бруно Бауха и Ганса Вагнера, а также Роберта Райнингера и Эриха Хайнтеля, которые до наших дней в работах Вернера Флаха и Гаральда Хольца находят систематически ориентированную преемственность и - под знаком философии сознания - в работах Дитера Генриха и Карла-Отто Апеля, по крайней мере, тематическое продолжение. Но для «возрождения систематической трансцендентальной философии» необходимы были более радикальные подходы, чем те, которые были предложены за последние 100 лет: просто потребовалось вернуться к «синтетическому методу» критики разума , который «не кладет в основание ничего данного, кроме самого разума».
Полный текст
Термин «постнеокантианство» связан и со смущением, которое вызывает у нас «проблема возрождения систематической трансцендентальной философии», поскольку неокантианство оставило после себя поле для споров. Хотя оно посвятило себя обновлению систематической трансцендентальной философии, оно же стало и центром для таких разработок, которые привели к тому, что «философия» сегодня является лишь названием для множества специальных направлений и специальных исследовательских программ. Поскольку современная философия насквозь «постнеокантианская», неокантианство все же стало роковым образом из-за своих принципиальных теоретических недостатков влиятельной силой в истории. Поскольку оно следовало не утверждению «синтетического метода» критики разума, который, «не опираясь ни на какой факт, [...] не кладет в основание ничего данного, кроме самого разума» [1. C. 133–134], а «аналитическому методу» Пролегоменов, когда Пролегомены «должны поэтому опираться на что-нибудь достоверно известное» [1. C. 134], оно основывало свои принципиальные теоретические претензии на «факте науки» и других фактах культуры и поэтому было захвачено историей. «Объективизм значимости», превращение фактов – «факта науки» и других фактов «культуры» – в принципы, могло казаться правдоподобным, пока переплетение объективизма значимости и культурного идеализма скрывало принципиальные теоретические недостатки. Во второй половине XIX века это переплетение придало основательную и современную правдоподобность поспешному смешению фактов и принципов, что в решающей степени способствовало становлению неокантианства в качестве ведущей университетской философии. Однако, поскольку факты науки и культуры, на которые ссылалось неокантианство, резко изменились в начале XX века, его недостатки стали очевидными.
Если мы оглянемся на сто лет назад, то увидим, что уже в кантовском 1924 году явления распада неокантианства стали заметными. Так, Генрих Риккерт в этом году пишет «некролог» неокантианству вместе со своим некрологом Алоису Рилю: «О. Либманн, Ф.А. Ланге, но особенно Г. Коген, В. Виндельбанд и П. Наторп […] справедливо называются неокантианцами, ибо они возвращаются к Канту, в то же время значительно продвинув научную философию вперед. […] Риль был последним из этой группы. Он пережил всех других важных неокантианцев […], так что вместе с ним приходит конец неокантианству как историческому явлению. Сегодня больше нет мыслителя самостоятельного значения, которому подходило бы имя неокантианца, и это не может быть иначе. Неокантианство в указанном здесь смысле завершило свою работу […] в решающем пункте: основные понятия кантианских сочинений […] приобрели в работах неокантианства форму, в которой каждый, кто вообще способен к философскому мышлению, может их понять» [2. S. 164] Эти замечания не только свидетельствуют о том, что Риккерт, несмотря на провозглашение конца неокантианства, тем не менее продолжает придерживаться своей исторической концепции, но и документируют узость риккертовского понимания философии, которое, вероятно, не без основания подпитывало «бурный порыв к эмиграции» (Ю. Эббингауз) его учеников.
Ее возглавляет Ричард Кронер, который завершает свое классическое изложение пути от Канта к Гегелю в 1924 году публикацией второго тома. Эта фундаментальная работа «гегелевского ренессанса» (Генрих Леви [3]) посвящена прежде всего современной адаптации трансцендентализма, поскольку противоречие между (трансцендентальной) философией систем и (экзистенциалистской) философией жизни, которое столь же конститутивно, сколь и неразрешимо для ценностной критики школы Виндельбанда-Рикерта, между «теоретически упорядоченным царством понятий» [4. С. 403], с одной стороны, и «непосредственностью, первоначальностью и наглядной иррациональностью» переживания жизни [4. С. 296] – с другой, должно быть преодолено путем обращения к Гегелю, диалектику которого риккертовский студент Кронер интерпретирует как «иррационализм, превращенный в метод» [5. S. 272]. Несомненно, уже в 1910 году глава школы Виндельбанд предвидел неизбежное обновление гегельянства. Для Вильгельма Виндельбанда гегельянство – это следствие хода развития, который лавирует между двумя опасностями психологизма и историзма и поэтому регулярно повторяется в истории кантианства: это «путь от Фриза к Гегелю», и «с неким гротескным расширением и огрублением пришлось пройти этот путь [...] еще раз. Обновление кантианства, начавшееся пятьдесят лет назад, было [...] односторонне эпистемологически ориентированным, и только по этой причине оно [...] очень скоро выродилось в психологизм и увязло в релятивизме, в котором ценности разума растаяли в антропологических нуждах и требованиях» [6. S. 282f.]. Но постепенно философия «вернулась ко всему критицизму, который требует исторической основы [...], и с тех пор, как Лотце ввел рассмотрение царства ценностей в качестве решающего момента для логической теории, философскому мышлению была заново представлена вся полнота исторического развития разумных ценностей для его понятийной проработки. Это и есть та победа, которую Гегель вновь собирается одержать над Фризом в понятии» [6. S. 284].
Однако Виндельбанд уже ясно осознает двойственное лицо будущего гегелевского Возрождения, поскольку видит в нем опасность скатывания к историзму и в то же время многообещающий подход к преодолению этой опасности: следовательно, победа над психологизмом не должна быть куплена «за счет падения в историзм», «который представляет собой такой же сомнительный вид релятивизма, как и психологизм. Значение истории как органа философии не должно означать, что все исторически действительное следует просто принимать как разумную ценность [...] Но именно в этом отношении гегелевская философия предлагает лучшее оружие для преодоления самой опасности историзма» [6. S. 284f.]. Но и «лучшее оружие» приносит нам мало пользы, пока мы не знаем, как с ним обращаться. Намерение Виндельбанда с помощью «гегелевского метода […] вывести принципы разума из исторического космоса, как это показывает опыт наук о культуре» [6. S. 283], предполагает, в свою очередь, расшифровку принципов разума в «гегелевском методе». Поскольку неогегельянство стремилось лишь вывести «принципы разума» из «исторического космоса» (Виндельбанд), оно было, следовательно, лишь гегелевским продолжением неокантианского объективизма значимости.
Поэтому в интересах теоретического разъяснения принципов «разума» обоим, как неокантианству, так и неогегельянству, следовало задать вопрос, не могли ли они – в соответствии с девизом Виндельбанда: «Понять Канта – значит выйти за его пределы» – слишком поспешно выйти за пределы исторического Канта. В связи с этим следует особенно вспомнить Юлиуса Эббингауза, который сам впервые выступил в качестве ярого защитника гегельянства в школе Виндельбанда–Риккерта [7; 8. S. 136]. Однако в эссе «Интерпретация Канта и критика Канта» (Kantinterpretation und Kantkritik, 1924) он разоблачает «продукты эмигрантского движения, действующего по всему фронту неокантианцев […] как имманентный продукт разложения этой неокантианской философии», которая в отношении Канта «постоянно считалась с великим неизвестным», и поэтому противопоставил «разлагающей неофихтеанской, неошеллингеанской, неогегельянской литературе, возникшей в результате неспособности примириться с Кантом», необходимость «тщательного до мельчайших деталей расчленения Критики чистого разума» [9. S. 82f.].
Призывая к новой кантовской ортодоксии, Эббингауз критикует прежде всего «круговую интерпретацию» неокантианцев, вытекающую из ориентации на факт науки и другие культурные объективации, при этом сталкивая этот «обличаемый, оправдываемый и в конце концов даже одобряемый как неизбежный круг кантовских рассуждений» с замечанием, что Кант «не предполагает никакого познания как объективно действительного, но […] только предполагает нечто, из чего не следует, что любое познание объективно достоверно, а скорее, что обязательно можно определить представления в отношении характера объективной достоверности» [9. S. 85f.]. Если Эббингауз, однако, сомневается, «что поразительные искажения, которые встречаются в кантовской литературе в связи с трансцендентальным единством апперцепции, были бы возможны, если бы всегда с необходимым спокойствием прояснялся простой основной факт: априорная определенность всех представлений в отношении возможности синтеза при условии непрерывного единства многообразного сознания» [9. S. 89], то на это следует возразить, что «простой основной факт» не так уж прост, поскольку определение «априорной определенности» (фундирование категориальной систематики в «руководящей главе») представляет собой проблему столь же фундаментальную, сколь и нерешенную. Открытие Кантом «тождества между априорными возможностями определения в отношении единого синтеза, то есть категорий, и априорными возможностями определения понятий в отношении функций суждения» [9. S. 91] отнюдь не является доказательством систематической полноты этих «априорных возможностей определения», а значит, и не является полным определением «трансцендентального единства апперцепции».
Поскольку Эббингауз осознает взрывоопасный характер проблемы, он пытается освободить Канта от бремени доказательства, утверждая, что «для Канта принципиально не то, чтобы задача [то есть доказательство полноты “форм суждения” и категорий] была абсолютно решена – это подлежит критике, – а то, чтобы она была признана такой, возможные решения которой определены a priori» [9. S. 92]. При этом, однако, Эббингауз в решающей степени расходится с историческим Кантом, который прямо требует «априорно определенной полноты» чистых рассудочных понятий (KrV A 67/B 92). Осознавая проблему, Юлиус Эббингауз радостно приветствовал ее позднее разрешение своим учеником Клаусом Райхом, увидев в попытке Райха «аналитически» доказать полноту кантовской таблицы суждений (Берлин 1932) «раскрытие тайны Критики чистого разума» [10. S. 2074] и представил «новую редакцию» своего эссе, написанного в юбилейный год Канта, в котором теперь априорно определяются не просто «возможные решения» метафизической дедукции, а ее «разрешимость», снова ссылаясь на «новаторскую работу Клауса Райха» [11. S. 9]. Действительно ли попытка Клауса Райха «аналитически» вывести полноту таблицы суждений Канта из «quaeitas», единства реляционной и модальной форм суждения, открывает «секрет критики разума», – это систематический вопрос, который, к счастью, в последние три десятилетия вновь стал обсуждаться с систематической претензией, после того как долгое время рассматривался только в историческом аспекте.
В этом контексте, однако, не следует упускать из виду, что историческая трактовка проблемы категорий также может преследовать и систематическую цель. Этот аспект тем более не следует упускать из виду, что именно из этого направления исходил один из важнейших импульсов к (само)распаду неокантианства. Речь идет о трактате Ганса Пихлера «Об онтологии Христиана Вольфа» (Über Christian Wolffs Ontologie, Лейпциг 1910), в котором возобновляется обвинение Иоганна Августа Эберхарда в том, что «философия Лейбница содержит точно такую же критику разума, как и новая […] содержит всю истину последнего и, даже более того, расширяет область рассудка» [12. С. 151]. Критикуя теорию категорий Канта как неполноценное детище несравненно более богатых онтологических концептуальных определений Кристиана Вольфа [13. S. 73ff.], Ганс Пихлер, ученик Мейнонга, делает центральной темой возникшие из марбургского неокантианства неоонтологическую историографию (Хайнц Хаймзот, Готфрид Мартин) и «категориальный анализ» (Николай Гартман) [14. S. 144ff.]. Поэтому не совсем точно, что Ганс Вагнер, чья собственная трансцендентально-онтологическая систематика, кстати, находится под решающим влиянием Николая Гартмана, называет 1924 год «эпохальным годом» в истории исследований и интерпретации Канта именно потому, что он принес «из-под пера Макса Вундта книгу „Кант как метафизик“ и из-под пера Хайнца Хаймзета главный вклад в исследование Канта „Метафизические мотивы в развитии критического идеализма“»: этот год знаменует собой начало того трансцендентально-онтологического «систематического движения», для которого исторический Кант «уже не просто рассматривается как родоначальник чисто эпистемологического и научно-теоретического философствования против всякого рода метафизического вопрошания», но и стремится систематически соединить «идеализм понятия познания и задачи онтологии, реальной философии и метафизики» [15. S. 246]. Хотя мы уже видели, что другие «систематические движения» могли бы с равным основанием претендовать на 1924 год Канта как на «эпохальный год» для себя, тем не менее стоит остановиться на этом моменте, следуя предложению Ганса Вагнера, и познакомиться немного подробнее с картиной «метафизического» Канта, нарисованной Максом Вундтом.
Работа Вундта о Канте как метафизике, озаглавленная «Вклад в историю немецкой философии XVIII века» (Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Philosophie im 18. Jahrhundert), рассматривается как вклад в «немецкую философию в ее апогее от Лейбница до Гегеля» [16. S. 17]. Таким образом, она соответствует онтотеологической интерпретации Канта, предложенной ранее Бруно Баухом в его монографиях о Канте1. Однако, в отличие от Бауха, который стремится сделать онтологические мотивы Канта плодотворными для эпистемологической критики и в этом отношении остается приверженцем неокантианства, Вундт в значительной степени игнорирует эпистемологическую критику. В противоположность одностороннему эпистемолого-критическому подходу к философии Канта, представленному Куно Фишером, Когеном, Виндельбандом, Файхингером, Кассирером и Кронером [16. S. 188f.], согласно которому Кант «не был ни поборником, ни даже основателем немецкого мировоззрения» [16. S. 2], Вундт утверждает, что Кант претендовал на «немецкую философию в ее апогее от Лейбница до Гегеля» [16. S. 17], объявив «старую платоновскую веру в осуществление блага в мире» «оживляющим дыханием кантовской метафизики» [16. S. 433] и без лишних слов позволив «критической философии [...] достичь кульминации в теологии» [16. S. 434].
Если сопоставить беспечность, с которой Макс Вундт отождествляет «старую платоновскую веру», «немецкое мировоззрение», «теологию» и «критическую философию», с тяжестью проблем, которые они затрагивают, то эпохальную значимость, которую Ганс Вагнер приписывает вкладу Вундта, трудно понять. Более того, метафизическая, теологизирующая интерпретация Канта, связанная рецепцией Платона, не является чем-то оригинальным, поскольку ее можно легко проследить в идеалистической традиции через Бруно Бауха, Рудольфа Германа Лотце и «спекулятивный теизм» XIX века.
Если проследить эту «высшую точку» (hohe Linie) немецкой философии в обратном направлении через Бауха и Вундта к нашему недавнему прошлому, то следует, однако, признать, что работа Вундта все же имеет в определенном смысле эпохальное значение: она знаменует собой начало эпохи, когда неокантианская программа эпистемолого-критического обоснования философии, охватывающей все области культуры, канула в Лету и была заменена историко-филологическими или научно ориентированными специальными исследованиями, с одной стороны, и самыми разнообразными мировоззрениями – с другой. В этом контексте работа Вундта о Канте как метафизике играет если не ключевую, то, по крайней мере, показательную роль в двух аспектах: во-первых, потому что она объединяет филолого-исторический и мировоззренческий моменты именно в рассмотрении предмета, с которого должна была бы начаться любая амбициозная попытка систематической реконструкции «разума», раздробленного на различные компетенции; во-вторых, потому что мировоззрение, которое Вундт ставит на место утраченного единства разума, уже обнаруживает нездоровый националистический дух (der nationalistische Ungeist), который вскоре должен был обеспечить изгнание философии из «немецкой философии».
Если принять во внимание простые факты, число и имена философов, которых в 1933 году сняли с должностей и запретили преподавать, то «нельзя и не нужно избегать удручающей гипотезы, что говорить о конце „неокантианства“ допустимо только в том случае, если речь идет также об антисемитизме и его катастрофических последствиях. Пока этого не произошло, такие дескрипции, как “саморастворение” […], являются лишь завесой […]. Разум не примет таких вещей» [17. S. 516]. Обращение Вольфганга Маркса к обосновывающему разуму (begründende Vernunft) вновь отсылает нас непосредственно к философской проблеме, стоящей за мировоззренческими и идеологическими потрясениями XX века. В конечном счете речь всегда идет о том, насколько мы можем доверять доказательной силе «разума»; ведь как только это доверие утрачивается, идеологии распространяются и занимают место разума соответствующими (будь то биологическими, историческими или социально-экономическими) обстоятельствами, которые они считают самой глубинной картиной мира. Неокантианство можно упрекнуть в том, что оно не пришло к систематическому прояснению своего отношения к идеологическим вопросам из-за своего «культурного пиетета» [18. S. 79ff.]. Уповая, к сожалению, слишком оптимистично на то, «что культурное развитие, несмотря ни на что, будет способствовать накоплению культурных благ, а значит, в конечном счете, и накоплению ценностей – неизменно актуальных в принципе, но реализуемых лишь постепенно» [18. S. 99], оно, вопреки собственным систематическим намерениям, проложило путь к ценностному релятивизму, который в лучшем случае мог противостоять идеологическому тоталитаризму с покорным непониманием (Г. Риккерт) или со смутной надеждой на будущее научное обоснование политики (Э. Кассирер).
Исходя из этого можно сделать простой вывод, что социальные науки и неопозитивизм являются законными наследниками неокантианства и поэтому по праву заняли место неокантианской культурной и научной теории после Второй мировой войны. В этом отношении современное неокантианство в значительной степени движется по пути половинчатого неокантианства: оно отказалось от своего культурного идеализма, но держится за свой объективизм значимости и поэтому понимает теоретические недостатки неокантианства как доказательство несостоятельности любого автономного философского и теоретического подхода. Тем не менее, даже в классическом неокантианстве не было недостатка в голосах, указывающих на то, что идея творческой рациональности, проявляющейся в культурном творчестве, которая является абсолютно конститутивной для неокантианского теоретизирования, осталась неопознанной в силу объективизма значимости.
Что касается «эпохального 1924 года», то следует особо вспомнить Пауля Наторпа, который умер в тот год. А также Эмиля Ласка [19. S. 11–43], который со стороны Баденской школы хотел, чтобы «подручное положение спекуляции [...] было упразднено не только по отношению к теологии, но и по отношению к авторитету научной жизни вообще» [20. S. 100], и поэтому искал «подлинно универсальное учение о категориях в соответствии с принципами кантианства» [20. S. 133]. Пауль Наторп также ставил под сомнение «предпосылку неопровержимой уверенности в „факте“ науки» и заявлял, что «сама наука [...] требует обоснования, а именно категориального обоснования» [21. S. 209]. Программа универсальной теории категорий или «всеобщей логики», которой придерживался поздний Наторп, была предвосхищена уже в его эссе о Канте и Марбургской школе (Kant und die Marburger Schule, 1912), где он подчеркивает, что «трансцендентальный метод» не исчерпывается объективистско-значимым отношением «к имеющимся налицо, исторически доказуемым фактам науки, этики, искусства, религии», поскольку он должен прежде всего выработать «творческую работу созидания объектов всякого рода», «первоначальный закон, который все еще будет достаточно понятен нам, если мы назовем его законом логоса, разума, ratio. И в этом заключается второе существенное требование трансцендентального метода: рядом с фактами должно быть доказано основание “возможности” и с тем вместе “правовое основание”; это значит: необходимо показать и в чистом виде формулировать законосообразное основание, единство логоса, ratio, во всякой такой творческой работе культуры» [22. С. 124]. Это «второе, решающее требование трансцендентального метода», обращенное в равной степени как к «синтетическому методу» критики разума, так и к спекулятивному идеализму2, осталось нереализованным требованием, которое замалчивалось и в последующие десятилетия3. Очевидные недостатки неокантианства отнюдь не послужили толчком к назревшему обновлению и углублению рефлексии о принципах. Напротив, вместо того чтобы заняться обновлением идеализма, спасение искали в вынужденной ориентации на науку (неопозитивизм, аналитическая философия и различные дефисные философии) или в новых ортодоксиях и академических «исследованиях».
На фоне этих событий постнеокантианские подходы межвоенного и послевоенного периода Рихарда Хёнигсвальда и Вольфганга Крамера, Бруно Бауха и Ганса Вагнера, а также Роберта Райнингера и Эриха Хайнтеля, оформленные под названием «Критическая диалектика и трансцендентальная онтология», обеспечили преемственность трансцендентальных философских вопросов. Начав с реалистического критицизма в рамках неокантианства, они оказались «устойчивы к жизненно-философским, онтологическим и позитивистским разрушениям критического подхода» [1], поскольку смогли «интерпретировать онтологические и диалектические мотивы, разложившие научно-логический идеализм марбуржцев и ценностный критицизм баденцев, как исконные реалистические мотивы философии Канта» [1]. Однако, поскольку систематическая реконструкция постановки проблем от кантианства через неокантианство к постнеокантианству требовала «пересмотра некоторых распространенных предрассудков относительно неокантианства» [1], она не нашла отклика среди авторитетных исследователей неокантианства. Указание на то, что Кант уклоняется от фундаментального вопроса всех трех критик, «вопроса о единстве разума», через «выделение научного факта априори во втором издании Критики разума, теории двух миров во второй Критике и реабилитацию онтотеологической идеи порядка в Критике способности суждения» и что «три основных направления неокантианства […] абсолютизируют один из трех подходов, которые Кант применяет с середины 1980-х годов, чтобы (временно) обойти свои дедуктивные намерения в плане теории принципов» [1], не стали толчком к более глубоким систематическим рассуждениям. Сохраняется скорее традиционная точка зрения о существовании двух школ неокантианства – научно-логического идеализма марбургской школы и ценностного критицизма баденской школы, и, в частности, оспаривается отнесение Бруно Бауха к третьей школе реалистического критицизма. Не было бы необходимости упоминать об этой дискуссии4, если бы она не фиксировала прискорбное сужение перспективы, которое еще больше отягощает трансцендентально-систематический подход, уже вытесненный на обочину в наши дни, и создает для посторонних образ деградирующей исследовательской программы, которую не интересуют фактические проблемы, а только интерпретация собственной истории.
Однако реалистическому критицизму, в частности, нельзя отказать в ориентации на фактические проблемы. Поскольку «ключевые понятия аффекта, сродства и естественной цели […] придают ему очертания и своеобразие», в которых «реалистическое измерение фундаментальной проблемы теоретической философии Канта […] подвергается троекратной конкретизации: во-первых, в направлении эмпирического субъекта познания (аффект), во-вторых, в отношении логико-категориальной детерминации natura formaliter spectata (сродство), в-третьих, в отношении закономерной детерминированности конкретных природных явлений (естественная цель)» [1], то представителей реалистического критицизма в лучшем случае можно порицать за то, что им не удалось системно и убедительно прояснить связь между этими проблемными измерениями. Несмотря на осознание проблемы и систематические притязания, реалистическому критицизму не хватало реализации, ибо тщетно искать теорию категорий или принципов, которые могли бы послужить логическому прояснению взаимосвязей проблемы. В то время как представители старшего поколения (Рихард Хёнигсвальд (1875–1947), Бруно Баух (1877–1942) и Роберт Райнингер (1869–1955)) стремились обосновать свой реалистический критицизм в споре с марбургской и баденской школами неокантианства, а также с современной философией жизни, неоонтологией, феноменологией и неогегельянством, поколение учеников с выраженной онтологической ориентацией (Вольфганг Крамер (1901–1974), Ганс Вагнер (1917–2000) и Эрих Хайнтель (1912–2000)) стремилось отчасти к онтологии субъекта и «теории абсолюта» (Вольфганг Крамер), отчасти к посредничеству между кантианством, онтологией, феноменологией и спекулятивным идеализмом (Ганс Вагнер и Эрих Хайнтель). Хотя Вольфганг Крамер с 1949 года работал во Франкфурте-на-Майне только в качестве приват-доцента, адъюнкт-профессора и внештатного профессора (1962), он оказал решающее влияние на послевоенную трансцендентальную философию, как и два главных ординарных профессора – Хайнтель (в Вене с 1960 г.) и Вагнер (в Бонне с 1961 г.). Однако с сегодняшней точки зрения трудно оценить это влияние положительно, ведь если сделать обзор «направлений […], которые занимают область того, что считается философски значимым», т.е. аналитическая философия, герменевтика, Франкфуртская школа, «философия, которая считает себя католической», «так называемые постмодернисты» и «группа тех, кто в первую очередь интересуется историей, для которых философия фактически и на самом деле стала (суб)дисциплиной гуманитарных наук», то следует трезво отметить, что «трансцендентальная философия […] не фигурирует в списке ключевых слов устоявшегося духа времени» [23. S. 1f.]. Следует, однако, отметить, что термин «трансцендентальная философия» появляется и в «списке ключевых слов» вышеупомянутых направлений, но появляется он там под их эгидой и, следовательно, в специфических условиях, которые либо полностью отрицают принципиально-теоретические притязания трансцендентальной философии, либо, под эгидой антропологии и философии сознания, сводят ее к тем аспектам, которые могут быть реконструированы в терминах анализа языка, герменевтики или теории дискурса.
Тем не менее, в другом фрагменте Гаральд Хольц называет ряд контраргументов трансцендентальной философии: «Самые последние проекты, которые также направлены на преодоление описанных проблемных ограничений, были представлены В. Флахом, Х. Хольцем, П. Рохсом, Х.-Д. Кляйном, В. Марксом и К.В. Цайдлером» [24. S. 763]. С точки зрения строгой систематики особого внимания заслуживают противоположные подходы Вернера Флаха (1930–2023) и Гаральда Хольца (год рождения 1930). Идя по стопам своего учителя Ганса Вагнера и постоянно визуализируя теорию познания Канта, Вернер Флах продолжает линию интерпретации Канта и его последователей в плане теории значимости и логики суждения, которая через Бруно Бауха связана с Генрихом Риккертом, а через Лотце – с немецким идеализмом и, в частности, с фихтеанской теорией принципов. Он понимает «всю кантовскую систему философии как реализацию идеи «предельного обоснования» (Letztbegründung) [25. S. 15] и «исключительно аргументацию в рамках теории значимости» [25. S. 34], которая, в соответствии с «идеей трансцендентальной философии», направлена на «определенность относительно устройства и развития науки, позитивных наук и фундаментальной науки, ясно и отчетливо от них отличающейся и с ними связанной» [25. S. 193]. Главный систематический труд «Основы учения о познании: критика познания, логика, методология» (Grundzüge der Erkenntnislehre: Erkenntniskritik, Logik, Methodologie), включает в себя в соответствии с этой целью критику познания, логику и методологию, при этом Флах понимает учение о познании как «фундаментальную философию» или philosophia prima [26. S. 93f, 130], поскольку, в отличие от всех «неили псевдотрансцендентальных идей обоснования» [26. S. 117], оно «ищет основание всякого познания не в конечной вещи, а исключительно в определении, которое делает всякое познание познанием вообще, то есть обязательно обоснованным дифференцированным знанием, в чисто формальном (структурном) определении, структуре суждения, и, кроме того, в конституирующих моментах этой структуры» [26. S. 112f.]. Критика познания развивает «функциональную модель знания в его определении достоверности» [26. S. 143ff.], причем Флах подчеркивает в этом контексте, что онтологические и сознательно-теоретические соображения «больше не являются вкладом в прояснение определения достоверности знания». Именно поэтому критика познания не интересуется темой сознания и «продвижением к онтологии. Она представляет свою тему как связующую, но сама не берется за нее» [26. S. 211, 223f.]. Логика [26. S. 247–353] сталкивается «в своей первой, фундаментальной части», «учении о принципах, конституирующих познание» [26. S. 264ff.], с тройной проблемой принципиально-теоретической характеристики трех элементов суждения (субъекта суждения, предиката суждения и отношения суждения), которую Флах решает на основе принципа тождества, принципа противоречия и принципа диалектики. Учение о познании завершается учением о методе [26. S. 355–687], в котором – при детальном рассмотрении авторитетных научно-теоретических позиций XX века – прописывается методологическая функция регулятивного априори на основе различения всеобщего, специального и конкретного методов для формирования развернутой теории методологической обусловленности научного знания. Учение об идеях довершает учение о познании в «философскую систематику», ибо поскольку «философия qua philosophia prima есть учение о познании», то этические, эстетические и экономико-социальные «темы самоорганизации человека и его мира, культуры», обозначенные в основных чертах в учении об идеях, следует понимать как темы philosophia secunda [27. S. 10f.].
Если Флах понимает трансцендентальную философию в свете трансцендентальной аналитики и неокантианской интерпретации прежде всего как теорию определения предмета (тем самым, что существенно, учение об идеях становится для него philosophia secunda), то Харальд Хольц берет учение об идеях в качестве отправной точки, поскольку выступает за «примат модели синтеза» или «трансцендентальную теорию конститутивной относительности», которая не направлена «прежде всего и исключительно на рефлексию конститутивной объективности, освещающую ее основания» [28. S. 113f.]. Хольц проложил путь к трансцендентальной философии сквозь горизонт католической философии и неоонтологической интерпретации Канта (Готфрид Мартин) с целью создания теории Абсолюта. Даже после того, как непосредственно христианское вероучение потеряло для него свою обязательность, подход, переданный прежде всего поздними Фихте и Шеллингом (среди более поздних – Г. Вагнер и В. Крамер), определил его понимание трансцендентальной философии, поскольку Хольц сосредоточил усилия мысли на строго формально понятом, но тем не менее генеративном понятии Абсолюта и, «не отличаясь от Фихте в решимости, пытался снова и снова и во все новых и новых способах представления» [29. S. 182] выработать оригинальное синтетическое единство или функционирующее тождество [28. S. 295] или «самопорождающее отношение» [30. S. 19], объединив в один аргумент контраскептический аргумент инверсии (Августин, Декарт), аристотелевский принцип исключенного противоречия и аргумент Ансельма. Соответственно, контраскептический инверсионный вывод не только должен быть принят во внимание в контексте (трансцендентальной) прагматики как необходимая предпосылка дискурса и теоремы исключенного противоречия, но и как как основа любой формально-логической аргументации. Хольц стремится «найти форму выражения абсолютной всеопределяющей необходимости, которая также проявляется в формально-логической структуре (первого) принципа» [23. S. 87], чтобы создать «фундаментальную логику явно трансцендентально-систематического характера» [23. S. 89], применимую к различным проблемным областям, как показывает основной труд (Allgemeine Strukturologie) и множество отдельных исследований.
Работы Флаха и Хольца характеризуются тем, что они понимают принципиально-теоретическое требование трансцендентальной философии как сугубо (трансцендентальную) логическую проблему, при этом противоположность их подходов относится к спекулятивной проблеме соглашения между учением о категориях (аналитикой) и учением об идеях (диалектикой). Если еще раз взглянуть на подходы, сводящие принципиально-теоретические претензии трансцендентальной философии к ее аспектам, которые могут быть реконструированы в терминах лингвистического анализа, герменевтики или теории дискурса под эгидой философии сознания, то следует упомянуть две наиболее заметные позиции, претендовавшие на представление трансцендентального подхода в конце XX века: трансцендентальная прагматика Карла-Отто Апеля (1922–2017), а также «гейдельбергская школа» Дитера Генриха (1927–2022), тем более что Апель – пусть и вскользь [31. S. 167–196] – продолжает философию языка и критику номинализма Эриха Хайнтеля, а Хенрих – онтологию субъекта Вольфганга Крамера [32. S. 237–263; 33. S. 188–232]. В исследованиях идеализма и теории самосознания Дитера Генриха и его школы систематические интересы трансцендентальной философии, особенно последователей Канта, встречаются с интересами феноменологии и аналитической философии, а в центре дискуссий – проблема времени и «феномен» самосознания. При всей филологической скрупулезности и аналитичности соответствующих исследований следует отметить, что они ориентированы скорее на канонические тексты, авторов и их окружение, а также на собственные первичные определения теории сознания, чем на вопросы теории принципов, тем более что теория самосознания Хенриха, похоже, больше стремится потеряться в паралогических перестановках проблем, чем докопаться до их сути. В то время как Хенрих и его ученики занимаются детальным изучением идеализма и теории самосознания, используя обширный и разнообразный набор филологических аргументов, Карл-Отто Апель придерживается более критического подхода к классической трансцендентальной философии. Он считает ее теорией самосознания и предлагает семиотическое и дискурсивно-теоретическое «преобразование» этой концепции. Критика номинализма, лежащая в основе лингвистической герменевтики и прагматического подхода Апеля (а также его близость к Гегелю и Пирсу, двум великим антиноминалистам новейшей философии), трансформируется под влиянием левого гегельянства в критику «методологического солипсизма», который «вводит в заблуждение философскую теорию познания» со времен «Оккама и Декарта» [31. S. 60]. Обращение к «априорному факту аргументации» и предпосылкам дискурса, которые нельзя отрицать без «перформативного самопротиворечия», однако, не заменяет трансцендентально-логического размышления об условиях возможности всякой аргументации. Прежде всего, ссылка на «априорный факт» не способна опровергнуть номинализм, который опирается на свои «эмпирические факты», и их у него достаточно, пока он может отсечь бритвой Оккама любые вопросы о не просто эмпирических предпосылках своих «эмпирических фактов». Номинализм может столкнуться с серьезной угрозой в виде попытки, которую он активно и постоянно отвергает как метафизический обскурантизм: онтологика или «объективный идеализм»5. Этот подход радикально ставит под сомнение одностороннюю ориентацию номинализма на результаты познания («предметы» познания) и его соответствующее понимание понятий, основанное на суждениях и субсумциональной логике.
Поэтому на вопрос о «возрождении систематической трансцендентальной философии» можно дать краткий ответ, оглядываясь на проблемные разработки последних 100 лет. Трансцендентальная философия должна осмыслить синтетический метод критики разума, «который основывается исключительно на самом разуме». Таким образом, систематическая трансцендентальная философия должна следовать идеям Канта и идти дальше него, сосредотачиваясь не на теории некого «предмета» или предметной области, а на логической самоэкспликации разума. Разум, как диалектика, конечно, должен также доказать свою значимость в качестве основания аналитики и, таким образом, всякого определения предмета.
1 B. Bauch, Immanuel Kant (Sammlung Göschen, Geschichte der Philosophie V), Leipzig 1911, Berlin-Leipzig 21916, 31920; ders., Immanuel Kant, Berlin-Leipzig 1917, 31923; см. [16. S. 188f.]
2 «Все эти исследования, на углубление которых направлены теперь наши интенсивнейшие усилия, могут показаться возвращающими нас снова на путь Фихте и Гегеля […]. Однако мы идем вместе с ними не далее стремления выполнить требования, с самого начала заложенные в основной идее трансцендентального метода, но, очевидно, не выполненные самим Кантом. См.: [22 С. 135].
3 Даже Эрнст Кассирер и Мартин Хайдеггер, тесно общавшиеся с Паулем Наторпом,
в «Давосском диспуте» (1929) обходили тему требования [трансцендентального метода], а потому и не находили общего языка.
4 Например, дискуссия в книге «Wissenschaftsphilosophie im Neukantianismus» между Кристианом Крайненом, Вернером Флахом и Куртом Вальтером Цайдлером.
5 Важно отметить, что школа Апеля столкнулась с критикой со стороны своих же представителей, вдохновлённых идеями объективного идеализма.
Об авторах
Курт Вальтер Цайдлер
Венский университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: kurt.walter.zeidler@univie.ac.at
ORCID iD: 0009-0009-7275-3718
доктор философии, профессор, Институт философии
Австрия, A-1010, Вена, Universitätsstraße, 7/IIIВладимир Николаевич Белов
Российский университет дружбы народов
Email: belov_vn@pfur.ru
ORCID iD: 0000-0003-3833-6506
SPIN-код: 4922-3611
доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой онтологии и теории познания, факультет гуманитарных и социальных наук
Российская Федерация, 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6Александра Сергеевна Перепечина
Российский университет дружбы народов
Email: perepechina_as@pfur.ru
ORCID iD: 0000-0002-3226-1040
старший преподаватель, кафедра иностранных языков, факультет гуманитарных и социальных наук
Российская Федерация, 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6Список литературы
- Кант И. Пролегомены ко всякой будущей метафизике, могущей возникнуть в качестве науки. М. : Соцэкгиз, 1937.
- Rickert H. Alois Riehl. Logos XIII/1924f.
- Levy H. Die Hegel-Renaissance in der deutschen Philosophie mit besonderer Berücksichtigung des Neukantianismus. Charlottenburg: Pan-Verlag; 1927.
- Риккерт Г. Философия жизни // Генрих Риккерт Философия жизни. Киев : Ника-центр, 1998.
- Kroner R. Von Kant bis Hegel. Bd. 2: Von der Naturphilosophie zur Philosophie des Geistes. Tübingen: J.C.B. Mohr; 1924.
- Windelband W. Präludien. Bd. 2. Tübingen: J.C.B. Mohr; 1919.
- Ebbinghaus J. Relativer und absoluter Idealismus. Historisch-systematische Untersuchung über den Weg von Kant zu Hegel. Leipzig: Voß; 1910.
- Kroner R. Hegel heute. In: Hegel-Studien. Bd. 1. Bonn: Bouvier; 1961.
- Ebbinghaus J. Kantinterpretation und Kantkritik. Deutsche Vierteljahrschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte. 2/1924.
- Ebbinghaus J. Rezension von K. Reich, Die Vollständigkeit der kantischen Urteilstafel. Deutsche Literaturzeitung. 1933.
- Ebbinghaus J. Kantinterpretation und Kantkritik. 2. erweiterte und verbesserte Fassung. In: Gesammelte Aufsätze, Vorträge und Reden. Hildesheim: Georg Olms; 1968.
- Кант И. Об одном открытии, после которого всякая новая критика чистого разума становится излишней ввиду наличия прежней (Против Эберхарда) // Кантовский сборник. 1991. Вып. 16. С. 151.
- Pichler H. Über Christian Wolffs Ontologie. Leipzig: Dürr; 1910.
- Heimsoeth H. Zur Geschichte der Kategorienlehre. In: Heimsoeth H, Heiß R, hrsg. Nicolai Hartmann. Der Denker und sein Werk. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht; 1952.
- Wagner H. Zur Kantinterpretation der Gegenwart. Rudolf Zocher und Heinz Heimsoeth. Kant-Studien. 53/1961f.
- Wundt M. Kant als Metaphysiker. Ein Beitrag zur Geschichte der deutschen Philosophie im 18. Jahrhundert. Stuttgart: Enke; 1924.
- Marx W. Identität als dialektisch konstruierbare Totalität und als Hypothese der Fundierung wissenschaftlicher Geltung. Überlegungen zur Theorie des Begriffs bei Hegel und Cohen. In: Gadamer H-G, hrsg. Stuttgarter Hegel-Tage 1970 (Hegel-Studien, Beiheft 11). Bonn: Bouvier; 1974.
- Tenbruck F. Heinrich Rickert in seiner Zeit. Zur europäischen Diskussion über Wissenschaft und Weltanschauung. In: Oelkers J, Schulz WK, Tenorth H-E, hrsg. Neukantianismus. Kulturtheorie, Pädagogik und Philosophie. Weinheim: Deutscher Studien Verlag; 1989.
- Zeidler KW. Das Problem der metaphysischen Deduktion im ausgehenden Neukantianismus (2000). In: Provokationen. Zu Problemen des Neukantianismus. Wien: Ferstl&Perz; 2018.
- Lask E. Die Logik der Philosophie und die Kategorienlehre (1911). In: Gesammelte Schriften. 2. Bd. Herrigel E, hg. Tübingen: J.C.B. Mohr; 1923.
- Natorp P. Vorlesungen über praktische Philosophie. Erlangen: Verlag der Philosophischen Akademie; 1925.
- Наторп П. Кант и Марбургская школа // Пауль Наторп. Избранные работы / сост. В.А. Куренной. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2006. С. 124.
- Holz H. Immanente Transzendenz. Würzburg: K&N; 1997.
- Holz H. Transzendentalphilosophie. In: TRE (Theologische Realenzyklopädie) XXXIII. Berlin: Walter de Gruyter; 2002.
- Flach W. Die Idee der Transzendentalphilosophie. Würzburg: K&N; 2002.
- Flach W. Grundzüge der Erkenntnislehre. Erkenntniskritik, Logik, Methodologie. Würzburg: K&N; 1994.
- Flach W. Grundzüge der Ideenlehre. Würzburg: K&N; 1997.
- Holz H. System der Transzendentalphilosophie im Grundriß. Bd. 1. Freiburg-München: Alber; 1977.
- Engstler A, Klein H-D, hg. Perspektiven und Probleme systematischer Philosophie. Harald Holz zum 65. Geburtstag. Fft/M u.ö.: P. Lang; 1996.
- Holz H. Allgemeine Strukturologie. Entwurf einer Transzendentalen Formalphilosophie. Essen: Die Blaue Eule; 1999.
- Apel K-O. Transformation der Philosophie. Bd. 1. Fft/M: Suhrkamp; 1973.
- Henrich D. Über System und Methode von Cramers deduktiver Monadologie. Philosophische Rundschau. 6/1958.
- Henrich D. Fichtes ursprüngliche Einsicht. In: Subjektivität und Metaphysik. Festschrift für Wolfgang Cramer. Henrich D, Wagner H, hrsg. Fft/M: Vittorio Klostermann; 1966.
Дополнительные файлы