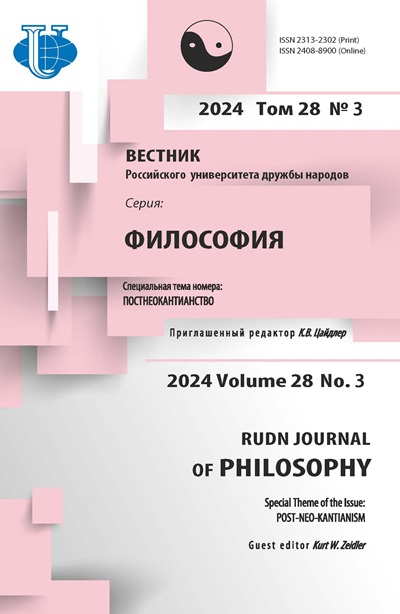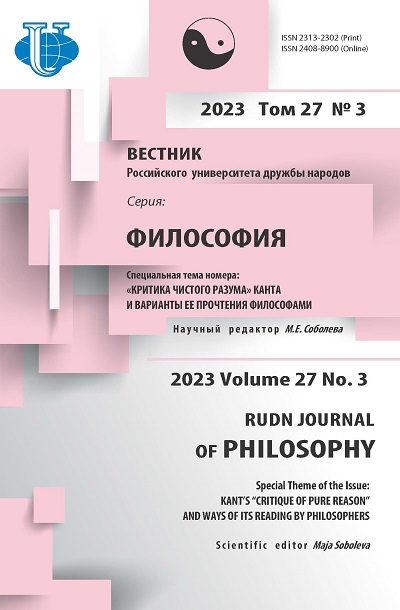Трансцендентализм Канта как метафизика возможного опыта и его реалистическая трактовка в аналитической философии
- Авторы: Катречко С.Л.1
-
Учреждения:
- Государственный академический гуманитарный университет
- Выпуск: Том 27, № 3 (2023): «КРИТИКА ЧИСТОГО РАЗУМА» КАНТА И ВАРИАНТЫ ЕЕ ПРОЧТЕНИЯ ФИЛОСОФАМИ
- Страницы: 659-676
- Раздел: «КРИТИКА ЧИСТОГО РАЗУМА» КАНТА И ВАРИАНТЫ ЕЕ ПРОЧТЕНИЯ ФИЛОСОФАМИ
- URL: https://journals.rudn.ru/philosophy/article/view/36054
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-2302-2023-27-3-659-676
- EDN: https://elibrary.ru/EBTXMM
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В «Критике чистого разума» и последующих «Пролегоменах ко всякой будущей метафизике…», «Метафизических началах естествознания», Opus Postumum Кант развивает метафизику возможного опыта , задачей которой является исследование трансцендентальных условий возможности нашего (по)знания, которое, по Канту, имеет априорный характер. П. Стросон называет этот модус метафизики дескриптивной метафизикой и связывает ее с анализом концептуальной структуры человеческого мышления о мире. Современный реалистический тренд в интерпретации кантовской трансцендентальной философии (прежде всего, в рамках аналитической философской традиции) связан с современным развитием интерпретации «двух аспектов» (80-е годы ХХ в.), которая пришла на смену классической теории (интерпретации) «двух объектов/миров» (ср. также с противопоставлением « теория являющего vs. теория явлений »). В рамках этой теории кантовское явление имеет объективированный статус, являясь не нашим ментальным представлением, а соответствуя (как их знак) реально существующим вещам или предметам опыта . В статье прослеживается становление, исторические и концептуальные предпосылки кантовской метафизики опыта (выражение Г. Патона). Исторически метафизика опыта наследует неокантианский подход к трактовке наследия Канта как «теории опыта» (Г. Коген, Э. Кассирер), далее она развивается в логическом позитивизме/эмпиризме (Г. Райхенбах, Р. Карнап; далее - в пост-позитивизме: концепции науки И. Лакатоса и Т. Куна), в аналитической философии науки (Г. Бухдал, У. Селларс, Х. Патнэм), а в настоящее время метафизика опыта развивается в работах П. Стросона, К. Америкса, Л. Эллайс и др.
Полный текст
Кантовская метафизика возможного опыта
В своей «Критике чистого разума» Кант предпринимает попытку изменить прежнюю метафизику и «совершить в ней полную революцию» [1. BXXII, BXVIII][1], что делает ее, как говорит А. Шопенгауэр, величайшей книгой европейской философии. Ряд недавних публикаций (см. О. Хёффе [2] и др.) показывают влияние кантовской концепции на многие направления современной философии. Это связано с тем, что Кант «стоит у истоков нового способа философствования» [3. C. 87], а его концепция выступает парадигмой для современных концепций, направленных на исследование априорной концептуальной структуры познания.
Вместе с тем за более чем 240 лет со дня публикации «Критики чистого разума» (далее — Критики) так и не удалось достичь согласия относительно того, как следует понимать трансцендентальную философию (ТФ) и в настоящее время существуют различные ее прочтения: идеалистическое, реалистическое, метафизико-онтологическое…, которые трудно совместимы друг с другом. Причем, как отмечает Н. Хинске, отличия этих интерпретаций отчасти обусловлены доступным на момент их создания кантовским наследием: так влиятельная в начале ХХ века неокантианская трактовка кантовской теории опыта не учитывала кантовский Opus postumum, который был опубликован лишь в 1924 г. в двадцать первом и двадцать втором томах академического собрания сочинений Канта. В 60-е гг. ХХ в. было совершено новое «открытие» Канта, катализатором для которого во многом послужила книга П. Стросона «Границы смысла» (1966) [4], а интерпретационное напряжение в настоящее время связано с противостоянием восходящей еще к первой геттингенской рецензии на кантовскую Критику теории «двух объектов» и появившейся в 80-е гг. ХХ в. теории «двух аспектов» (Г. Эллисон [5]), принятие которой ведет к реалистической трактовке трансцендентализма. Мы приведем аргументы в пользу тезиса, что кантовская ТФ, несмотря на ее именование трансцендентальным идеализмом, является не идеализмом, а формой реализма.
Начнем наш анализ с экспликации «главной идеи трансцендентальной философии» [1. A1], которую можно представить в виде следующей последовательности из пяти пунктов (подробнее об этом мы говорим в [6]).
1) Эпистемологический поворот Нового времени как предпосылка трансцендентальной концепции и, соответственно, Кантова переориентация с онтологической метафизики на эпистемологическую «научную» метафизику[2].
2) Формулировка главной «тайны» метафизики в письме Канта к М. Герцу от 21.02.1772 как проблемы соответствия предметов и представлений[3]. На ее важность указывает то, что в последующих Критике и Пролегоменах эта проблема трансформируется в «главный трансцендентальный вопрос» о возможности априорных синтетических суждений [7. C. 33—34], разрешение которого составляет суть кантовского трансцендентализма.
3) Кантовский «коперниканский переворот» как альтернативный способ решения проблемы соответствия.
4) Трансцендентальный поворот от изучения предметов к исследованию нашего априорного способа познания (см. дефиницию из [1. В25]).
5) Метафизический трансцендентальный сдвиг, состоящий в смещении пространства и времени из области объективного в субъективную область априорных форм чувственности, и основополагающем для ТФ различении вещи самой по себе (предмета) и явления (предмета опыта), или введением трансцендентальной триады «вещь сама по себе (предмет) — явление (предмет опыта) — представление», в рамках которой явление опосредует отношение между предметом и представлением (решение проблемы соответствия).
Прежде чем перейти к анализу кантовской концепции, обратим внимание на два обстоятельства. Во-первых, кантовская Критика «есть полная идея трансцендентальной философии, но еще не сама эта наука…» [1. B28] (см. также [1. B27] и далее), создание которой в Критике лишь постулируется. При этом трансцендентальная философия, в свою очередь, выступает лишь пропедевтикой («пролегоменами») к собственно трансцендентальной метафизике, которая, по Канту, состоит из метафизики природы и метафизики нравов [1. B869].
Во-вторых, надо также учитывать и то, что кантовский трансцендентальный проект по мере своего развития претерпевает определенные изменения, что выражается в изменении интенции трансцендентального исследования Канта: если в 1-м издании Критики (1781) Кант, определяя трансцендентальную философию, говорит об изучении «наших понятий a priori о предметах вообще» [1. A11—12][4], то в дефиниции ТФ из 2-го издания Критики (1787) он говорит уже об изучении «видов нашего познания предметов, поскольку это познание должно быть возможным a priori» [1. B25]. Тем самым во 2-м издании задается уже методологический модус ТФ, поскольку Критика «есть трактат о методе, а не система самой науки» [BXXII]. При этом трансцендентальная метафизика мыслится Кантом как пришедшая на смену «гордой» онтологии догматики «простая аналитика чистого рассудка» [1. B303][5], т.е. учение о категориях[6], которая (это важно!) применяется теперь не к области вещей-самих-по-себе, а к области явлений (см. п.5 выше).
Этот модус метафизики можно соотнести с введенной П. Стросоном дескриптивной метафизикой как исследованием концептуальной структуры нашего мышления о мире [12. C. 8—10]. Ключевым для понимания этого модуса ТФ выступает «итоговое определение трансцендентального» из фрагмента [1. B80—81][7], где Кант определяет трансцендентальное (отличая его от априорного) как обоснование возможности априорного, выделяя при этом две его составляющие: 1) концепцию эпигенензиса (возможность как происхождение априорного) и 2) трансцендентальную дедукцию категорий, направленную на обоснование возможности (правомерности) применения априорного в опытном познании[8].
В соответствии с этим Кант развивает метафизику возможного опыта, направленную на выявление и анализ трансцендентальных условий возможности опыта/опытного познания. Этот модус метафизики Кант развивает, прежде всего, в своих Пролегоменах (1783) и Метафизических основаниях естествознания (1783) (заметим, что эти работы написаны между 1-м и 2-м изданиями Критики и после критической рецензии Хр. Гарве — И. Федера на кантовскую Критику), а также в последующем Opus Postumum. Позже трактовка трансцендентализма как метафизики опыта получает развитие в неокантианстве (Г. Коген, Э. Кассирер), далее в логическом позитивизме (Г. Рейхенбах, Р. Карнап), аналитической философии науки (У. Куайн, Г. Бухдал), постпозитивизме (Т. Кун, И. Лакатос, Х. Патнэм, М. Фуко) и современной трансцендентальной философии науки (М. Фридман, М. Битбол, М. Массими). В современном развитии метафизики опыта выделим линию Г. Патон — П. Стросон — Л. Эллайс, которая представляет реалистический тренд в трактовке кантовского трансцендентализма.
Что представляет собой метафизика опыта? Заметим, что у самого Канта данный термин не встречается, а впервые он вводится Г. Патоном в книге «Кантовская метафизика опыта» (1936) [13. P. 72] и противопоставляется критикуемой Кантом спекулятивной метафизике прошлого. При этом Патон отсылает к фрагменту [1. BXVIII] Критики, в котором Кант, после введения им «измененного метода мышления» [1. BXVIII], пишет, что это «обещает метафизике верный путь науки в ее первой части, где метафизика занимается априорными понятиями, сообразно с которыми могут быть даны предметы в опыте»[9] (выделение курсивом мое — С.К.). И далее Кант продолжает, что после указанного изменения можно объяснить не только возможность априорного познания, но и дать объяснение «законов, а priori лежащих в основе природы как совокупности предметов опыта» [1. BXIX].
Тема метафизики опыта является центральной для книги П. Стросона «Границы смысла» [4. P. 24—32], которая во многом послужила катализатором для «переоткрытия Канта» в аналитической философии в 60-е гг. ХХ в.
В книге Стросон рассматривает три модуса метафизики: метафизика опыта, трансцендентная метафизика и метафизика трансцендентального идеализма — и вслед за Кантом и Патоном отвергает трансцендентную метафизику, но вместе с тем Стросон подвергает сомнению состоятельность трансцендентального идеализма (основанную на плохой психологии), и постулирует возможность лишь минималистской (англ. anodyne) метафизики опыта, задачей которой выступает анализ лежащих в основаниях опыта концептуальных структур. Свое дальнейшее развитие метафизика опыта получает в недавней книге Л. Эллайс «Являющаяся реальность: идеализм Канта и его реализм» [14], в которой автор развивает умеренно-метафизическую (англ. moderate) интерпретацию кантовской метафизики (см. изложение умеренной метафизической интерпретации в [15]). Соответственно, при такой трактовке кантовский трансцендентализм является не идеализмом, а формой реализма (подробнее см. нашу работу [16]).
В содержательном плане метафизику возможного опыта (resp. априоризм) Канта можно задать c помощью следующих трех аксиом10.
- Онтологическая трансцендентальная аксиома различия, которая предполагает, что познавать мы можем только предметы опыта или явления: кантовское различение вещей-самих-по-себе и явлений.
- Эпистемологическая аксиома априорности, говорящая о том, что в нашем опыте (познании) есть как апостериорная (материя) так априорное (форма) составляющая (соответственно, знание мыслится Кантом как синтез формы и материи). Здесь постулируется наличие в нашем опытном (по-)знании априорного (не-опытного) компонента, фиксируемое Кантом в качестве априорных форм чувственности и рассудка, а в современной философии — в качестве концептуальной/категориальной структуры (П. Стросон / С. Кёрнер) познания. При этом надо учитывать, что кантовское a priori определяет лишь форму знания, но не его эмпирическое содержание. Так в законе всемирного тяготения его формула может рассматриваться как априорная форма, а расчетная сила притяжения двух тел зависит от их эмпирической массы и расстояния между ними. Или наша априорная форма пространства предопределяет восприятие дома как пространственного тела, но его содержательные характеристики, в частности то, что перед нами находится кирпичный красный дом длиной в 8 метров, даются опытным путем. Тем самым в нашем познании наличествуют как априорная, так и апостериорная составляющие, а трансцендентальная рефлексия (топика) ([1. B319] и далее) должна распределить характеристики предмета по шкале «априорное vs. апостериорное» и соотнести их с чувственностью и рассудком.
При этом надо различать трансцендентализм в сильном смысле как принятие обеих аксиом и трансцендентализм в слабом смысле (или априоризм), при принятии только второй аксиомы[11].
Согласно этим аксиомам познавательный процесс, по Канту, можно описать так: наше познание начинается с аффицирования нашей чувственности вещами самими по себе («наше познание с опыта» [1. B1]), которые даются нам как явления, оформленные априорными формами, хотя отсюда не следует, что наше познание «целиком происходит из опыта» [1. B1].
Вместе с тем можно также различить строгий (сильный) и слабый априоризм. В случае строгого (кантовского) априоризма набор априорных форм мыслится неизменным, а в случае пост-кантовского слабого априоризма (неокантианство, логический эмпиризм, постпозитивизм) первоначальный набор априорных форм может модифицироваться или полностью изменяться.
Тем самым можно говорить о разных версиях метафизики опыта, восходящих к априоризму/трансцендентализму Канта, среди которых собственно кантовский трансцендентализм представляет самую сильную и радикальную («революционную»), версию, которую Кант связывает со своим «коперниканским переворотом» в метафизике и в основе которого лежит трансцендентальное различение вещей самих по себе и явлений.
Реалистическая трактовка кантовского трансцендентализма
Перейдем теперь к аргументации в пользу реалистического понимания кантовского трансцендентализма, его метафизики опыта. Для этого приведем пять аргументов: 1. концептуальная поддержка реализма в текстах самого Канта; 2. неидеалистический характер кантовского коперниканского переворота; 3. объективированный статус кантовского концепта явления; 4. различие явления и представления (на основе различия «теория являющегося vs. теория явлений»): явление как предмет представлений; 5 интуиция (Anschauung) как способность «прямого» (непосредственного) доступа к реальности.
1. Начнем с концептуальных пояснений относительно идеализма и реализма у самого Канта в Критике и Пролегоменах. В Предисловии к 2-му изданию Критики он говорит от том, что мы можем познавать предмет не как вещь саму по себе, а лишь как явление (см. [1. BXXVI]). Вслед за этим он постулирует реалистический характер нашего познания, говоря о том, что «явление [не] существует без того, что является» [1. BXXVII]. А далее Кант подчеркивает, что в явлении объекты и даже свойства, которые мы им приписываем, всегда рассматриваются как нечто действительно данное и «если бы я превратил в простую видимость то, что я должен причислить к явлениям, то это было бы моей виной» [1. B69—70]. В сноске к этому фрагменту Кант поясняет, что «предикаты явления могут приписываться самому объекту, если речь идет об отношении к нашему чувству…; но видимость никогда не может быть приписана предмету как предикат…» [1. B70].
В четвертом паралогизме [1. А367—380], Кант именует свой проект метафизики трансцендентальным идеализмом, под которым он понимает концепцию о том, что все явления суть только представления, а не вещи в себе и что сообразно этому пространство и время суть лишь чувственные формы нашего созерцания, а не данные сами по себе определения (см. [1. А369])[12]. В [1. B519] 2-го издания Критики Кант добавляет два важных пояснения. В одном из них он подчеркивает, что его трансцендентализм не отрицает реальное «существование самих внешних вещей», т.е. является реализмом, а в другом противопоставляет свой трансцендентальный идеализм «содержательному, т.е. обыкновенному идеализму». Дело в том, что в тексте Критики сосуществуют два типа дискурса: эмпирический и трансцендентальный, характеристики которых не совпадают и даже противоречат друг другу (о чем настойчиво пишет Г. Бёрд [17]). Наиболее показательным случаем этой двойственности выступает кантовское различение предметов (=вещей самих по себе и предметов опыта (=явлений). Обычные вещи с эмпирической точки зрения реально существуют (и Кант не сомневается в их существовании), но в трансцендентальной перспективе они характеризуются уже не как сами вещи, а как их явления. Учитывая эти концептуальные несовпадения в эмпирической и трансцендентальной перспективах, кантовский трансцендентальный идеализм никаким обычным идеализмом (в эмпирической перспективе) не является (ср. с фрагментом [1. А370, А371], где Кант соотносит свой трансцендентальный идеализм с эмпирическим реализмом). А собственно идеализмом является, по Канту, трансцендентальный реализм, который «превращает… модификации нашей чувственности в вещи, существующие сами по себе» [1. А491/B519] и «рассматривающий пространство и время как нечто данное само по себе» [1. А369].
Еще один аргумент можно найти у Г. Эллисона. Он обращается к фрагменту [1. B81], где Кант говорит о том, что применение пространства (и времени), поскольку оно ограничивается лишь предметами опыта является лишь эмпирическим, и подчеркивает, что трансцендентальный реалист неправомерно расширяет применение пространства и времени на сферу вещей вообще, а то время как как трансцендентальный идеалист ограничивает их применение лишь сферой опыта [18. P. 23]. Принципиальным здесь выступает то, что Кантов трансцендентализм не расширяет область возможного опыта за счет введения ноуменальных сущностей (типа лейбницевских монад), а лишь перераспределяет области содержательно-апостериорного и формально-априорного в познании, относя пространство и время к области априорного.
При этом Кант постулирует лишь априорный [не—опытный], а не идеальный характер наших форм познания, не отрицая при этом реального существования предметов. Вследствие этого кантовский трансцендентальный идеализм совместим, как мы уже сказали выше, с «эмпирическим реализмом» [1. А370, А371].
Отвечая на обвинения его в идеализме и сближении его концепции с феноменализмом Беркли из геттингенской рецензии, Кант пишет специальное приложении к Пролегоменам, где отвергает эти обвинения, а во 2-м издании Критики добавляет специальную главу «Опровержение идеализма» [1. B274— B279], само название которой говорит в пользу его реализма[13].
Поэтому точнее именовать трансцендентализм не трансцендентальным идеализмом, а априоризмом или априорно-трансцендентальной формой реализма [16]. При этом кантовские априорные формы могут трактоваться «натуралистическим» образом и иметь культурно-исторический или лингвистический характер[14]. Таким образом, трансцендентальный идеализм является ни объективным (Лейбниц) или субъективным (Беркли) идеализмом, а выступает рефлексивной надстройкой над эмпирическим реализмом.
2. Идеализм Канта часто связывают с его «коперниканским переворотом», о котором он говорит в своем Предисловии к 2-му изданию Критики. Однако здесь надо иметь в виду, что Кант использует выражение «коперниканский переворот» лишь как аналогию, и поэтому если в астрономическом коперниканском перевороте происходит полное «переворачивание» исходной ситуации видимого движения Солнца по небосклону, то в случае кантовского «коперниканского переворота» не происходит полного «переворота» в смысле отказа от реализма. В данном случае есть лишь отказ от наивного реализма, не учитывающего наличие априорного компонента в нашем познании. Кант не полностью «подчиняет» предметы априорным представлениям чувственности и рассудка, а делает это лишь по отношению к предметам опыта, на которые воздействуют, аффицируя нашу чувственность, вещи сами по себе. Это воздействие, т.е. постулирование наличия вещей—самих по себе, и определяет реалистический характер трансцендентализма, который Кант развивает в своей концепции двойного аффицирования. Так, например, при восприятии стула, наша априорная форма пространства (как расселовские пространственные «очки») предопределяет его восприятие в качестве трехмерного пространственного тела. Но его конкретные содержательные характеристики, в частности то, что перед нами находится матовый металлический стул, высотой 0.5 метра даются опытным путем. Это говорит о том, что в нашем познании наряду с эмпирической присутствует и ноуменальная причинность, а в нашем знании сращены априорная и апостериорная составляющие.
Таким образом, кантовский «коперниканский переворот» не отменяет эмпирический вектор соответствия «от предмета к представлению» (эмпирический реализм), решающая роль в котором принадлежит вещи—самой—по—себе, аффицирующей нашу чувственность. Вместе с тем Кант постулирует и ноуменальный вектор «от представлений к предмету» (трансцендентальный идеализм), трансцендентальным условием которого является трансцендентальное единство апперцепции[15]. В акте познания наличествуют как опытные, так и априорные компоненты, а кантовский коперниканский переворот представляет собой синтез базового эмпирического реализма и мета—уровневого трансцендентального идеализма (подробнее о коперниканском перевороте см. наши работы [19, 20]).
3. Обратимся теперь к трансцендентальной триаде «предмет (вещь-сама-по-себе) — явление — представление», в которой онтологический статус явления явление отличается как от предмета, так и представления. Заметим, что в случае отождествления явления с вещью самой по себе мы возвращаемся к докантовскому наивному реализму, а в случае отождествления явление с представлением мы сближаем кантовский трансцендентализм с феноменализмом Беркли (что происходит, например, в теории «двух миров»). В любом из таких отождествлений трансцендентальная триада превращается в диаду с«предмет vs. представление», что нивелирует суть трансцендентализма.
Кантовский концепт явления, наряду с вещью самой по себе, является одним из ключевых для ТФ, и как пишет в этой связи Г. Эллисон, трактовка трансцендентализма во многом зависит от того, как понимается кантовское явление [18. P. 21]. Однако онтологический статус явления у Канта остается неопределенным и существует концептуальный разброс в трактовках данного термина (resp. трансцендентализма в целом), противоположными полюсами которых на современном этапе выступают его интерпретации как «двух миров» и «двух аспектов». В первой из них явление смещается в сторону представления (и даже отождествляется с ним: «явления… могут существовать только в нас» [1. B59] (ср. с [1. A371—2]). В теории «двух аспектов» явление, которое мыслится как один из аспектов предмета, не отрывается от предмета, выступая его про-явлением: «явление НЕ существует без того, что через него является» (парафраз [1. В XXVI—VII]).
Такое понимание явления выступает основой для реалистических трактовок кантовского трансцендентализма. Как мы уже сказали выше, явление нельзя отождествлять ни с субъективным представлением, ни с объективным предметом: оно представляет собой некую промежуточную объективированную сущность, имеющую интер-субъективный статус (подробнее см. наши работы [21, 22]). Более того, если опереться на фрагмент [1. B235], то явление не является объектом, «а только обозначает какой-нибудь объект», т.е. явление является знаком объекта. Для пояснения статуса явления приведем аналогию с телескопом: явление как изображение звезды на линзе телескопа имеет промежуточный статус по сравнению как с реальной звездой-самойпо-себе (=кантовская вещь сама по себе), так и ее ментальным образом (=кантовское представление).
Тем самым, несмотря на некоторую амбивалентность употребления Кантом термина явления (подробнее об этом см. [23]), его концептуальный смысл состоит в том, что явления — это предметы опыта, т.е. обычные окружающие нас, находящиеся в пространстве вещи. Такие объективированные трансцендентальные явления (явления-1) надо отличать от эмпирических явлений (явление-2) как ментальных представлений, полученных посредством синтеза схватывания (образов предметов). Терминологически, если ментальные явления-2 — это ре—презентации предметов, то объективированные явления-1 — это презентации предметов, или эмпирических вещей самих по себе.
Различный онтологический статус явлений-1 и явлений-2 проясняется, если мы обратим внимание на трактовку предлога «в». При обсуждении специфики ТФ в Четвертом паралогизме Кант прибегает к анализу использования предлога «вне (нас)» [1. А373].
Вместе с тем Кант совершенно некритично использует дуальное для него выражение «в/внутри нас» [1. А373]. Здесь нужно провести анализ выражения «явление как представление в нас/в душé».
Заметим, что выражение «в душé», если принять во внимание пространственный смысл предлога «в», метафорично и несколько неточно: представления не наличествуют в нашей душé как вещи в коробке. Кроме того, если традиционно выражение «в душé» указывает на область ментального, то трактовка Кантом пространства и времени в качестве априорных форм предполагает отнесение предлога «в» уже к нашей чувственности. А это не то же самое, что находится «в душé», поскольку чувственность ‘физиологична’ и относится уже, скорее, не к душе, а к телу. Более того, как отмечает Кант во фрагменте [1. A375], явления находятся не «в душé» как ментальные представления, а в пространстве как предметы опыта (тела).
Наконец, поскольку область представлений расширяется Кантом за счет априорных форм, то это предполагает переход от эмпирического (индивидуального) сознания к трансцендентальному «сознанию вообще» [7. C. 57, 63], которое, в отличие от субъективного индивидуального сознания, точнее характеризовать как область трансили интерсубъективного (ср. с «третьим миром» К. Попера). Тем самым трансц-ендентальный анализ предлогов «в/вне» позволяет заменить эмпирическую диаду «вне — внутри» на трансцендентальную триаду: «внетранс — {внеэмп = внутритранс} — внутриэмп», среднюю часть которой можно соотнести с областью трансцендентальных объективированных явлений-1, которые находятся «в/внутри» нас лишь трансцендентально, а эмпирически «вне» нас.
4. Наш следующий аргумент связан с различием языка/теории являющегося [theory of appearing] и языка/теории явлений [theory of appearance], которое развивается в статье С. Баркер [21]. Суть этого различения состоит в том, что глаголы чувственного восприятия (воспринимать, чувствовать, интуитивно схватывать (intuit), видеть, слышать) могут трактоваться двояко: либо как указание на реально существующие предметы (восприятие чего-то; в этом случае это будет теория являющегося (theory of appearing)), либо как на наши субъективные состояния, связанные с восприятием предметов (явление как представление (theory of appearance)). Разницу между этими описаниями можно пояснить так. Если нам дана, например, фотография девушки, то наша познавательная интенция (в рамках теории являющегося) направлена не на фотографию (= кантовское представление), а на изображенный на ней предмет — девушку (= кантовское явление), соответственно явление определяется Кантом как «неопределенный [до его определения рассудочными понятиями] предмет эмпирической интуиции/созерцания» ([1. B 34]; ссылка моя. — С.К.). Соответственно, в явление это не представление (=явление-2), а предмет представлений (=явление-1; сама девушка), хотя мы часто называем представление именем предмета [представления]: например, в выражении «мы видим стол», слово «стол» отсылает к нашему представлению (о столе), и к являющемуся нам предмету этого представления. В Критике (как отмечает С. Баркер) Кант использует оба этих языка, считая их взаимозаменяемыми, и поэтому совершает в Критике не совсем законный переход от «вещей как являющихся» (thing as appearing) к их «явлениям» (appearance) [24. P. 433(74)], что и приводит к трактовкам явлений как самостоятельных сущностей (= представлений) и, соответственно, к субъективно-идеалистическим трактовкам трансцендентализма. Но если рассматривать явления (appearance) не как представления, а как являющиеся вещи (appearing), т.е. понимать под явлением предмет (референт) представлений, то кантовский трансцендентализм будет выступать реалистической теорией.
5. Последний из наших аргументов в пользу реализма Канта восходит к реалистической трактовке трансцендентализма Л. Эллайс, которая в [14] подчеркивает определяющую роль интуиции в кантовской теории познания. В известной классификации представлений [1. B377] Кант выделяет субъективные и объективные перцепции, к первым из которых он относит ощущения (лат. sensation; нем. Empfindung) как модификации состояния субъекта, а ко второй — интуиции (лат. intuitus; нем. Anschauung)[16]. Эллайс подчеркивает принципиальное отличие «объективных» интуиций от «субъективных» ощущений. Кантовская интуиция является дающей способностью, которая обеспечивает доступ нашего сознания к самим предметам и тем самым интуиция дает нам объективное знание о предметах, или, как выражается Эллайс в названии своей книги, к «являющейся реальности» (manifest reality)17. Тем самым интуиция отсылает нас от представления к его предмету как референту данного представления (ср. с пониманием явления как знака из [1. B235]; см. также [1. А104—109]), т.е. интуиция играет в познании референциальную роль.
В заключении сделаем еще один ход, вытекающий из наших рассуждений об интуиции, но не получивший развитие у самого Канта. Можно заметить, что кантовская концепция интуиции не является универсальной, так как она формулируется Кантом лишь для высших животных, обладающих психикой. В этом случае интуиция (интуиция-1) как бы встроена в психику или нашу «представительную способность» [1. B33—34] и поэтому материей кантовского явления выступает ощущение (хотя сам Кант в фрагменте [1. B 34] выражается более аккуратно, говоря о том, что материей явления выступает не само ощущение, а то, что ему «соответствует», т.е. его аналог). Но как быть с низшими «животными» (живыми существами), которые так же интуитивно воспринимают мир, пусть и не посредством «органов чувств» высших животных. Есть у них «дающая» способность, т.е. аналог кантовской интуиции? Очевидно, что «да»: например, амеба интуитивно «воспринимает» свет, двигаясь к нему или от него, хотя, понятно, что у нее нет органа зрительных ощущений — глаза, и нет «распознающего органа» — рассудка, который приписал бы соответствующее имя (понятие) данному восприятию18. Поэтому если у Канта интуиция (интуиция-1) и ощущение выступает взаимосвязанными компонентами одноконтурной познавательной цепи «интуиция — ощущение», характерной для психики высших животных (в том числе и человека): в эмпирическом познании интуиции относятся к предмету посредством ощущения [1. B34], — то «интуицию» низших животных (интуиция-2) можно трактовать как автономную (от ощущений), «дающую» познавательную способность, которая, поскольку здесь нет субъективных ощущений (см. [1. B377]), обеспечивает объективность подобного «познания» (ср. с [25])19. Причем в этом случае интуиция-2 «дает» непосредственный (объективный) доступ к самим вещам, хотя очевидно, что на подобном «низком» уровне восприятия мир не воспринимается нами через «очки» априорных форм чувственности и понятийные «очки» рассудка. Сходное с А. Уайтхедом понимание интуиции как «дающей», гарантирующей объективность нашего познания, можно найти у Э. Гуссерля, который различает интуицию (созерцание) и ощущение вещи (см. [27. P. 182—185, 358]), хотя сам Гуссерль эту тему не развивает, но позже (уже в качестве когнитивного механизма познания) данная тема интуиции развивается Дж. Гиббсоном в его концепции экологического восприятия [28]20. Тем самым такая интуиция (интуиция-2) дает доступ к самим вещам (ср. с максимой Э. Гуссерля «Назад к самим вещам!») и, тем самым, обеспечивает объективный характер нашего познания (resp. реалистический характер концепции познания).
Заключение
В истории кантоведения можно выделить несколько периодов интерпретации кантовского трансцендентализма. Последнее «(пере-)открытие Канта» происходит в 60-е гг. ХХ в. в рамках аналитической философской традиции (П. Стросон, Г. Бёрд, У. Селларс, Г. Эллисон, К. Америкс, Л. Эллайс). В основе современной реалистической интерпретации Канта лежит пришедшая на смену теории «двух миров» теория «двух аспектов», которая предопределяет реалистическую трактовку кантовского трансцендентализма. Соответственно, кантовский трансцендентализм понимается здесь как метафизика возможного опыта (resp. дескриптивная метафизика (Стросон)). Как нам представляется, такая трактовка обладает большим потенциалом и представляет собой перспективное направление исследования в современном кантоведении.
1 Далее указание на страницы кантовской «Критики чистого разума» [1] будем давать в стандартной международной пагинации A/B.
2В Пролегоменах Кант замечает, что трансцендентальная метафизика относится к обычной школьной метафизике точно так же, как химия к алхимии или астрономия к астрологии [7. C. 134].
3 «Продумывая теоретическую часть… я заметил, что мне не хватает еще кое-чего существенного, что… составляет ключ ко всей тайне метафизики… Я поставил перед собой вопрос: на чем основывается отношение того, что мы называем представлением в нас, к предмету?» [8. C. 487].
4 Этим указанием на «предмет вообще» Кант задает первый онтологический модус трансцендентальной философии, который восходит к лейбницевской онтологии как учению о возможном предмете, при том, что между возможным предметом Лейбница и предметом вообще (Gegenstande überhaupt) Канта есть существенные различия: концепт предмета вообще располагается выше по онтологической шкале, чем концепт возможного предмета (см. [1. A290/В346]; подробнее об этом см. Metaphysik Mrongovius [9. P. 811].
5 Н. Хинске фиксирует это как «долгое расставание Канта с онтологией» [10].
6 В своей Диссертации 1770 г. Кант приводит следующий список категорий: возможность, бытие, необходимость, субстанция, причина и др. [11. C. 289].
7 См.: «Трансцендентальным (т.е. касающимся возможности или применения априорного познания) следует называть не всякое априорное знание… а только знание о том, (1) что [почему] те или иные представления вообще не имеют эмпирического происхождения, и о том, (2) каким образом [как это возможно (?), что] эти представления… могут применяться в познании, т.е. a priori относиться к предметам опыта» ([1. В 80—81], реконструкции фр. и вставки — С.К.)
8 Ср. с кантовским введением к «Трансцендентальной аналитике» под названием «Аналитика понятий», где он определяет «настоящую задачу трансцендентальной философии» [1. В 90—91]. Там Кант пишет, что под аналитикой понятий он понимает «изучение возможности априорных понятий, отыскивая их исключительно в рассудке как месте их происхождения и анализируя чистое применение [рассудка] вообще» [1. В 90—91].
9 Обратим внимание на используемый здесь термин предмет опыта и его противопоставление предмету. Первые Кант соотносит с явлениями, а вторые — с вещами самими по себе. Различение вещей самих по себе и явлений является краеугольным для кантовского
трансцендентализма.
10 Третья когнитологическая аксиома состоит в том, что в нашем познании задействованы два основных ствола (познавательных способности), а именно чувственность и рассудок [1. B29], но этот аспект трансцендентализма здесь мы обсуждать не будем.
11 Существуют также позиции умеренного трансцендентализма, когда аксиомы 1 и 2 принимаются, но в ослабленном виде.
12 Эта дефиниция повторяется в главе «Трансцендентальный идеализм как ключ к разрешению космологической диалектики» Критики [А491]. А во 2-м издании Кант добавляет к ней поясняющую сноску: «Иногда я называл это учение также формальным идеализмом, чтобы отличить его от содержательного, т.е. обыкновенного, идеализма, который сомневается в существовании самих внешних вещей или отрицает его» [B519].
13 Заметим, что кантовское «Опровержение идеализма» уже имплицитно присутствует в «четвертом паралогизме» 1-го издания Критики [1. А373—А377]. Вместе с тем Кант обращается к теме «опровержения идеализма» в своих более поздних текстах: см., например, его уточнение в 2-м Предисловии [1. XXXIX] и черновых материалах (Рефлексиях R5653—5, R6311—R6319, R6323).
14 В данном случае мы указываем на восходящую к неокантианству и развиваемую в последующем позитивизме (пост-позитивизме) и аналитической философии, натуралистическую трактовку кантовского априоризма/трансцендентализма, когда происхождение априорных форм объясняется или историко-культурными факторами (ср. с онтологическими обязательствами У. Куайна, «символическим пространством» Э. Кассирера, концепцией парадигм Т. Куна, концепцией эпистем («историческое априори») М. Фуко) или лингвистическими факторами («лингвистическое априори» Ч. Пирса, Л. Витгенштейна, К.-О. Апеля; концепция «языковых каркасов» Р. Карнапа, «концептуальная схема» Д. Дэвидсона). В этом случае априорное относится к срединной, между объективным и субъективным, интерсубъективной области культуры, «третьему миру» К. Поппера.
15 В этом состоит суть концепции двойного аффицирования (resp. ноуменальной причинности): эмпирической детерминации явления посредством воздействия вещи самой по себе на чувственность и «интеллигибельной причине явлений» [1. В522], каковой выступает трансцендентальный предмет (подробнее см. [16]).
16 Термин Anschauung стандартно переводится на русский как созерцание. Но мы, опираясь на латинский эквивалент данного термина из [1. В377], в своих работах переводим термин Anschauung как интуиция.
17 Ср. с теорией являющегося из предшествующего аргумента п. 4.
18 См. по этому поводу интересную работу Т. Бёрджа «Происхождение объективности» [25], в которой описываются механизмы восприятия (интуиции) низших животных.
19 Упомянем в этой связи созвучную нашей трактовке интуиции работу А. Уайтхеда «Символизм, его смысл и воздействие» (1927) [26], в которой он развивает концепцию двухконтурной схемы познания: контур «прямого» восприятие внешнего мира (аналог кантовской интуиции) и контур психического восприятия чувственных качеств посредством наших органов чувств [26. C. 17, 25, 34], — которые связаны друг с другом посредством «символического отношения».
20 Концепцию низкоуровневой «дающей» интуиции как возможном способе объективного познания, мы, вслед за Гуссерлем — Уайтхедом — Гиббсоном, развиваем в работе [29].
Об авторах
Сергей Леонидович Катречко
Государственный академический гуманитарный университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: skatrechko@gmail.com
ORCID iD: 0000-0002-2884-7719
кандидат философских наук, доцент, философский факультет, Государственный академический университет гуманитарных наук; главный редактор «Трансцендентального журнала»; президент фонда «Центр гуманитарных исследований»
Российская Федерация, 119049, Москва, Мароновский переулок, д. 26Список литературы
- Кант И. Критика чистого разума // Сочинения на русском и немецком языках. T. 2. Ч. 1., Ч. 2. М. : Наука, 1994-2006.
- Höffe O. Kant's Critique of Pure Reason: the Foundation of Modern Philosophy. Dordrecht : Springer, 2010.
- Фуко М. Порядок дискурса // Воля к истине. М. : Касталь, 1996.
- Strawson P.F. The Bounds of Sense: An Essay on Kant's Critique of Pure Reason. London and New York : Routledge, 1966.
- Allison H. Kant’s Transcendental Idealism: An Interpretation and Defense. New Haven and London : Yale University Press, Revised and Enlarged Edition, 2004.
- Катречко С.Л. Кантовская «идея [проект] трансцендентальной философии» // Трансцендентальный журнал. 2020. Т. 1. № 1. Режим доступа: https://transcendental.su/S123456780008967-4-1 (дата обращения: 15.04.2023). https://doi.org/10.18254/S271326680008967-4
- Кант И. Пролегомены ко всякой будущей метафизике, которая может появиться как наука // Соч. в 8-ми т. Т. 4. М. : Чоро, 1994.
- Кант И. Письма // Соч. в 8 т. Т. 8. М. : Чоро, 1994.
- Kant I. Kants Gesammelte Schriften. Akademie Ausgabe. Vol. 29. Berlin : G. Reimer [later W. de Gruyter], 1900ff.
- Кант И. О форме и принципах чувственно воспринимаемого и интеллигибельного мира // Соч. в 8 т. Т. 2. М. : Чоро, 1994.
- Хинске Н. Онтология или аналитика рассудка? Долгое расставание Канта с онтологией // Историко-философский ежегодник. 2011. М. : Канон+, 2012.
- Стросон П.Ф. Индивиды. Очерк дескриптивной метафизики. Калининград : Изд-во РГУ им. И. Канта, 2009.
- Paton H.J. Kant’s metaphysic of experience. London : Methuen and Co, 1936.
- Allais L. Manifest Reality: Kant’s Idealism and His Realism. Oxford : Oxford University Press, 2015.
- Ameriks K. Kant's idealism on a moderate interpretation // Kant’s Idealism: New Interpretations of a Controversial Doctrine / B. Shulting, J. Verburgt, editors. Dordrecht : Springer, 2011. P. 29-53.
- Катречко С.Л. Является ли кантовский трансцендентализм идеализмом? Концептуальный реализм Канта // Трансцендентальный журнал. 2021. Т. 2. № 1. Режим доступа: https://transcendental.su/s271326680016082-0-1/ (дата обращения: 20.04.2023). https://doi.org/10.18254/S271326680016082-0
- Bird G. The Revolutionary Kant: A Commentary on the Critique of Pure Reason. Chicago and La Salle : Open Court, 2006.
- Allison H.E. From Transcendental Realism to Transcendental Idealism. The Nature and Significance of Kant’s ‘Transcendental Turn’ // Gardner S., Grist M., editors. The Transcendental Turn. Oxford : Oxford University Press Uk, 2015. P. 20-34.
- Катречко С.Л. Кантовский коперниканский переворот: синтез эмпирического реализма и трансцендентального идеализма // Вопросы философии. 2022. № 6. С. 131-141. https://doi.org/10.21146/0042-8744-2022-6-131-141
- Катречко С.Л. Кантовский «измененный [трансцендентальный] метод мышления» в метафизике // Трансцендентальный журнал. 2022. Т. 3. № 1-2. Режим доступа: https://transcendental.su/s271326680020991-0-1/ (дата обращения: 21.04.2023). https://doi.org/10.18254/S271326680020991-0
- Barker S.F. Appearing and appearances in Kant // The Monist. 1967. Vol. 51. N 3. P. 426-441. https://doi.org/10.5840/monist196751326
- Катречко С.Л. Природа явления в трансцендентализме Канта: семантикокогнитивный анализ // Кантовский сборник. 2018. Т. 37. № 3. C. 31-55. https://doi.org/10.5922/0207-6918-2018-3-2
- Katrechko S.L. Kant’s Appearance as an Objective-Objectual Representation // Con-Textos Kantianos. 2018. № 7. P. 44-59. Режим доступа: https://zenodo.org/record/1298600 (дата обращения: 22.04.2023).
- Katrechko S.L. The Ambivalent Character of the Kantian Notion of the Appearance: Objective-Objectual (‘gegenständlich’) Nature of the Appearances as “Objects of Experience” // Serck-Hanssen C., editor. Proceedings of the 13th International Kant Congress ‘The Court of Reason’. Vol. 1. Berlin/Boston : Walter de Gruyter, 2021. P. 319-328.
- Burge Т. Origins of Objectivity. Oxford : Oxford University Press, 2010.
- Уайтхед А. Символизм, его смысл и воздействие. Томск : Водолей, 1999.
- Гуссерль Эд. Собрание сочинений. Т. 3 (1). Логические исследования. Т. II (1) / пер. с нем. В. Молчанова. М. : Гнозис, Дом интеллектуальной книги, 2001.
- Гибсон Дж. Экологический подход к зрительному восприятию. М. : Прогресс, 1988.
- Катречко С.Л. Познаваемы ли вещи сами по себе (Кант vs. Гуссерль)? Проблема объективности познания // Трансцендентальный поворот в современной философии (5): трансцендентальная метафизика, феноменология, эпистемология, трансцендентальная философия науки и теория сознания, эстетика: материалы ежегодного международного научного семинара «Трансцендентальный поворот в современной философии -5» / под ред. С.Л. Катречко. М. : Изд-во ГАУГН-Пресс, 2020. С. 5-14.