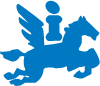Булгаковский код пушкинианы Александра Галича
- Авторы: Александрова М.А.1
-
Учреждения:
- Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова
- Выпуск: Том 30, № 4 (2025): ПУШКИН В СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
- Страницы: 760-770
- Раздел: Литературоведение
- URL: https://journals.rudn.ru/literary-criticism/article/view/47796
- DOI: https://doi.org/10.22363/2312-9220-2025-30-4-760-770
- EDN: https://elibrary.ru/PVDMCF
- ID: 47796
Цитировать
Аннотация
Цель - описание способов трансформации булгаковских смыслов, заложенных в отсылках А. Галича к личности и творчеству А.С. Пушкина. Булгаковский код произведений, так или иначе соотнесенных в творчестве А. Галича с А.С. Пушкиным, до сих пор не становился предметом специального литературоведческого исследования. Прослежены способы вхождения разновременных булгаковских впечатлений Галича в произведения зрелого периода (автобиографическую повесть «Генеральная репетиция», стихотворения «Занялись пожары», «Опыт отчаяния», «Опыт ностальгии»). Проанализировано концептуальное значение реминисценций из булгаковской пьесы о Пушкине, романа «Мастер и Маргарита», а также кодирующая функция цитаты из ахматовской эпитафии Булгакову. Особое внимание уделено отклику Галича на коллизию, воплощенную в образе Мастера. Доказано, что если Булгаков наделил романного двойника своим творческим максимализмом и своей человеческой слабостью, то Галич перенес внимание с обстоятельств непреодолимой силы на личное несовершенство; усугублению чувства вины служит апелляция к идеальной судьбе - пушкинской. В результате исследования сделаны следующие выводы: актуализация пушкинского мифа в творчестве Галича определяется убеждением в неповторимости идеального пути поэта, при этом пушкинский инвариант воспринимается как категорический императив; прочитывая собственную судьбу по булгаковскому коду, Галич обретал возможность подняться над эмпирикой и, трактуя пережитое универсальным образом, снова и снова восстанавливать связь с олицетворенным в Пушкине идеалом; в рецепции Галича булгаковская «нераздельность-неслиянность» мифа пушкинского и мифа евангельского оказалась творчески продуктивным противоречием.
Ключевые слова
Полный текст
Введение
Подлинно творческая актуализация пушкинского мифа в ХХ ст. неизбежно сопрягала образ поэта поэтов с драмами и трагедиями современности. В особом положении оказывались художники, для которых «мифологизированный „пушкинский текст“» (собственно тексты, биографические сюжеты, топосы) становился «измерителем» персонального мифа (Шатин, 2000, с. 235–236). Подобная мифотворческая установка дерзновенна по определению, даже при условии соблюдения сакральной дистанции. Вполне это сознавая, Галич избегал и символических жестов в духе блоковского дай нам руку в непогоду, и таких традиционных приемов, как «разговор с памятником» или визионерская «встреча» с живым поэтом. Внимание к опыту Булгакова, чей диалог с Пушкиным определяли не менее строгие самоограничения, было для Галича закономерным.
Рецепция пушкинианы Булгакова выразилась целой системой реминисценций и (что особенно важно) кодированием позиции лирического героя Галича отсылками к образу Мастера – фигуре заведомо негероической, но соотнесенной призванием говорить правду с Иешуа и Пушкиным. Таким образом, нам предстоит осмыслить высказывания Галича о принципиальных основах своего творческого поведения.
Булгаковский Пушкин vs «наш Пушкин» в контексте ранних впечатлений Галича
Редакционная статья газеты «Правда» 10 февраля 1937 г. воспроизвела тезисы книги В.Я. Кирпотина «Наследие Пушкина и коммунизм» (1936), чем «окончательно определила место Пушкина в советской иерархии» (Дружинин, 2012, с. 233): «Пушкин целиком наш, советский, ибо советская власть унаследовала все, что есть лучшего в нашем народе, и сама она есть осуществление лучших чаяний народных». Советизация классика потребовала борьбы с его «фальсификаторами». «Покушение на Пушкина», «В защиту Пушкина» – типичные заглавия погромных статей. «Из Пушкина, бедного свободолюбца, – констатировала О.М. Фрейденберг в 1949 г., – сделали государственно-полицейское пугало» (Дружинин, 2012, с. 118).
Изнанка государственного пушкинизма открывалась в полуофициальном жанре «доверительной беседы». Накануне очередной юбилейной даты (в апреле 1949 г.) крупный литературный чиновник втолковывал подопечным, «у кого должен современный поэт черпать свое вдохновение, с кого брать пример»: «Пушкин очень многогранен, и еще надо рассмотреть, что нам подходит и что нет»[1] (Шапорина, 2011, с. 124). Подобное мог слышать в 1940 гг. и Галич, принятый в Союз советских писателей много позже, но бывавший на писательских собраниях. Наконец, всем были известны мрачные анекдоты на тему «если бы Пушкин жил в наше время».
Грандиозный по затратам «юбилей смерти» не оправдал расчета на появление великой, конгениальной классику советской пушкинианы (Платт, 2017, с. 210). Творческую несостоятельность служителей официального культа подтвердило празднование 150-летия со дня рождения Пушкина. Тем ярче выделялась на общем фоне неопубликованная пьеса Булгакова «Александр Пушкин», легализованная МХАТом под названием «Последние дни» (1943). Галич наверняка видел спектакль и в премьерный сезон (поскольку весной 1943 г. вместе с фронтовой труппой вернулся в Москву), и позднее, когда охранительные меры властей лишь усилили зрительский интерес к единственной на всю страну постановке: театру (сетовала Е.С. Булгакова в 1946 г.) запрещалось играть «Последние дни» чаще двух-трех раз в месяц.
Для реконструкции ранних впечатлений Галича необходимо напомнить об умении Булгакова ставить на службу собственному замыслу «общие места» предшествующей и современной литературы (Петровский, 2008, с. 194). Такова коллизия «Пушкин и самодержец», внешним образом отвечавшая советской модели, но выражавшая конфликт универсальный: «История последних дней поэта в пьесе Булгакова непрерывно подсвечивается легендой о последних днях Христа» (Петровский, 2008, с. 157), что достигнуто целым рядом параллелей с евангельским рассказом и цитированием стихотворения «Мирская власть», организующим «драматический центр» сюжета (Петровский, 2008, с. 157). Масштаб обобщения усиливал злободневность звучания.
Разумеется, булгаковская концепция была доступна восприятию молодой театральной аудитории, включая Галича, не во всем смысловом объеме: сказывалось как отлучение первого советского поколения от Библии (позднее будет сказано: «Всё путаем Ветхий и Новый Завет…»[2]), так и целенаправленное воспитание публики на исторических аллегориях, исключавших свободные ассоциации. Тем не менее еретическая многозначность творения Булгакова стала фактом культуры. Проведенная на сцену в обстоятельствах временных цензурных послаблений, пьеса о гибели Пушкина неизбежно вступала в резонанс с памятью о жертвах тридцатых годов и с трагедиями послевоенного мрачного семилетия.
Встреча с булгаковским Пушкиным пришлась на время выхода Галича из той искусственной изоляции от реальности, какой была сначала учеба в Оперно-драматической студии К.С. Станиславского («Сокрушительные события этих страшных лет не имели, казалось, к нам, студийцам, ни малейшего отношения»[3]), затем работа в экспериментальной студии А. Арбузова и В. Плучека («…мы только думали, что живем современностью, <…> мы ее конструировали» (1974, с. 79)). Гражданская казнь Анны Ахматовой в первый послевоенный год уже не могла восприниматься отвлеченно; ведь совсем недавно (в 1942 г.) Саша Гинзбург был представлен великой современнице, читал ей свои стихи, принятые благосклонно и вызвавшие ответный жест доверия: «Послушав мальчика, она <…> стала читать ему „Поэму без героя“» (Чуковская, 1997, с. 422–423). С актером и режиссером С. Михоэлсом, с поэтом П. Маркишем Галич виделся накануне расправы над ними, впервые ощутив личную причастность трагедии (1974, с. 173–174). Эти переживания будили исторические «рифмы», что позднее, в шестидесятые годы, послужит формированию трагического мифа о художнике.
Список жертв кампании против «безродных космополитов» вполне мог пополнить и Галич; символично, что одну из его комедий клеймил за безыдейность и «эстетство» тот самый наставник писателей (см.: Аронов, 2012, с. 71–72), которому был подозрителен Пушкин. Именно тогда Галич сделал первый ответственный творческий шаг – «написал лучшую свою пьесу „Матросская тишина“ и, не в силах поставить ее на сцене, стал читать по домам», что по тем временам было «опаснее вольнолюбивой гитары поры оттепели и застоя» (Нагибин, 1996, с. 593). Признавая впоследствии идеологическую наивность этой вещи, Галич считал ее важным жизненным этапом: то был некий опыт готовности оправдать слово – судьбой. Сущность раннего испытания выражена названием автобиографической повести, завершенной перед эмиграцией: «Генеральная репетиция».
Образ Пушкина в «Генеральной репетиции»: «булгаковский» ракурс
Жизненный путь, возвысивший Галича до большого поэта и советского изгоя, размечен в повести прежде всего пушкинскими вехами, тогда как булгаковские впечатления чаще предстают растворенными в культурном опыте. Наряду с прямыми отсылками к «Театральному роману», сопровождающими воспоминания о Станиславском, возникают содержательно-стилевые отзвуки «Мастера и Маргариты», которые вряд ли были отрефлексированы. Так, Лия Канторович, красавица с Патриарших прудов, загадочно взрослая ровесница инфантильного Я-персонажа – образ, функционально соединяющий Маргариту в статусе требовательной музы и Мастера в роли судьи мертворожденного слова[4]. Одинокая среди экзальтированной публики спектакля «Город на заре», «неправдоподобно красивая и грустная», Лия отрезвляет Сашу Гинзбурга истинно булгаковским жестом: «Мне не понравилось, как ты играешь! <…> Как ты можешь – такое играть?!» (1974, с. 181).
Выстраивая пушкинский пласт «Генеральной репетиции», Галич исподволь проводит мысль о направляющей руке судьбы. Сообщая, как «всю жизнь почему-то чрезвычайно гордился <…> случайным совпадением» даты своего рождения с днем открытия Царскосельского лицея (1974, с. 83), он самим жестом недоумения делает случайность многозначительной. Та же интенция проступает в рассказе о доме детства – московском особняке Веневитинова, где 12 октября 1826 г. Пушкин читал «Бориса Годунова». Хранимая историческим местом память ожила 24 октября (по новому стилю) 1926 г., когда в честь столетия пушкинского чтения брат отца Л.С. Гинзбург устроил вместе с коллегами-пушкинистами литературно-театральный праздник: «Дом ожидал чуда – и все это понимали, а я, как мне казалось, понимал с особенной страстной отчетливостью» (1974, с. 65). Образ воспоминания несет такую эмоциональную энергию, что неизбежно становится предвосхищением не только детских, но и позднейших жизненных открытий; фактически это ретроспективное пророчество – акт осознания судьбы, которому созвучен кульминационный монолог: «У моей России вывороченные негритянские губы, синие ногти и курчавые волосы – и от этой России меня отлучить нельзя, никакая сила не может заставить меня с нею расстаться» (1974, с. 194).
Безыменный лик – единственный в творчестве Галича портрет Пушкина. Даже в цикле «Александрийские песни», посвященном трем Александрам – Полежаеву, Блоку, Вертинскому, их великий тезка лишь подразумевается. Что обусловило непрямой способ воссоздания главной фигуры личного пантеона?
В своем пушкинианстве Галич близок автору «безгеройной» пьесы о Пушкине: «Пушкина Булгаков исповедовал религиозно» (Петровский, 2008, с. 64), а потому его физическое присутствие на сцене счел невозможным. Отмечалось, что такой «„целомудренный“ подход к образу Пушкина сродни подходу поэтическому, лирическому», традиционно избегающему «конкретики, которая могла бы <…> выглядеть снижающей» (Кормилов, 2004, с. 25). Этот тезис справедлив лишь отчасти. Статус сакральной фигуры обоснован в пьесе Булгакова способом «от обратного», с использованием вещественно-телесных деталей гротескного характера; именно их антиканоничность стимулировала творческое воображение Галича.
Драматург наделил правом участвовать в портретировании внесценического героя ненавистников «арапа»: «…кто этот черный стоит у колонны?»; «…стоит у колонны в каком-то канальском фрачишке, волосы всклоченные, а глаза горят, как у волка»; «У меня до сих пор в памяти лицо с оскаленными зубами»[5]. «Деформация» облика происходит в накаленной атмосфере последних дней поэта. Галич, утрирующий негроидные черты Пушкина, куда ближе к булгаковскому ви́дению, чем, например, к восторгу Цветаевой перед «черным божеством» в эссе «Мой Пушкин». От портрета, нарисованного Галичем, веет финальной трагедией.
Продолжение монолога о моей России, с одной стороны, эксплицирует тему смерти поэта, а с другой – меняет стилевой регистр; тем самым дополнительно оттенен трагически-гротескный рисунок пушкинского образа: «У моей России вывороченные негритянские губы, синие ногти и курчавые волосы – и от этой России меня отлучить нельзя, никакая сила не может заставить меня с нею расстаться… <…> И нельзя отлучить меня от России, у которой угрюмое мальчишеское лицо и прекрасные – печальные и нежные – глаза говорят, что предки этого мальчика были выходцами из Шотландии, а сейчас он лежит – убитый – и накрытый шинелькой – у подножия горы Машук, и неистовая гроза раскатывается над ним, и до самых своих последних дней я буду слышать его внезапный, уже смертный – уже оттуда – вздох» (1974, с. 194). Смерть Лермонтова (говоря словами пушкинской эпитафии Грибоедову) не имела ничего ужасного, ничего томительного. Напротив, Пушкин вынес мучения, запечатлеть которые «художественно» практически невозможно. Сделать это удалось, пожалуй, только Булгакову.
Конкретизировать связь между булгаковским Пушкиным и образом Пушкина в «Генеральной репетиции» позволяет самый неожиданный элемент портрета – синие ногти. Мифологему «Пушкин-африканец» актуализирует художник, наделенный акмеистической зоркостью, упомянувший в «Салонном романсе» лилового негра из песни Вертинского. Эпитет лиловый трансформируется в синий, который – благодаря акценту на руках – включается в тему мученической смерти. Внутреннюю логику образа проясняет последний акт булгаковской пьесы.
Для Булгакова характерно изображение героев-писателей с помощью единичных деталей, извлеченных из массы сохраненных мемуаристами подробностей (Белобровцева, Кульюс, 2000). Руки Пушкина часто упоминаются свидетелями его последних дней: В.И. Даль часами держал страдальца за руку; А.И. Тургенев видел Пушкина с конвульсивно сжатыми кулаками; врачи считали пульс и т.п. Трансформируя повторяющуюся деталь, Булгаков отталкивается от эпизода воспоминаний Даля, где Пушкин отвечает на совет не стыдиться боли своей, стонать: «Нет, не надо стонать; жена услышит; и смешно же, чтоб этот вздор меня пересилил; не хочу»[6]. Волевое усилие передано драматургом через физически ощутимый жест, страшный даже в рассказе постороннего: «Да, трудно помирал. <…> Да, руки закусывал, чтобы не крикнуть, жена чтобы не услыхала. А потом стих»[7]. Галич, чей монолог о гибнущих поэтах подобен стихотворению в прозе, детализирует портрет Пушкина еще скупее, чем Булгаков, но руки мученика – руки с синими ногтями – остаются неотъемлемой частью образа.
В само́й писательской позиции автора «Генеральной репетиции» неизбежно воспроизводится булгаковский «прототип»: трагический образ Пушкина создает художник, отданный на расправу новейшей привилегированной черни. Повторилась на новом историческом витке и предубежденность советской власти против «главного классика»: «…безошибочным тайным инстинктом она в нем чувствовала врага»[8], о чем уже не стеснялась заявлять («Что? Пьеса о Пушкине? Его сопоставят с Солженицыным»[9]).
Воспоминания Л.Г. Зорина показательно соединили Галича и Булгакова на фоне Пушкина. Прочитав новую пьесу коллеги, Галич не мог скрыть волнения: «Я догадывался – и с основанием – одиночество моего героя вызвало в нем ответный отклик. При всем величии имени Пушкина вряд ли он мог не прочертить горьких и лестных параллелей – хоть для минутного ободрения – с собственной тягостной повседневностью»[10]. И далее: «Галича я знал много лет, застал его веселую пору – красивый, яркий, любящий жизнь во всех ее бытовых проявлениях (чисто булгаковская черта!)», он «решительно переломил судьбу. Возможно, это не слишком точно – судьба переломила его. Дар оказался сильней наклонностей, сильней столичного гедонизма, дар подчинил своего хозяина (я снова вспоминаю Булгакова)»[11]. Не исключено, что мемуарный этюд вобрал отголоски разговоров с Галичем о Булгакове, чья биографическая легенда издавна жила в мире театра, а к началу семидесятых годов переросла в полноценный литературный миф.
Лирический герой Галича в свете пушкинского абсолюта: «булгаковская» коллизия
Если легенда, относящаяся к области единичного, «лишена законодательных полномочий мифа» (Виролайнен, 1995, с. 332–333), то булгаковский миф уже на раннем этапе бытования явил свою нормативность, кодируя автоинтерпретации. Едва ли не первый пример такого рода – лирика Галича.
Непосредственным импульсом для поэта стало стихотворение Ахматовой «Памяти М. Б-ва» (1940), впервые напечатанное в год воскрешения «Мастера и Маргариты»: «Вот это я тебе, взамен могильных роз, / Взамен кадильного куренья; / Ты так сурово жил и до конца донес / Великолепное презренье»[12]. Подхватив тему достоинства, сохраняемого до конца, Галич акцентировал связь с ахматовской эпитафией Булгакову дважды, что делает кодирующую функцию цитаты особенно наглядной. В «Опыте отчаянья» (1972) и в «Опыте ностальгии» (1973?) сохранена рифменная позиция слова презренье и его связь с темой смерти:
И нет ни мрака, ни прозренья,
И ты не жив и не убит.
И только рад, что есть – презренье,
Надежный лекарь всех обид (1999, с. 392).
Презренье, презренье, презренье
Дано нам, как новое зренье
И пропуск в грядущий покой! (1999, с. 423–424)
Стихотворение «Занялись пожары» соединяет природные бедствия лета 1972-го с концом земной жизни Мастера и Маргариты, оставляющих за спиной апокалиптический огонь:
Отравленный ветер гудит и дурит
Которые сутки подряд.
А мы утешаем своих Маргарит,
Что рукописи не горят!
А мы утешаем своих Маргарит,
Что – просто – земля под ногами горит… (1999, с. 379)
Предотъездная лирика Галича, лирика самоотчета, закономерно соединяет булгаковскую и пушкинскую «линии». В пушкинском контексте заново поставлен вопрос о художнике, который служил истине, но не заслужил света.
Эмиграция, спасавшая от ареста, манившая счастьем увидеть свое слово напечатанным, в поэтической рефлексии представала вовсе не новой жизнью, а бытием потусторонним; об этом внятно говорит метафора грядущего покоя. В лирической рецепции предельно заострена коллизия, олицетворенная Мастером: сохранявший достоинство художника из последних сил Булгаков наделил двойника своим творческим максимализмом и своей человеческой слабостью. Поверяя трагедией Булгакова-Мастера собственную участь, Галич перенес внимание с обстоятельств непреодолимой силы на личное несовершенство. Чувство вины усугублялось апелляцией к идеальной судьбе, о которой гласит предпосланный «Опыту ностальгии» эпиграф:
…Когда переезжали через Неву, Пушкин шутливо спросил:
– Уж не в крепость ли ты меня везешь?
– Нет, – ответил Данзас, – просто через крепость на Черную речку самая близкая дорога! (1999, с. 421)
Второй эпиграф (видоизмененная цитата из пастернаковской «Зимней ночи») приближал событие пушкинской дуэли к настоящему времени: «…То было в прошлом феврале, / И то и дело / Свеча горела на столе…» (1999, с. 421); третий – «заклинательное» двустишие из стихотворения Ахматовой «В детской», беспомощный жест, переадресованный спешащему к цели поэту. Связь этой триады с личной темой выясняется по мере движения лирического сюжета.
Обуздывая тоску разлуки, поэт напоминает себе о главной утрате, грозящей под властью государственных «волков» каждому носителю творческого дара:
Как каменный лес, онемело,
Стоим мы на том рубеже,
Где тело – как будто не тело,
Где слово – не только не дело,
Но даже не слово уже (1999, с. 423).
Ради верности пушкинской заповеди «слова поэта суть уже его дела» приходится выбирать «потустороннюю» свободу изгнания.
Уступка ностальгии повышает цену приносимой жертвы. Петербургские «крылатые кони», «игрушечный звон бубенцов», святки, русский образ Вечной Женственности, пастернаковская «февральская свечка» (1999, с. 424) – образы памяти, вызывающие ту сладостную боль, благодаря которой изгнанник владеет неотчуждаемым богатством.
Однако в финале происходит резкий слом интонации:
Но есть еще Черная речка,
Но есть еще Черная речка,
Но – есть – еще – Черная речка!..
Об этом не надо.
Молчи! (1999, с. 424)
Кольцевой прием, усиливающий скорбную семантику топонима, напоминает о самой близкой дороге к цели, о крестном пути Пушкина. В системе ценностей, где отклик на трагический апофеоз поэтов – «зависть тайная – летальная» (1999, с. 129), безупречным личным выбором могла быть только смерть у Черной речки, на русской Голгофе. В свете пушкинского абсолюта компромиссом оборачивалось даже изгнание. Уклонение от высшей участи – горькая тайна лирического героя, замолкшего в миг осознания слабости.
Заключение
Актуализация пушкинского мифа в творчестве Галича, тесно связанная с его персональным образом-мифом, определяется убеждением в неповторимости идеального пути поэта. Сама по себе эта установка не нова для пушкинианы ХХ ст.; уникальность ей придал максимализм мифотворца: высота пушкинского инварианта стала категорическим императивом. Прочтение собственной судьбы по булгаковскому коду позволило Галичу подняться над эмпирикой и, трактуя личный опыт универсальным образом, снова и снова восстанавливать связь с идеалом – через переживание его недостижимости. Именно в пушкинском контексте с предельной остротой поставлен вопрос о художнике, который служил истине, но не заслужил света.
Булгаковская «нераздельность-неслиянность» мифа пушкинского и мифа евангельского в рецепции Галича оказалась истинно творческим противоречием. «Христоподобие» Пушкина остается (как и у Булгакова) имплицитным, однако подразумеваемый статус поэта-мученика оказывает решающее воздействие на позицию лирического героя: в присутствии олицетворенного идеала невозможно избрать какой-либо иной ориентир, а сознание своего несовершенства ведет мысль за пределы доступного в земной жизни. Этот смысловой потенциал определяет выход на новый уровень пушкинианской рефлексии в песенном стихотворении Галича «Когда я вернусь…», что должно стать предметом дальнейшего исследования.
1 Курсив в цитатах авторский – М.А.
2 Стихи Галича цитируются по наиболее авторитетному посмертному изданию: Галич А. Облака плывут, облака : Песни, стихотворения / сост. А. Костромин. М. : Локид; ЭКСМО-Пресс. С. 459. Далее в скобках указываем год и номер страницы.
3 Автобиографическая повесть Галича цитируется по первому изданию: Галич А. Генеральная репетиция. Frankfurt/Main : Possev-Verlag, 1974. С. 77. Далее в скобках указываем год и номер страницы.
4 Благодарю Л.Ю. Большухина, поделившегося со мной этим наблюдением.
5 Булгаков М.А. Драмы и комедии. М. : Искусство, 1965. С. 365, 369, 386.
6 Вересаев В.В. Дуэль и смерть Пушкина. М. : Акц. издат. о-во «Огонек», 1927. С. 36.
7 Булгаков М.А. Драмы и комедии. М. : Искусство, 1965. С. 411.
8 Зорин Л. Авансцена : Мемуарный роман. М. : Слово/Slovo, 1997. С. 311.
9 Там же. С. 310.
10 Зорин Л. Авансцена : Мемуарный роман. М. : Слово/Slovo, 1997. С. 304.
11 Там же.
12 Ахматова А. Памяти М. Б-ва // День поэзии. Л. : Советский писатель, 1966. С. 50.
Об авторах
Мария Александровна Александрова
Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. Добролюбова
Автор, ответственный за переписку.
Email: nam-s-toboi@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-5183-9322
SPIN-код: 2077-3141
доктор филологических наук, доцент, ведущий научный сотрудник
Российская Федерация, 603155, Нижний Новгород, ул. Минина, д. 31аСписок литературы
- Аронов М. Александр Галич: полная биография. 2-е изд., испр. и доп. М. : Новое литературное обозрение, 2012. 880 с.
- Белобровцева И., Кульюс С. История с великими писателями: Пушкин – Гоголь – Булгаков // Пушкинские чтения в Тарту. Тарту : Tartu Ulikooli Кirjastus, 2000. С. 257–266.
- Виролайнен М.Н. Культурный герой Нового времени // Легенды и мифы о Пушкине : сборник статей / под ред. М.Н. Виролайнен. СПб. : Академический проект, 1995. С. 329–349.
- Дружинин П.А. Идеология и филология. Ленинград, 1940-е годы : документальное исследование. Т. 2. М. : Новое литературное обозрение, 2012. 704 с.
- Кормилов С.И. «Беллетристическая пушкиниана» как научная проблема // Беллетристическая пушкиниана XIX–XXI веков. Современная наука – вузу и школе : материалы Междунар. науч. конф., Псков, 20–23 октября 2003 г. / отв. ред. Н.Л. Вершинина. Псков : ПГПИ им. С.М. Кирова, 2004. С. 5–32.
- Нагибин Ю. Дневник. М. : Книжный сад, 1996. 704 с.
- Петровский М.С. Мастер и Город. Киевские контексты Михаила Булгакова. 2-е изд., испр. и доп. СПб. : Изд-во Ивана Лимбаха, 2008. 464 с.
- Платт Дж.Б. Здравствуй, Пушкин! : cталинская культурная политика и русский национальный поэт / пер. с англ. Я. Подольного. СПб. : Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2017. 352 с.
- Чуковская Л.К. Записки об Анне Ахматовой : в 3 томах. Т. I. 5-е изд., испр. и доп. М. : Согласие, 1997. 544 с.
- Шапорина Л.В. Дневник / вступ. статья, подгот. текста, коммент. В.Н. Сажина. Т. 2. М. : Новое литературное обозрение, 2011. 640 с.
- Шатин Ю.В. «Пушкинский текст» как объект культурной коммуникации // Сибирская пушкинистика сегодня : cб. науч. статей. Новосибирск: ГПНТБ, 2000. С. 231–238.
Дополнительные файлы