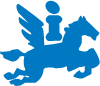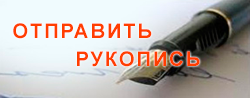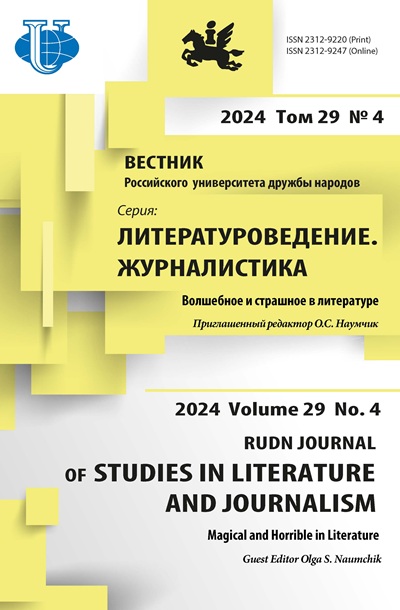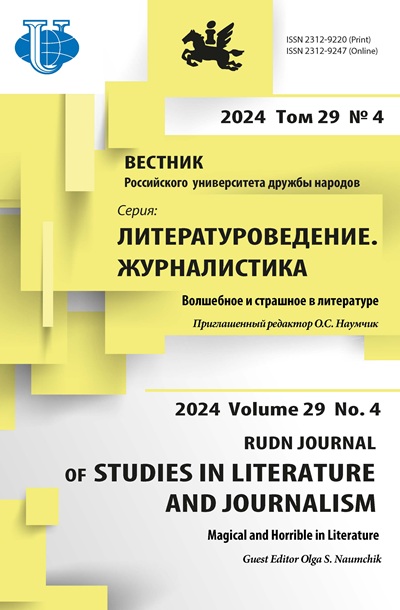Стилизация истории в творчестве Н.В. Кукольника
- Авторы: Кубасов А.В.1
-
Учреждения:
- Уральский государственный педагогический университет
- Выпуск: Том 29, № 4 (2024): ВОЛШЕБНОЕ И СТРАШНОЕ В ЛИТЕРАТУРЕ
- Страницы: 711-725
- Раздел: Литературоведение
- URL: https://journals.rudn.ru/literary-criticism/article/view/42291
- DOI: https://doi.org/10.22363/2312-9220-2024-29-3-711-725
- EDN: https://elibrary.ru/QLEMYP
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Анализируется категория «стилизация истории» и ее реализация на материале творчества забытого автора середины ХIХ века Нестора Васильевича Кукольника. Дается определение понятия, понимаемого как свободная интерпретация прошлого, написанная с ориентацией на определенную стилевую манеру, в образной форме при сохранении опоры на общеизвестные факты, события или качества исторической личности . Если для истории актуально понятие правды, то для стилизации - относительного правдоподобия. Тяготение Кукольника к стилизации объясняется условиями его жизни и эстетическими установками. Доказывается, что изображение прошлого в его художественных произведениях сопрягалось и перекликалось с творчеством его друзей - художника К.П. Брюллова и композитора М.И. Глинки. Показано, что стилизация тесно связана с явлениями архаизации и ориентирования писателя на литературные образцы прошлого. Отмечено, что уже в 30-е годы XIX века в русской литературе начинало складываться реалистическое направление, но для принципиального консерватора Кукольника образцами продолжали оставаться произведения западноевропейских романтиков. Намечено отношение к творчеству Кукольника писателей классиков, большая часть из которых критически оценивала его. На материале анализа рассказа «Сержант Иван Иванович Иванов, или все заодно» раскрыто, каким образом стилизация истории воплощается в художественном тексте. Подчеркнуты возможные перспективы возобновления интереса к творчеству Кукольника путем транспонирования его произведений на язык современных жанровых форм.
Ключевые слова
Полный текст
Введение
Современный массовый читатель, желающий получить первичные сведения о жизни и творчестве Нестора Васильевича Кукольника (1809–1868), скорее всего, обратится к авторитетным справочным изданиям. Одно из них – энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. В статье, посвященной писателю, отмечается, что Нестор Васильевич был сыном первого директора Нежинской гимназии и учился в ней. Кукольник был ровесником и однокашником Н.В. Гоголя, он даже играл с ним в одном гимназическом спектакле по «Недорослю» Д.И. Фонвизина. Первые литературные опыты Нестора Васильевича – пьеса «Торквато Тассо» (1833) и драма в пяти актах «Рука Всевышнего Отечество спасла» (1834), посвященная эпохе Смутного времени, – имели большой успех у публики. Кукольник с самого начала творческого пути тяготел к изображению русской и зарубежной истории. Первые удачи окрылили молодого писателя, и он рьяно взялся за литературный труд. В период 1840–1845 гг. напечатал 5 романов, 26 повестей, 5 драм и множество стихотворений (В.К. [Карцов], 1895, с. 945). Плодовитому автору после этого предстояло прожить еще четверть века. Однако с течением времени постепенно уменьшается не только его феноменальная продуктивность, но и популярность среди читателей. Финал жизни и творчества Кукольника был достаточно тихим и незаметным. В 1857 г. он вышел в отставку и поселился в Таганроге. Журналы печатали Кукольника неохотно, и он умер в 1868 г. почти всеми забытый (В.К. [Карцов], 1895, с. 945). С констатации печального итога жизни писателя начинаются немногочисленные современные исследования о нем: «Сейчас Нестора Васильевича Кукольника, безусловно, можно назвать забытым автором. Его богатое литературное наследие не читают. Оно не вызывает также особого интереса у исследователей. В учебниках по истории русской литературы он едва упоминается» (Сейчаковски, 2016, с. 30). Польскому автору вторят российские, утверждая, что имя Кукольника предано забвению, а его творческое наследие более 150 лет не востребовано и не изучается (Николаенко, 2005, с. 118; Малышкина, 2019). Ради справедливости отметим, что не все произведения Кукольника оказались списанными в литературный архив. Долгожителями стали те стихотворения писателя, которые друживший с ним М.И. Глинка положил на музыку. В репертуаре певцов до сих пор живут такие романсы, как «Попутная песня», «Сомнение», «Баркарола», «Жаворонок» и ряд других.
Если попытаться кратко оценить многочисленные эпические и драматические произведения Нестора Васильевича, можно утверждать, что он создавал многостраничные стилизованные картины на темы русской и зарубежной истории. Стилизация истории была ключевым художественным приемом его творчества. В позапрошлом веке о стилизации сигнализировал французский предлог a la, русским эквивалентом которого служат слова наподобие, словно, по образцу. В воспоминаниях Кукольника, русина по национальности (карпаторосса, как он сам именовал себя), сохранилось воспоминание о домашнем спектакле, участником которого был он, а также его старшие братья: «В числе трагедий a la Racine (все произведения старшего брата Павла) была одна венгерская под заглавием «Эмерик», в которой я имел роль маленького сына Эмерика. Желая сделать отцу приятный сюрприз, Александр Васильевич откопал где-то вид Офена или Буды, расспрашивал батюшку о разных особенностях местности, не давая заметить цели… В день представления на венгерскую трагедию натурально были приглашены все карпатороссы: и Орлай, и Балугьянский, и П.Д. Лодий. Дошло до пятого акта. Подымается занавес… Карпатороссы, несмотря на свои лета и служебное значение, вскакивают с места и первый П.Д. Лодий кричит с восторгом: “Буда, Буда!!”» (Из воспоминаний…, 1891, с. 93–94). В этом фрагменте самым важным для нас является указание на то, что трагедии Павла Кукольника воспринимались его младшим братом как стилизованные под Расина, написанные в манере французского трагика. Упреждая последующие выводы, можно сказать, что Кукольник, как и его брат, тоже тяготел к литературному традиционализму, который с течением времени воспринимался как все более устаревающий консерватизм и закоснелость.
Для определения понятия «стилизованная история» обратимся вначале к известной работе Н.А. Бердяева «Стилизованное православие (отец Павел Флоренский)», посвященной анализу ключевого труда русского богослова «Столп и утверждение истины». Отличительную особенность этой книги Бердяев отмечает в самом начале критического очерка: «Это первое явление эстетизма на почве православия, ставшее возможным лишь после утонченной эстетической культуры конца XIX и начала XX века. <…> В “Столпе и утверждении истины” нет ничего простого, непосредственного, прямо исходящего из глубины души». И далее: «Свящ. Павел Флоренский – блестящий, даровитый, изысканно умный и изысканно ученый стилизатор православия, у него нет ни одной мысли, ни одного слова, не прошедшего через стилизацию. Православие его не живое, не непосредственное, а стилизованное, не наивное, а сентиментальное (в шиллеровском смысле)» (Бердяев, 1991, с. 149–150). Исходный тезис Бердяева, как можно заключить из приведенных фраз, заключается в утверждении ярко выраженной сентиментальности текста богословской книги, образцом которой являются произведения Шиллера, тогда как такого рода трудам должна быть свойственна органическая простота. Важен еще один смысл, скрытый в замечании Бердяева, – он, возможно, иначе оценил бы книгу Флоренского, если б заметил, что она стилизована не в духе немецкого романтика, а в манере отцов церкви.
Развернутая теория стилизации как явления художественной литературы предложена М.М. Бахтиным в книге о Достоевском, где он пишет: «Лексический оттенок слова, например архаизм или провинциализм, указывает на какой-то другой контекст, в котором нормально (курсив цитируемого автора – А.К.) функционирует данное слово (древняя письменность, провинциальная речь), но этот другой контекст – языковой, а не речевой (в точном смысле), это не чужое высказывание, а безличный и неорганизованный в конкретное высказывание материал языка. Если же лексический оттенок хотя бы до некоторой степени индивидуализован, т. е. указывает на какое-нибудь определенное чужое высказывание, из которого данное слово заимствуется или в духе которого оно строится, то перед нами уже или стилизация, или пародия, или аналогичное явление» (Бахтин, 1979, с. 215–216). Стилизация, по Бахтину, есть одно из проявлений общей диалогической природы языка. Она предполагает соотнесение первичного контекста, в котором слово функционирует органично, с контекстом вторичным, содержащим прямую или косвенную отсылку к тому контексту, в духе которого оно строится.
Архаизация языка, столь свойственная произведениям Кукольника на исторические темы, как раз и порождает эффект стилизации. Архаика была органическим качеством сознания писателя, так что проникала даже в его приватную жизнь. Приведем пример из письма Нестора Васильевича племяннику П.А. Пузыревскому от 24 декабря 1853 года: «Во-первых, мы поскучали за вами порядочно. День именин твоих, ознаменованный великолепным синопским делом, мы провели не без грусти; но скоро победы наши доставили приятное развлечение» (Кукольник, 1901, с. 12). В отрывке ощутима стилизация (скорее всего, бессознательная) победной реляции, уместной больше в официальном газетно-журнальном издании, чем в частной переписке с родственником.
Архаизм Кукольника отметил В.Г. Белинский в посвященной ему статье. Пытаясь объяснить «значение г. Кукольника как писателя и его место в русской литературе», критик прибегает к сравнению, которое, по его словам, «не всегда доказывает, но часто объясняет дело». Белинский полагает, что ни с кем не имеет Кукольник так много сходства, как с Сумароковым. «Г-н Кукольник решительно Сумароков нашего времени» (Белинский, 1956, с. 124). Вряд ли такую оценку можно признать комплиментарной для писателя. К концу XIX века Кукольник окончательно превратился в устойчивый символ архаиста. А.И. Куприн передает в мемуарах оценку его Чеховым: «Одному талантливому беллетристу, серьезному идейному писателю, он говорил: “Послушайте же, ведь вы на двадцать лет меня старше. Ведь вы же раньше писали под псевдонимом Нестор Кукольник…”» (Куприн, 1986, с. 522). Веку XX писатель и вовсе пришелся не ко двору и был, как казалось, навсегда забыт.
Одним из объяснений тяготения Кукольника к стилизации является его образование и семейная языковая среда. Мать Нестора Васильевича была полькой по национальности. Писатель владел, помимо языка матери, еще французским, немецким, итальянским (Охотин, Ранчин, 1994, с. 212). Особо отметим классическую латынь, которую Кукольник знал в совершенстве. Вспоминая детство, он писал: «Шалости мои не подчинялись цензуре матушки; бывало нашалю (отец на лекциях) и принимаюсь за лексикон: составляю извинение, перевожу на латинский, заучиваю и жду возвращения домой отца. Он на порог, а я с латинской речью, – рассказываю случай и прошу прощения и, разумеется, вина отпускалась, несмотря на цицероновские обвинительные филиппики моей матери» (Из воспоминаний, 1891, с. 90). Знание мертвых языков, служивших основой лингвистической подготовки в гимназии, а также современных европейских не могло не отразиться на произведениях Кукольника. Получивший гимназическое образование, он стилизовал русский материал в манере европейских романтиков. Драматические произведения Кукольника могут восприниматься так, будто они написаны a la Шиллер. Автор диссертации о пушкинской эпохе, весьма сдержанно оценив вклад Кукольника в русскую литературу, делает ссылку на общее мнение современников Пушкина: «Говорили, что Кукольник превзошел Пушкина, величали его “русским Шиллером” и т. д.» (Курганов, 1995). Столь же уместно отметить влияние исторических романов В. Скотта на русскую прозу этого времени, в том числе и Кукольника (Аносова, 2012). Эти имена европейских классиков употреблены нами как некие синекдохи, за которыми стоит в целом европейская традиция романтической исторической драмы или романа. Европейский литературный романтизм составляет ближний контекст для творчества Кукольника. Для таких авторов, как Ф. Шиллер, В. Скотт, Ф.Г. Клопшток, приподнятый, отчасти высокопарный стиль был нормой. Особо подчеркнем, что речь идет именно о стиле, вкусе, общем эмоциональном тоне, а не об интертекстуальных отсылках к названным конкретным писателям. Укажем также и на дальний контекст, который составляли тексты авторов древнего Рима: латынь изучалась в гимназиях преимущественно на основе их произведений.
Перейдем к ключевому понятию «стилизация истории». Оно употребляется в современных работах (Андреев, 1999; Мансков, 2011), но все же остается недостаточно отрефлексированным. История как наука базируется на установлении подлинности событий и фактов, и документ играет определяющую роль в этом процессе. Стилизация истории отталкивается от реальных событий или фактов, но представляет их в свободной интерпретации стилизатора на основе его фантазии и даже домысла. Стилизация истории может быть реализована не только в литературе, но и в живописи («Последний день Помпеи» К.П. Брюллова), в музыке («Жизнь за царя» М.И. Глинки). Важнейшим отличительным признаком стилизованной истории является то, что она представляет прошлое в образах, которые лишь частично совпадают с реальным событием, фактом или историческим деятелем. Итак, стилизация истории – это свободная интерпретация прошлого в образной форме при сохранении опоры на общеизвестные достоверные факты, события или качества исторической личности, написанная стилизатором с ориентацией на определенную стилевую манеру. Стилизатор ставит задачу воспроизведения не исторической правды par excellence, а исторического условного правдоподобия и выражения на его основе своей авторской позиции.
Результаты и обсуждение
Масштаб личности Кукольника определяется не в последнюю очередь теми современниками, с кем он был дружен, чьи эстетические установки разделял. С этой точки зрения, Нестор Васильевич должен войти в круг знаковых имен русского искусства. Близким другом писателя был композитор М.И. Глинка, одно из писем к которому Кукольник начинает с обращения: «Дорогой, драгоценный Миша!» (Кукольник, 1901, с. 19). Свидетельством дружеских отношений с Брюлловым является выполненный художником портрет двадцатисемилетнего Кукольника, который находится в Третьяковской галерее. Кроме того, Брюллов был иллюстратором новеллы друга «Психея» (Казакова, 2008). Круг имен может быть многократно расширен за счет приятелей и близких знакомых, которые посещали по средам журфиксы Кукольника. Современники, имевшие возможность непосредственного общения с писателем, не могли абсолютно ошибаться в своей оценке его личности и творческих способностей. Столь же важна для нас возможность охарактеризовать творчество Кукольника через сравнение его произведений с искусством друзей. На картине «Последний день Помпеи» насчитывают около 40 фигур, выписанных с разной степенью детализации. Масштабной является и опера «Жизнь за царя» Глинки. Такими же крупными многофигурными «полотнами» были исторические романы и повести Кукольника.
Говоря о восприятии Кукольника и его творчества корифеями русской литературы, отметим одну особенность: некоторые из них, например Л.Н. Толстой и И.А. Гончаров, не оставили о нем значимых замечаний или высказываний. Сдержанно-ироническим было отношение к Кукольнику у Пушкина. Другие писатели были достаточно прилежными его читателями, например Ф.М. Достоевский. В романе «Бесы» внешность Степана Трофимовича Верховенского описана с отсылкой на портрет Кукольника кисти Брюллова. О герое сказано: «… высокий, сухощавый, с волосами до плеч, он походил как бы на патриарха или, еще вернее, на портрет поэта Кукольника, литографированный в тридцатых годах при каком-то издании» (Достоевский, 1974, с. 19). Достоевский сознательно прибегает к стилизованному портрету героя. Сигналом стилизации служит выделенный во фразе фрагмент. Дело, однако, не только в сходстве литературного героя с внешностью реального человека, но и в имплицитной косвенной оценке личности Кукольника: «Этот человек, двадцать лет нам пророчествовавший, наш проповедник, наставник, патриарх, Кукольник, так высоко и величественно державший себя над всеми нами, перед которым мы так от души преклонялись, считая за честь, – и вдруг он теперь рыдал, рыдал, как крошечный нашаливший мальчик в ожидании розги, за которою отправился учитель» (Достоевский, 1974, с. 331).
Известно, что прототипом для Степана Трофимовича Достоевскому послужил И.С. Тургенев, так что логично далее обратиться к автору «Отцов и детей». Об оценке Кукольника И.С. Тургеневым может свидетельствовать отрывок из его письма А.Ф. Писемскому. Высылая ему из Веймара вырезки из газетных публикаций, Тургенев замечает: «…немецкие критики умеют иногда врать не хуже русских (в одной из них говорится о гениальном (!) [выделено Тургеневым – А.К.] Кукольнике)» (Тургенев, 1994, с. 169). Одно из возможных объяснений высокой оценки Кукольника зарубежными критиками связано с тем, что они уловили в его произведениях пафос романтизма, восприняли их как стилизованные в близкой им по духу европейской литературной традиции.
И.И. Панаев, присутствовавший на чтении Кукольником трагедии «Рука Всевышнего…», вторит оценкам немецких критиков: «Мы расстались с поэтом в четыре часа утра, убежденные в его гениальности» (Панаев, 1988, с. 70). В последующих записях эта оценка нивелируется мемуаристом (Панаев, 1988, с. 135–137).
На полпути к объяснению природы творчества Кукольника остановился А.М. Скабичевский в своей большой работе «Наш исторический роман в его прошлом и настоящем». Уловив диалогичность романов Кукольника, он отнес ее к недостаткам, объяснив подражательностью: «По крайней мере драмы его „Торквато Тассо“, „Джулия Мости“, „Джакобо Салазар“, „Роксолана“ и пр. все скроены по образу и подобию драм В. Гюго, но, конечно, не представляют и тени того глубокого идейного содержания, какое вы находите в пьесах В. Гюго, а напротив того, отличаются крайнею пустотою и банальным мелодраматизмом» (Скабичевский, 1890, стлб. 770). Кроме Гюго, образцами для подражания Кукольнику, по мнению критика, послужили Александр Дюма, Альфред де Виньи, польский писатель Ф. Бернатович, а также с детства знакомый Гоголь. Было бы, конечно, ошибкой признать всех критиков Кукольника недальновидными зоилами, не понявшими сути его творчества. Смена одной однозначной оценки на другую, противоположную ей, думается, в равной степени будет необоснованна и однобока.
Восприятие литературного прошлого не остается чем-то незыблемым и неизменным. Оно претерпевает трансформацию, сдвигаясь в сторону все большей объективности. Бахтин писал, что произведения преодолевают свое время, что новое время вносит коррективы в восприятие и понимание их. «Если нельзя изучать литературу в отрыве от всей культуры эпохи, то еще более пагубно замыкать литературное явление в одной эпохе его создания, в его, так сказать, современности. <…> Замыкание в эпохе не позволяет понять и будущей жизни произведения в последующих веках, эта жизнь представляется каким-то парадоксом. Произведения разбивают грани своего времени, живут в веках, то есть в большом времени [курсив авт. – А.К.], притом часто (а великие произведения – всегда) более интенсивной и полной жизнью, чем в своей современности» (Бахтин, 1986, с. 350). Быть может, мы находимся как раз накануне «более интенсивной» жизни и произведений Кукольника.
Остановимся лишь на одном произведении, которое отражает его стилизацию истории. Оно связано с эпохой Петра I. Упомянутый Скабичевский признавал «основательное знание» ее писателем, правда, тут же оговаривался, что «нельзя сказать, чтобы нравы и дух этой эпохи изображались в повестях художественно и реально» (Скабический, 1890, стлб. 774). Господствующий в литературе канон критического реализма прикладывался и к стилизации, которая по сути не может быть реалистичной в терминологически точном значении этого слова. Стилизация всегда в той или иной мере является условной и отчасти искусственной, потому что списана не только и не столько с эпохи, сколько с ее примеров и образцов. Повторим прием великого критика и прибегнем к сравнению, которое не доказывает, но объясняет дело. Можно ли картину друга Кукольника «Последний день Помпеи» назвать реалистичной? С внешней стороны – конечно, так как герои на полотне вполне жизнеподобны, но если понимать реализм как творческое направление, базирующееся на преобразовании и отражении конкретной эмпирической реальности в художественное изображение, то ответ будет отрицательным, просто потому что художнику эта реальность была недоступна. Брюллов написал картину, отталкиваясь от реального факта и своего представления о том, как оно могло бы выглядеть, а также ориентируясь на требования академической живописи и образцы ее стиля. Нечто подобное можно сказать о Кукольнике и вообще всех авторах, берущихся разрабатывать исторические сюжеты и темы. Все они поставлены перед необходимостью в той или иной мере домысливать материал прошлого и, как следствие, стилизовать его. В произведениях на исторические темы читателю предстоит не историческая правда как таковая, а историческое правдоподобие. Белинский признавал самыми неудачными те произведения Кукольника, «содержание которых заимствовано из итальянской жизни». Главную причину этого он усматривал в незнании писателем реальной действительности: «Странная претензия – описывать страну, которой автор никогда не видел!» (Белинский, 1956, с. 127). Для Белинского знание эмпирической реальности – необходимое условие для успешного творчества писателя-реалиста. Но для стилизатора оно вовсе не обязательно, а порой даже вредно.
Одним из относительно коротких произведений, по меркам Кукольника, посвященных времени Петра I, является рассказ «Сержант Иван Иванович Иванов, или все заодно». Даже критически настроенный к Кукольнику Белинский заметил, что рассказ «более чем хорош – прекрасен». По словам критика, автор ввел нас в быт того времени; его рассказ согрет одушевлением, полон идеи, отличается мастерством изложения и т. д. (Белинский, 1956, с. 127). Белинский, будучи апологетом реализма, истолковал рассказ как критику нравов дворянского сословия. Стилизаторский характер произведения остался в тени его анализа.
Сюжет рассказа анекдотичен в том смысле, какой изначально придавался жанру анекдота, т. е. сосредоточенном на изложении казусов прошлого. «Сержант Иван Иванович Иванов…» является анекдотом, развернутым до пределов рассказа. В первых его фразах определено время и место действия – Кострома, начало XVIII века. Молодой барин, провинциальный донжуан, Владимир Ландышев встречает молодую крепостную крестьянку Домну, которую он как-то недоглядел и не успел сделать своей наложницей. Домна же и Иван Иванов, тоже крепостной, любят друг друга и хотят пожениться. Иван защищает Домну, за что его отдают в рекруты. Но и Ландышева тоже призывают на военную службу. Забирать дворянского недоросля пришел сам костромской воевода Любим Александрович Грибоедов, который представлен как полупародийный типаж петровской эпохи: «Любим Александрович с наружною грубостью солдата соединял многие премногие добродетели. Бескорыстие у него было дело необходимое, но прикладное, он с детства носил его как шпагу, как мундир, как неотъемлемую свою принадлежность. Он никогда не разговаривал об этом предмете, но зато воздержанием любил хвалиться, и всему полку в провинции было известно, сколько во всю жизнь свою выпил он рюмок вина и водки. Странный феномен в XVIII столетии!» (Кукольник, 1841, с. 10). Ирония в рассказе прихотливо сплетается с архаикой. Первая отражает веяние нового времени, а вторая – обращает к литературе классицизма.
Рассказ Кукольника разбит на главки, которые имеют свои подзаголовки. Один из них – «Задний двор». Начинается он с социально-бытовой характеристики топоса: «Задний двор был истинный содом в древнем допетровском быту дворян наших. Здесь развращалось молодое дворянство с детства, без особенного усилия, так, неприметно, исподволь; здесь почерпались те предрассудки, которых доныне еще не могли искоренить воля Петра Великого и просвещение… <…> Из этих частных недостатков общественной жизни на старой Руси рождались те огромные политические пороки, с которыми трудно было ладить самим великим духом и силою Государям нашим. Только внимательно рассматривая общественный быт средних времен нашего отечества, мы можем объяснить себе характер и существо боярских смут в истории нашей; тогда только мы можем уразуметь важность, сложность и действительность боярских происков и некоторым образом измерить величие и мудрость государей, разрушивших эту новую гидру» (Кукольник, 1841, с. 14). Приведенного фрагмента достаточно, чтобы заметить и верноподданнический тон, и назидательность, столь свойственные многим литературным образцам XVIII века. Поневоле вспоминается сравнение Белинского Кукольника с Сумароковым.
Не останавливаясь на хитросплетениях сюжета рассказа, обратимся сразу к его финалу. К моменту развязки Володя Ландышев оказался в армии, мало того, еще и во власти Ивана Иванова, некогда своего крепостного, который дослужился до сержанта и бьет барина, младшего, чем он, по званию. Мать дворянина приехала в Петербург вызволять своего единственного сыночка из армии. Решить судьбу Ландышевых может, по разумению автора, только сам царь. В эпилоге он действует на манер deus ex machina, внезапно появляясь в нужный момент. Он призывает к себе сержанта Иванова, рядового Ландышева и на глазах его маменьки вершит свой суд:
«Когда вошли наши знакомые, государь тотчас к ним обратился и сказал ласково:
– А! это ты, Иванов? За что ты изволил бить этого Володю?
– За ослушание твоего указа!
– Какого?
Сержант рассказал все дело от слова до слова. Простосердечие, доброта и уважение к службе весьма понравились Петру.
– Как же ты бил его? – спросил государь.
– Как ты указал, государь…
– Да как же это; я что-то не помню! – сказал государь, улыбаясь, и кивнул Ивану рукой.
– Да вот, ни дать ни взять, так, ваше величество, – отвечал сметливый сержант, и палка возобновила похождения по спине Володимера Андреевича. Государь рассмеялся и сказал:
– А что же ты бил, да не приговаривал?
– Приговаривал, ваше величество, – и снова принялся бить Володю, приговаривая:
– Не ослушайся, Володимер Андреевич! Прости барин, не я бью, а служба бьет. Вот так я бил его, государь!» (Кукольник, 1841, с. 54).
Заканчивается сказочный рассказ-анекдот счастливым концом. Домна получает от барыни вольную и ждет, «пока Иван все к свадьбе исправит».
Как ни парадоксально, но, будучи архипатриотическим автором, Кукольник с юности находился под надзором полиции. Цензор А.В. Ники-
тенко писал: «Кукольник читал у меня своего “Доменикина”. Это высокое произведение. Здесь Кукольник является истинным художником: поэтом и мысли, и формы. Мы долго говорили наедине. Он разочарован двором. Не знаю, искал ли он его милостей или только хотел прикрыться его щитом. Как бы то ни было, а его положение незавидно. Каждое произведение свое он должен представлять на рассмотрение Бенкендорфа. С другой стороны, он своими грубыми патриотическими фарсами, особенно “Скопиным-Шуйским”, вооружил против себя людей свободомыслящих и лишился их доверия. Я не говорю о происках мелкой зависти, которая обыкновенно кидает грязью в таланты: талант не должен этого и замечать» (Никитенко, 1955, с. 178). Цензор, по роду деятельности призванный следить за соблюдением государственных интересов и приветствовать патриотизм, и тот считал, что Кукольник «пересаливал» в своих произведениях с проявлением верноподданности, что превращало его картины истории в «грубые фарсы». Одно из объяснений такого феномена кроется в природе стилизации. Будучи неузнанной, не спроецированной на диалогизующий фон, она воспринимается неадекватно, как грубая подделка.
Замечание Никитенко о «курировании» Кукольника А.Х. Бенкен-
дорфом не было пустыми словами. Приведем оценку шефом жандармов рассмотренного рассказа: «М. г. Нестор Васильевич! Исторический рассказ „Сержант, или все заодно“ обратил на себя внимание публики желанием вашим выказать дурную сторону русского дворянина и хорошую – его дворового человека. Государь император удивляется, как может человек столь просвещенный и обладающий таким хорошим пером, как вы, м. г., убивать время на занятия, вас недостойные, и на составление статей до такой степени ничтожных. Хотя рассказ ваш вы почерпнули из деяний Петра Великого, но предмет, вами описанный, в анекдоте составляя прекрасную черту великого государя, в вашем сочинении совершенно искажен неуместными выражениями и получил совершенно другое направление. Желание ваше беспрерывно выказывать добродетель податного сословия и пороки высшего класса людей не может иметь хороших последствий, а потому не благоугодно ли вам будет на будущее время воздержаться от печатания статей, противных духу времени и правительства, дабы тем избежать взыскания, которому вы, при меньшей как ныне снисходительности, подвергнуться можете» (Цит. по: Скабичевский, 1890, стлб. 779–780).
Заключение
Патриотизм генетически связан с архаикой, с проблемой памяти, он был одной из определяющих черт произведений писателя. Анонимный автор статьи о Кукольнике в словаре братьев Гранат точно отмечал: «Романтическое увлечение стариной переходит у него порою в резко выраженную патриотическую тенденцию, убивающую и немногие литературные достоинства его произведений» (Б.а., 1914, стлб. 154). В быту и в житейской практической деятельности патриотизм Кукольника выражался совсем иначе. Писатель многое сделал для развития юга России, особенно Таганрога, куда переехал после отставки. Племянника, отправлявшегося за границу, Кукольник наставлял: «…если придет тебе охота чем-либо гордиться, так гордись тем, что ты русский, и ты сам согласишься, что будешь гордиться не без основания, и что недостаток этой гордости в наших соотечественниках вредит самостоятельным успехам нашего образования. Но и гордиться этим надо не на словах, а на деле, в твоей жизни, в твоих сношениях с людьми…» (Кукольник, 1901, с. 4).
Может показаться, что анализа одного рассказа слишком мало, чтобы сделать выводы о стилизации Кукольником истории в его произведениях на материале прошлого. В качестве контраргумента прибегнем вновь к авторитету Белинского, который писал: «Кто прочел одну драму г. Кукольника, тот знает все его драмы: так одинаковы их пружины и приемы» (Белинский, 1956, с. 126). Сходство произведений Нестора Васильевича не ограничивается «пружинами и приемами», а распространяется на саму манеру его письма, авторское видение и понимание назначения литературы.
Возможно ли возрождение интереса к жизни и творчеству забытого Кукольника? Многое уже делается для воссоздания исторической справедливости по отношению к личности писателя. Назовем в этой связи авторский сайт Людмилы Мироновой, посвященный ему. На весну 2024 года число его посетителей перевалило за двадцать тысяч (Нестор Кукольник. Сайт о жизни и творчестве). При этом желающих читать многостраничные тексты Кукольника, написанные зачастую тяжелым языком, с обилием архаизмов, все-таки слишком мало. Быть может, отчасти исправить дело могли бы ремейки произведений, которые в современном книгопроизводстве обрели легитимность и которые, конечно, не отменяют самих подлинников. В музыке существует жанровая форма «транскрипции», понимаемая как адаптация музыкального произведения, написанного композитором для одного инструмента, но переложенного на «язык» другого. Переводя разговор на литературу, прибегнем к сослагательному наклонению: для популяризации творчества Н.В. Кукольника, вероятно, была бы уместна творческая транскрипция его произведений на современный русский язык с учетом содержательных возможностей новых жанров.
Об авторах
Александр Васильевич Кубасов
Уральский государственный педагогический университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: kubas2002@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-9074-1133
доктор филологических наук, профессор кафедры теории и методики обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Российская Федерация, 620017, Екатеринбург, пр. Космонавтов, д. 26Список литературы
- Андреев Ю.В. Тираны и герои. Историческая стилизация в политической практике старшей тирании // Вестник древней истории. 1999. № 1. С. 3–7.
- Аносова О.Г. Восприятие творчества В. Скотта современниками в России // Вестник РУДН. Серия Вопросы образования: языки и специальность. 2012. № 3. С. 79–85.
- Б.а. Кукольник, Нестор Васильевич // Энциклопедический словарь Товарищества Гранат. Т. 26. М.: Изд-во «Бр. А. и И. Гранат и К°», 1914., Стлб. 154.
- Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М.: Советская Россия, 1979. 320 с.
- Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1986. 445 с.
- Белинский В.Г. Полное собрание сочинений: в 13 томах. Т. 10. М.: Изд-во АН СССР, 1956. 474 c.
- Бердяев Н.А. О русской философии. Ч. 2. Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1991. 240 с.
- В.К. (Карцов В.С.) Кукольник (Нестор Васильевич) // Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. Т. 32. СПб.: Семеновская типография, 1895. Стлб. 945.
- Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: в 30 томах. Т. 10. М.: Наука, 1974. 519 с.
- Из воспоминаний Н.В. Кукольника // Исторический вестник. 1891. Т. XLV. С. 79–99.
- Казакова С. Карл Брюллов и Нестор Кукольник: история двух иллюстраций // Третьяковская галерея. 2008. № 4(21). URL: https://www.tg-m.ru/articles/4-2008-21/karl-bryullov-i-nestor-kukolnik-istoriya-dvukh-illyustratsii (дата обращения: 29.03.2024).
- Кукольник Н. Сказка за сказкой. Т. 1–4. СПб.: Тип. К. Крайя, 1841. 502 с.
- Кукольник Н.В. Зеленая книжечка: письма Н.В. Кукольника. СПб.: Изд-во тов-ва «Обществ. польза», 1901. 26 с.
- Куприн А.И. Памяти Чехова // Чехов в воспоминаниях современников. М.: Худож. лит., 1986. С. 507–535.
- Курганов Е. Литературный анекдот пушкинской эпохи: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора философских наук. Хельсинки, Slavica Helsingiensia, 1995. Т. 15. URL: https://blogs.helsinki.fi/slavica-helsingiensia/files/2019/11/sh15-5.pdf (дата обращения: 29.03.2024).
- Мансков О.В. Историческая и мифологическая стилизация в античности // Вестник ТГПИ им. А.П. Чехова. Серия Гуманитарные науки. 2011. № 2. С. 272–274.
- Малышкина О. Рука Всевышнего в судьбе Нестора Кукольника // Нева. 2019. № 10. С. 208–218.
- Нестор Кукольник. Сайт о жизни и творчестве великого русского писателя. URL: https://nestorkukolnik.wordpress.com (дата обращения: 30.03.2024).
- Никитенко А.В. Дневник: в 3 томах. Т. 1. М.: ГИХЛ, 1955. 590 с.
- Николаенко А.И. Н.В. Кукольник (1809–1868) // Русин. 2005. № 1. С. 118–138.
- Охотин Н.Г., Ранчин А.М. Кукольник, Нестор Васильевич // Русские писатели. 1800–1917. Биографический словарь. Т. 3. М.: Изд-во «Большая Российская энциклопедия», 1994. С. 212–217.
- Панаев И.И. Литературные воспоминания. М.: Изд-во «Правда», 1988. 465 с.
- Сейчаковски А. Образы Финляндии, Швеции и России в повести Нестора Кукольника «Егор Иванович Сильвановский, или покорение Финляндии при Петре Великом» // Rocznik przemyski. Literatura i język. 2016. T. 52. Z. 2(20). С. 27–37.
- Скабичевский А.М. Сочинения. Критические этюды, публицистические очерки, литературные сочинения: в 2 томах. Т. 2. СПб.: Изд-во Ф. Павленкова, 1890. cтлб. 888.
- Тургенев И.С. Полное собрание сочинений и писем: в 30 томах. Письма: в 18 томах. Т. 1. М.: Наука, 1994. 607 с.