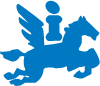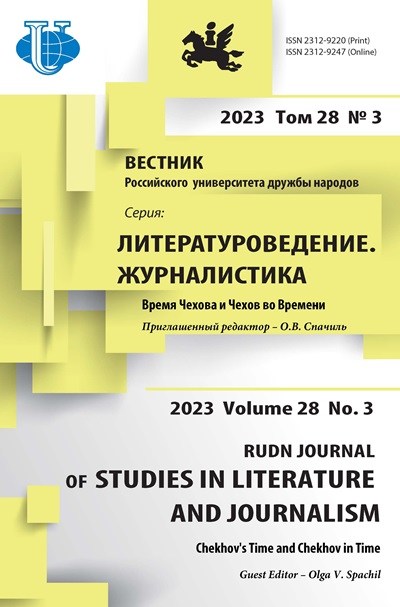Библейские основы русской национальной модели. Рецензия на книгу: Коваленко А.Г., Пороль О.А., Пороль П.В. Художественное пространство русской поэзии первой трети ХХ века (библейский дискурс): монография. М.: Юрист, 2022. 208 с.
- Авторы: Гавриков В.А.1
-
Учреждения:
- Брянский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
- Выпуск: Том 28, № 3 (2023): Время Чехова и Чехов во Времени
- Страницы: 619-623
- Раздел: РЕЦЕНЗИИ
- URL: https://journals.rudn.ru/literary-criticism/article/view/36803
- DOI: https://doi.org/10.22363/2312-9220-2023-28-3-619-623
- EDN: https://elibrary.ru/KVSPHH
- ID: 36803
Цитировать
Полный текст
Аннотация
-
Ключевые слова
Полный текст
В центре научного исследования – один из ключевых параметров художественного текста – пространство, а конкретнее – онтологическое пространство поэзии Серебряного века, ориентированное на библейский хронотоп. Авторы монографии доказывают, что картина мира многих представителей русского поэтического модернизма формировалась в координатах библейского «времяпространства».
Знаменательно, что книга открывается солидным и полновесным теоретическим исследованием ключевых понятий, необходимых для развертывания темы уже на конкретных примерах. Увы, сегодня наше гуманитарное знание часто грешит непроработанностью именно теоретических основ исследования.
А.Г. Коваленко, О.А. Пороль, П.В. Пороль подробно погружаются в историю изучения русской литературы в контексте христианской культуры, а также обозначают ключевые понятия. Широта охвата материала подкупает читателя: раскрываются концепции пространственно-временного континуума у религиозных мыслителей (таких, например, как В.С. Соловьев, Е.Н. Трубецкой, П.А. Флоренский, С.Л. Франк), классиков отечественной филологии (М.М. Бахтин, Вяч. Иванов, Д.С. Лихачев), даже у физиков и математиков (А. Эйнштейн, Г. Кантор). Критический анализ и сопоставление разных концепций позволяет авторам монографии выработать оригинальный подход к этому сложному и многомерному понятию.
Частным вопросом рассматриваемой проблемы становится дихотомия актуальной и «дурной» бесконечности, которая намечена еще немецкой классической философией, а впоследствии раскрыта в трудах русских религиозных мыслителей и подхвачена поэтами, реализуясь не только в поэтической практике, но и в метавысказываниях. Особенно интересно и глубоко эта дихотомия раскрывается у поэтов-акмеистов. Да и в целом исследователи часто мыслят оппозициями (апофатика – логика, эксплицированное – имплицитное), что связывается с бинарностью русского поэтического мышления, укорененного в библейской онтологической бинарной традиции.
Оригинальную концепцию удается построить благодаря тому, что ученые подробно разбирают качества библейско-онтологического пространства у поэтов Серебряного века. Среди таковых выделяют: особую протяженность («неведомая глубина»), световую наполненность, крестообразность («структура онтологического пространства моделируется крестом, организующим поле святости», с. 37), обратимость совершающихся процессов, указанное выше двоемирие, онтологическую наполненность («предельная полнота жизни»), ментальную пространственность, локализованную через «образ Памяти».
При работе с конкретными примерами ставка делается на постсимволистов. Собственно, ключевая глава монографии – вторая – озаглавлена: «Пространство и время в библейском дискурсе постсимволистов». К последним исследователи относят акмеистов, а также М. Волошина и Ю. Балтрушайтиса. Начинается глава с рассмотрения особого лирического фокуса в поэзии Н. Гумилева, для которого важной характеристикой пространственно-временного континуума была симультанность: «Временное пространство веков легко преодолевается автором, порою прошлое и будущее сосуществуют одновременно» (с. 58). Эта характеристика хронотопа, по мысли исследователей, кроется в библейском понимании истории как цепочки эманаций, у которых есть единый инвариант. Такое всевременное видение инспирировано проницаемостью границ между нашим миром и миром потусторонним, и поэт (как духовидец) способен быть медиатором этих реальностей.
Через такую же двойную оптику рассматривается и наследие Ахматовой и Мандельштама. Отмечается, что поэты используют не только библейскую символику, но строят свой хронотоп с учетом библейской темпоральности и локативности: «стремление акмеистов к целостному, гармоничному восприятию мира, к сакральному миру Библии дало возможность соединения двух миров (небесного и земного)…» (c. 97).
Во втором параграфе второй главы исследователи касаются мотивов начала и конца в библейском дискурсе М. Волошина. Одними из важнейших образов у Волошина (особенно в годы революционного лихолетия) становятся Голгофа и Апокалипсис. Подключается учеными не только поэтический материал, но и статьи Волошина, его воспоминания. Все это дает возможность создать целостный образ русской катастрофы как проекции евангельских и ветхозаветных (преимущественно, апокалипсических) пророчеств. Исследователи отмечают: «Наблюдение над библейским дискурсом поэта и, как следствие, обнаружение функционирования в его творчестве мотивов начала и конца (в непрерывном круге вечности), позволяет сделать вывод об историософской глубине поэтической концепции М. Волошина» (c. 105).
Следующий параграф посвящен библейскому пространству в наследии Ю. Балтрушайтиса. Нельзя сказать, что авторы монографии вводят это имя в научный оборот, но исследований его творчества в сравнении с количеством научных работ, посвященных, допустим, Мандельштаму, Блоку, Гумилеву, Цветаевой, Ахматовой, ничтожно мало. Соответственно, включение творчества Балтрушайтиса в исследовательский контекст постсимволизма не только актуально, но и перспективно. При этом нельзя не отметить, что А.Г. Коваленко, О.А. Пороль, П.В. Пороль тщательно проработали историю изучения творчества данного автора, указав на уже намечающиеся методологические подходы к его наследию и развив их. Отмечается, что Балтрушайтис был по многим миромоделирующим параметрам встроен в поэтику постсимволизма. Например, у поэта ярко проявлена тема двоемирия, данная с отчетливыми библейскими «коннотациями». Кроме того, этот автор демонстрирует то же логосное понимание поэтического слова, что и поэты-акмеисты. Это Слово, способное стать плотью, слово, преобразующее действительность и связующее горнее и дольнее: «Славословие Ю. Балтрушайтиса сродни псалмопению, во время которого происходит преодоление времени» (c. 114).
В третьей главе речь идет об онтологическом пространстве и идейно-смысловых доминантах русской поэзии первой трети ХХ в., которые рассматриваются преимущественно на материале творческого наследия акмеистов. Среди доминант выделяются мотивы: пути, света, семени, обращенного и остановившегося времени. Все они создают особую картину мира у акмеистов и рядя авторов, близких акмеизму. В главе применяется в том числе и компаративистский подход: сравниваются художественные миры Бунина, Пастернака, Блока, Мандельштама, Сологуба, Вяч. Иванова, Волошина и др.
Отметим обширный цитатно-иллюстративный материал, задействованный авторами монографии. Им мало указать на единичные примеры, подтверждающие тот или иной теоретический тезис, они дают весь спектр употреблений. Такая скрупулезность позволяет сделать общие выводы монографии весомее, если так можно выразиться, «нагляднее». Среди источников – не только Библия и святоотеческое наследие, но и религиозно-философская мысль рубежа веков, мемуарное, эпистолярное наследие. Все это делает итоговые выводы работы весомыми и методологически перспективными в контексте дальнейших исследований миромоделирующих основ поэтики русского модернизма, одним из столпов которого стали библейские представления об универсуме.
Об авторах
Виталий Александрович Гавриков
Брянский филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
Автор, ответственный за переписку.
Email: yarosvettt@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-7410-8714
доктор филологических наук, профессор кафедры государственного управления и менеджмента
Российская Федерация, 241050, Брянск, ул. Дуки, д. 61Список литературы
Дополнительные файлы