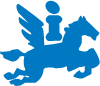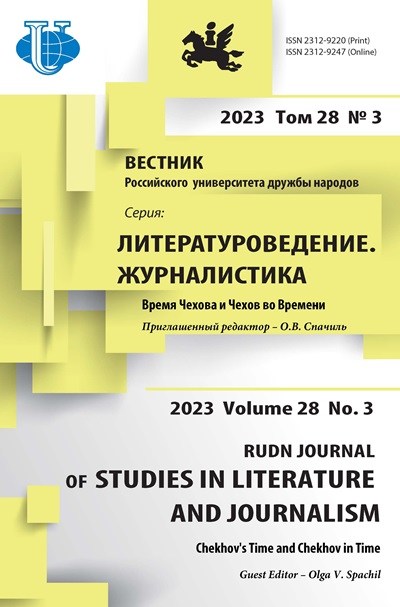Литературоведческий смысл чеховских «Обывателей»
- Авторы: Ахметшин Р.Б.1
-
Учреждения:
- Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
- Выпуск: Том 28, № 3 (2023): Время Чехова и Чехов во Времени
- Страницы: 451-461
- Раздел: Литературоведение
- URL: https://journals.rudn.ru/literary-criticism/article/view/36786
- DOI: https://doi.org/10.22363/2312-9220-2023-28-3-451-461
- EDN: https://elibrary.ru/RYRGWF
- ID: 36786
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Цель исследования - пополнить представления о хронологических рамках так называемого сахалинского этапа биографии Чехова. Для ее достижения проведен анализ истории возникновения рассказа «Учитель словесности». Судьба рассказа представляется несколько запутанной: он возник из синтеза двух текстов - «Обывателей» («Новое время», 28 ноября 1889 г.) и «Учителя словесности» («Русские ведомости», 10 июля 1894 г.). Стараясь избегать повторов, Чехов отказался от первого заголовка, дав рассказу, впервые увидевшему свет в сборнике «Повести и рассказы» (начало декабря 1894 г.), название «Учитель словесности». Как бы повторяя волю писателя, редакция полного собрания сочинений и писем А.П. Чехова не поместила «Обывателей» в 7-м томе, что создает эффект зияния. Вынужденный отказаться от драматического финала «Обывателей», Чехов впоследствии, видимо, все-таки восстановил его при создании «Учителя словесности», который первоначально представлял собой лишь вторую часть современного текста. Учитывая отложенный почти на пять лет финал «Обывателей», этот рассказ на фоне эпистолярных свидетельств может восприниматься как биографический факт, воплощающий состояние писателя накануне его поездки на остров Сахалин. Таким образом, размышления над сутью рассказа включаются в контекст вопросов о жанре книги «Остров Сахалин».
Ключевые слова
Полный текст
Введение
Биография создает фундамент концепции, теории и, конечно, веры, а потому нередко служит переходом от узкого к широкому смыслу явления жизни. Путешествие Чехова на Сахалин вызывает новые вопросы независимо от выбора биографических рамок (рассматривается имманентно и извне этого большого эпизода); ответить на них означает выявить все линии влияния на писателя сахалинской идеи как до, так и после путешествия на каторжный остров. Чехов использовал в своей работе далеко не все статьи и издания, посвященные дальневосточной колонии, но и в таком объеме, на который указывает его небольшая библиографическая коллекция, изрядно дополненная М.Л. Семановой (С. XIV‒XV, 891–897), мы понимаем, что в каком-то смысле Чехов не мог избежать сообщений о Сахалине и информационное давление на него основных тезисов данного контекста было более-менее постоянным. Это влияние не прекратилось и после издания книги «Остров Сахалин». Как крупные общественно-политические повременные издания, так и приложения к официальным изданиям, юмористические журналы и развлекательные, иллюстрированные издания в той или иной мере не могли миновать общих тем.
Вопрос, таким образом, заключается в том, как именно проявлялось это влияние. Возможно, именно насыщенность контекста публицистики того времени не оставляла выбора писателю, размышляющему, куда ему бежать. И, с другой стороны, почти не остается сомнений в том, что свое положение он расценивал как драматическое. Именно эта проблема затрагивается в настоящей работе через рассмотрение ранее непонятных явлений.
Обсуждение
В первую очередь обратимся к проблемам биографизма. Одна из них заключается в том, что современный биографизм как культурная модель и некий свод знаний опирается в основном на комментарии в полных собраниях сочинений и писем (ПССП), конечно, в том случае, если эти тексты изданы. Эта опора выявляет идейную соприродность биографии и жанра комментария. Биография восходит к комментарию генетически, с необходимостью, и это происходит помимо явления ПССП. Их структурное и историческое родство нуждается в том, чтобы стать предметом изучения в дальнейшем. Но если мы признаем, что биографическое представление (конечно, идеальное) воплощает свод принципов, определяющих не модель благополучной повествовательности, но пределы информационной состоятельности и мотивировки истории личности, то окажется, что оно вступает в весьма сложные отношения и с ПССП, и с летописью жизни и творчества имярек.
ПССП в этом отношении взаимодействует (или пребывает в отношениях дополнительности) с летописью жизни и творчества писателя и написанными биографиями, в особенности теми, в которых действительно, без манифестаций, задействуется значительный пласт архивной документалистики (Кузичева, 2004).
С данной точки зрения вызывают вопросы явления, как будто осмысленные и очевидные. Они и вынуждают высказать два возражения.
Первое связано с рассказом «Обыватели», точнее с фактом исключения его из корпуса 7-го тома ПССП А.П. Чехова (Чехов, 1974‒1983). Он был опубликован в газете «Новое время» (№ 4940 за 28 ноября 1889 г.) и хронологически принадлежит к группе произведений, относящихся к данному тому. Не вдаваясь в полемику с эдиционными задачами и принципами построения академического ПССП, блестяще выстоявшего в повсеместно распространившейся затее пересмотра чеховского наследия в юбилейные (2004, 2010 и т. п.) годы[1], заметим, что реконструкция и изучение истории создания полного собрания заслуживает пристального внимания. Именно этим вопросом, а не потребностью (безусловно, кажущейся) в полемике продиктована данная попытка рассмотреть текст, представляющийся, скорее, балластом, нежели необходимым элементом общей, прекрасно продуманной, композиции ПССП.
Структура ПССП А.П. Чехова заслуживает тщательного изучения и в историческом отношении, тем более что сейчас возникает возможность прикоснуться к этому материалу благодаря разысканным в НИОР РГБ критическим рецензиям, статьям и запискам Е.Н. Коншиной2 и некоторых членов Чеховской группы, работавших в самом начале над академическим 30-томником и анализировавших тома первого послевоенного собрания ‒ 20-томного (Коншина, л. 2 (об.)). Эта структура должна рассматриваться и как модель непосредственно, и в сравнении с другими ПССП советского периода, но это должно стать предметом следующей работы. Так или иначе, «зияние» в корпусе 7-го тома – любопытный случай.
Оно компенсируется только письмами, Летописью жизни и творчества Чехова и некоторыми, далеко не всеми, биографиями. Современное собрание сочинений, прежде всего повторяя волю писателя, против которой мы невольно выступаем, эту информацию нам не дает. Во вступительной статье А.П. Чудакова к произведениям, помещенным в данном томе, рассказ «Обыватели» среди литературных побед и в ряду событий триумфального марша Чехова накануне сахалинского путешествия не упоминается (С. VII, 614–623). И это понятно и непонятно одновременно.
Понятно потому, что «Обыватели» стали первой частью для «Учителя словесности», написанного поздней весной 1894 г. и опубликованного в «Русских ведомостях» (№ 188, 10 июля): повторы нежелательны, к тому же их позволяет избежать замечательная рубрика «Варианты» (С. VIII, 408–410). А непонятно вследствие того, что в комментариях 8-го тома и первый рассказ, «Обыватели», назван «Учителем словесности», так что след его стирается еще больше. И еще потому, что первый текст «Учителя словесности» есть лишь вторая часть нынешнего рассказа. Все подробности истории издания непросто свести воедино и реконструировать, так как рассказ, спрятавшись под шапкой второго заглавия, обрел нынешний вид в сытинском издании сборника «Повести и рассказы» в 1894 г., тогда как мы привычно воспринимаем сборники как переиздание прежних текстов. В 8-м томе собрания сочинений, изданном по договору с А.Ф. Марксом в 1901 г., текст «Учителя словесности» уже воспроизводится.
Второе необходимое возражение связано с жанровым термином «путевые записки» (подзаголовком книги «Остров Сахалин») и тем самым направлено, словно бы, против воли Чехова.
Понять это противоречие возможно при обращении к тому, что составляло предмет увлечений молодого Чехова. Это история, которую он неизменно рассматривал как базу своей теоретико-медицинской работы. Два проекта («История полового авторитет», «Врачебное дело в России») были задуманы до Сахалина, четвертый – посвященный «всем 60 земским школам» Серпуховского уезда (П. VI, 252), также не состоявшийся, – после завершения работы над книгой (С. XVI, 530–531). Но и композиция книги мешает воспринимать ее как путевые очерки: в ней сильно именно историческое начало, и очерк под пером Чехова демонстрирует в «Острове Сахалине» один из пределов своей мобильности, будучи способным к взаимодействию с историко-географическим, историко-медицинским и прочими по своим темам экскурсами, суть и природа коих, конечно, очерковая, но все же не путевая.
Логика путевых очерков мешает и авторскому замыслу обозрения, панорамы. В «Острове Сахалине» это имеет характер взаимоисключающий, потому что частично книга пишется как история, итог компилирующего чтения, а частично – как обозрение, итог собственных наблюдений и статистических разработок[3].
Поэтому в сознании читателя жанровая формула «Острова Сахалина» должна прийти в какое-то соответствие и со словом история, которое в данном случае не используется как термин, но остается понятием маркированным.
С одной стороны, размышление над проблемой «Обывателей», посвященное осмыслению биографии, с необходимостью исходит из исторического контекста, и этот контекст сложный. Так что речь пойдет не о нарративном понимании рассказываемой истории и не о каком-либо неизвестном сюжете Чехова (его ненаписанном рассказе), но о буквальном понимании истории и о том, какое отношение имеет сахалинское исследование Чехова к его потребностям в занятиях прошлым. С другой стороны, история как понятие требует развернутого анализа, в рамках такой работы его осуществить трудно. Поэтому следует ограничиться его тезисным планом и говорить о разных моделях (уровнях восприятия) истории как дисциплины и как сферы личных интересов писателя.
Во-первых, это естественная история – дисциплина, преподававшаяся в классических гимназиях и отмененная указом 1871 г., так что Александр Чехов еще слушал этот курс, а на долю Антона он не достался. Тем не менее Александр, судя по разным деталям, порой взывал к научной принципиальности младшего брата, пытался влиять на него и в конце сентября 1876 г. рекомендовал чтение «Космоса» А. фон Гумбольдта – «божественной книжицы» (Александр и Антон Чеховы.., 2012, с. 266), которая не произвела на Антона впечатления, о чем мы узнаем из письма к «любезнейшему Михаилу Михайловичу» спустя всего два месяца: «Скажите Саше, что я прочел „Космос“. Жаль мне Сашу: он не достиг своей цели, прося, чтоб я прочел его. Я остаюсь тем же и по прочтении „Космоса“» (П. I, 16).
Во-вторых, история России и трактовка ее больших этапов В.О. Ключевским, лекции которого Чехов слушал в университете. Здесь на первый план выдвигается идея естественной колонизации территории, приводящей к медленному завоеванию пространства сначала на европейской части, собственно, в России, а затем и дальше, вглубь Сибири. Эта теория не могла не найти отклика в сознании писателя. И она наложила отпечаток на идеологию «Острова Сахалина», в котором объект критики строго раскладывается: внутренняя политика, легитимность мер судебного воздействия и пенитенциарной системы, цивилизационные успехи на Сахалине, окупаемость каторги, которая должна мыслить себя как колония.
От этих двух аспектов исторической модели, сложившейся, надо полагать, в сознании молодого Чехова, мы можем перейти к той рациональной формуле или даже методе, которая сложилась в его жизни как формула труда, рациональной деятельности. Упорство – источник искусства и мастерства. Все художники так или иначе этому правилу подчинялись, даже если это вызывало насмешки над предвзятыми представлениями о разделении, в результате которого некоторые формы труда рассматривались как вид спорта, всегда бесполезного (ремесленные увлечения Л. Толстого на фоне публицистических самоистязаний его современников: критики иронизировали над первым и сетовали об иных). Здесь особое, даже почетное, место занимает история как род занятий. Но не одна она и, может быть, не история как таковая, а некая ее аллегория. На пути к ней Чехов предпринял иной выбор – не Карамзина, Пушкина, Л. Толстого, а скорее В.И. Даля, Н.С. Лескова, Вас.И. Немировича-Данченко, хотя все эти формы отрицания и сближения не создают эффекта идеального тождества. Несходство заключается в том, что порох (П. III, 204) взрывом своим обрек его на долгую, кропотливую работу.
Поэтому история как пережитой материал несет некий образный смысл, прокламируя осмысление итогов вообще, преодоление границ и порогов. Это материал личный, интимный, но не претендующий на буквальный автобиографизм. История как форма и содержание занятий писателя; это попытка осмыслить права пережитого прошлого на нынешнюю жизнь писателя. Нет никаких сомнений в том, что редакторы 7-го тома видели этот смысл, сжатый мной до неприлично узких бытовых рамок. Вследствие сохраняющейся в то время инерции языка культурного, языка интеллигентского понимали его лучше, чем наше поколение. Чехов становится звездой (расчет с Лейкиным состоялся несколько позже, но это на словах и, как обычно, в шутливой форме, и можно думать, что некоторое отвращение к карьере по лейкинскому рецепту могло сложиться у Чехова гораздо раньше, нежели возникла зарисовка о мяснике ‒ поклоннике Лейкина: «Моя мать, заказывая мяснику мясо, сказала, что нужно мясо получше, так как у нас гостит Лейкин из Петербурга. „Это какой Лейкин? – изумился мясник. – Тот, что книги пишет?“ – и прислал превосходного мяса. Стало быть, мясник не знает, что я тоже пишу книги, так как для меня он всегда присылает одни только жилы» (П. VI, 36–37)[4], но осознает масштаб своей славы, который в эту короткую пору может быть лишь узким. Приобрести вес в глазах лавочников, не способных подняться выше уровня газеты, – эта планка как дар судьбы могла неприятно поразить его своей доступностью – так легко обрел семейное счастие Никитин. Величие замысла достигается на просторах истории. Чехов апробирует на своих героях дорогу, путешествие – форму разрыва с привычным существованием.
Пересечение данных, различных, сфер в точке возникновения «Обывателей» представляется, вероятно, не просто умозрительным, спекулятивным, но даже невозможным. Вопрос об истории несколько прояснится, если мы рассмотрим книгу «Остров Сахалин» как третью попытку в рамках известной последовательности: нереализованных замыслов «Истории полового авторитета» и «Врачебного дела в России»[5]. Проблематизировать этот известный треугольник нет необходимости, нужно отметить, что к идеологии В.О. Ключевского Чехов относился весьма сочувственно. Это отношение выражается не только в книге «Остров Сахалин», но и трансформируется в последующие прозаические опыты Чехова, заставляющие думать о синтезе концепции национальной истории с современными представлениями о формах освоения мира, показывающем стабильность и неотменимость опыта колонизации.
Неочевидно, что это открывает новую сторону книги и чеховской прозы. Важно наметить черты поэтики на стыке биографического эпизода и исторической модели: без разработки этого аспекта представления о книге «Остров Сахалин» останутся неполными. В интересах полноты хотелось бы высказать одно соображение. Оно и связано с прозой последнего, досахалинского, года. О «Степи», «Скучной истории» мы обычно говорим как о повестях, прокладывающих новые пути в литературе. Но эти пути не такие прямые, как рисует биография, и обычно ведут исследователя по кругу[6]. Но мы говорим не о динамике стиля, а о свойствах личности, проявляющихся во времени. Кроме того, поиск нового нередко коренится в сведении счетов со старым. И вот об итогах прозы этого периода очень интересно задуматься. «Учитель словесности», думается, еще один рассказ, который обнаруживает интересующий нас вектор.
Эффект подведения итогов в «Степи» возникает благодаря ее «литературности»: повесть представляет собой попытку взять новую высоту при поддержке старой литературы. «Я залез в его (Гоголя. – Р.А.) владения с добрыми намерениями…» (Д.В. Григоровичу от 5 февраля 1888 г. – П. II, 190), тогда как многие читатели могли бы разделить точку зрения В.П. Буренина, считавшего повесть «прологом большой вещи» (со слов Ал.П. Чехова, см.: Александр и Антон Чеховы.., 2012, с. 508)[7]. Кроме того, «Степь» – это итог и детства в том смысле (Громов, 1993, с. 173–224), в каком обычно повести о детстве обозначают веху в писательской биографии. Это 1888 г.
А 1889 г. проходит для Чехова под знаком «Скучной истории»… «Учитель словесности», точнее, пока только «Обыватели», остается, к сожалению, в тени успеха[8], который стал более шумным благодаря «Иванову». Но контекст рассказа даже в неполном его виде позволяет говорить об умонастроении Чехова во многих отношениях – эмоционально, мнемонически и, таким образом, эстетически. В рамках автобиографической реконструкции «Степь» представляет собой взгляд не столько на природу, сколько на детство, пытающееся найти себя в ее космосе. «Скучная история» берет под прицел недавнее университетское прошлое, а «Обыватели» объединяют университет и гимназию с точки зрения главной задачи, которую еще только предстоит Чехову сформулировать и для решения которой ему потребуется весь арсенал накопленного знания (пробелы в нем дают себя знать – и это не только Лессинг, с которым к нему подступает П.М. Свободин). Не памяти, не эмоций, не жизненного опыта, а именно знания. Чем более крепнет посыл Чехова ехать, чем более оформляется замысел новой работы (как деятельности), идея новой книги, тем интереснее выглядят эти шаги назад.
Заголовок «Обыватели» не просто резюмирует широкую тему в чеховском творчестве, но и перекликается с эмоциональным состоянием писателя, готовящегося к поездке. Этот рассказ (вкупе с его продолжением в 1894 г.) становится идеальным воплощением уже пройденного сахалинского этапа в его узких рамках. В рассказе как мотив возникает один из существенных элементов, отражающих глубинный дух социальности, сформировавшейся к 1880-м гг. в результате реформ второй половины 1860-х: скука гимназической работы, тягостность педсоветов и уроков, банальность внеучебной действительности в лице «Митрополита Митрополитыча», чей путь завершается под рефрен «Волги, впадающей…» и сена как фуража (чем не география с зоологией? или, может, «часть суши», называющаяся островом (С. X, 111)?), – все противопоставляется нескучной поначалу истории любви молодых героев. Естественная история учителя Рыжицкого умещается лишь в прописных истинах и очевидных представлениях, о чем обычно стараются не говорить. Любая эпоха стремится обобщить самое себя, найти свой эсперанто, преодолеть собственное дилетантство и раздробленность.
Сюжет первой части рассказа, как известно, мог закончиться весьма драматически, совсем в духе проспекта, продолжающего повесть «Степь» (П. II, 190): «Несерьезный пустячок из жизни провинциальных морских свинок. Простите мне баловство... Между прочим, сей рассказ имеет свою смешную историю. Я имел в виду кончить его так, чтобы от моих героев мокрого места не осталось, но нелегкая дернула меня прочесть вслух нашим; все взмолились: пощади! пощади! Я пощадил своих героев, и потому рассказ вышел так кисел. В фельетон он влезет, а если не влезет, то придется мне сократить его», – писал Чехов А.С. Суворину 12 ноября 1889 г. (П. III, 284). Поэтому «Обыватели» и в дальнейшем «Учитель словесности» – это свернутый, невысказанный (не проговоренный до конца) проспект будущей, иной, жизни выпускника Московского университета со степенью кандидата. И к этой жизни идет еще один штрих. В книге «Чеховы» есть мимолетный, но очень веский аргумент, который менял бы все уравнение чеховской жизни, если бы ему нашлось применение в этой реальной математике существования, балансе семейного тяготения. В главе об отце А.П. Кузичева писала, что Чехову нужен был свой, отдельный, дом под Москвой, но это была неосуществимая мечта: «Антон обособиться не мог»; «...он предпочел бы жить один» (Кузичева, 2004, с. 45, 54). В этом смысле тема семейной идиллии может стать объектом поиска новых сюжетов у Чехова.
С одной стороны, в образе и скупой предыстории Никитина много чеховского. Энергии этого автобиографизма (или лиризма) хватает через край, так что многие лаконичные подробности в рассказе ведут к будущим программным текстам: «Страху» (1892), «Ариадне», «Дому с мезонином», «Моей жизни», «Ионычу», «Крыжовнику», «Трем сестрам»… словом, через пьесы до «Невесты». С другой стороны, это в определенном смысле антиавтобиография, поскольку речь идет о порывах, за которые Чехов себя должен был казнить. С этой точки зрения важно, как понимание или переживание драматизма судьбы трансформируется в сюжетный материал.
Заключение
Напряжение рассказа образует узел, в котором все так удивительно и в то же время неуловимо для нормального биографического повествования сходится, что обойти вниманием эту параллель было бы, как минимум, жаль. Здесь много реконструкции, а в реконструкции много несправедливости. Гимназический сюжет в рассказе, где герой должен пережить полный швах, нам представляется неслучайным. Возможно, в пространстве между финалом «Обывателей» и эпистолярным автокомментарием мы находим воплощение грани решимости, которую Чехов пережил, думая о Сахалине и развязывая свои домашние и общественные московские узлы. Любопытно, что первая часть рассказа «Учитель словесности» не опубликована и не прокомментирована в соответствии с хронологией своего возникновения. Наверное, это наивная претензия, снимаемая вышерассмотренными фактами (в том числе и публикации в «Русских ведомостях»), но, кажется, такая рокировка не помешала бы делу понимания Чехова. Если бы эти детали возникли в нынешнем 7-м томе «Сочинений», то был бы заполнен промежуток между «Скучной историей» и «Ворами». И соотношение комментариев к письмам Свободину с деталями содержания 1-й главы рассказа получилось бы более выразительным. Возросли бы общие смыслы. Принимая решение ехать, Чехов отходит на два шага назад. Он связывает две ступени своего формирования – университет и гимназию. Это «Скучная история», и это «Учитель словесности» – вторая скучная история. Обе должны закончиться мрачным финалом. Вот он, чеховский космос, объединивший профессора и морских свинок, бессильно копошащихся в пучине открывшихся им бытовых проблем. Это тот круг, который совершила жизнь в сознании Чехова, растоптав его последние иллюзии так жестоко, что заговорить он об этом смог только к концу работы над каторжной книгой – в прологе «Чайки».
1 Имеются в виду малозначимые попытки переиздать 30-томник (который, к тому же, увенчан справочным томом к корпусу писем) и тем самым, по сути, отменить данное издание, во многих отношениях представляющее собой необыкновенный итог и опыт работы специалистов, вошедших в Чеховскую группу ИМЛИ РАН.
2 НИОР РГБ. Ф. 619. К. 5. Е. х. 7. Заметки текстологического и методического характера в связи с подготовкой академического издания Полного собрания сочинений А.П. Чехова – 1960-е гг.
3 Отмечу, что недостаточное исследование связи книги с еще одним крупным явлением – жанром медико-топографических описаний, актуальных не только в смысле академической карьеры врача, но и с точки зрения земских задач, – лишь усугубляет эту композиционную проблему (Высоков, 2010, с. 247, 250, 844).
4 Еще более ранний, но далеко не первый вариант осмысления такого положения: «Иногда бывает: идешь мимо буфета III класса, видишь холодную, давно жареную рыбу и равнодушно думаешь: кому нужна эта не аппетитная рыба? Между тем, несомненно, рыба эта нужна, и ее едят, и есть люди, которые находят ее вкусной. То же самое можно сказать о произведениях Баранцевича. Это буржуазный писатель, пишущий для чистой публики, ездящей в III классе. Для этой публики Толстой и Тургенев слишком роскошны, аристократичны, немножко чужды и неудобоваримы. Публика, которая с наслаждением ест солонину с хреном и не признает артишоков и спаржи. Станьте на ее точку зрения, вообразите серый, скучный двор, интеллигентных дам, похожих на кухарок, запах керосинки, скудость интересов и вкусов – и Вы поймете Баранцевича и его читателей. Он не колоритен; это отчасти потому, что жизнь, которую он рисует, не колоритна... Он фальшив („Хорошие книжки“), потому что буржуазные писатели не могут быть не фальшивы. Это усовершенствованные бульварные писатели. Бульварные грешат вместе со своей публикой, а буржуазные лицемерят с ней и льстят ее узенькой добродетели» (П. V, 311). В этом письме подсчеты долгов книжной конторе Суворина соседствуют с иронической калькуляцией «чистой публики», читающей Баранцевича.
5 Нереализованный замысел невольно ассоциируется с изъяном, но процесс «Врачебного дела…» не оборвался вследствие ошибки или недостатка в авторе. Никто из исследователей этого замысла не говорит об ошибке и, видимо, не из ложного пиетета (Чехов и его среда, 1930, с. 124) и (С. XVI, 530–531).
6 А.П. Чудаков писал, правда в статье о Некрасове, что у зрелого Чехова не может быть газетных, поденных, вещей, какие встречаются среди поздних стихов Некрасова (Чудаков, 1992, с. 49).
7 Здесь еще можно отметить решимость Чехова, готового покончить со всем, если он «теперь не возьмет приза» – из письма к А.С. Лазареву-Грузинскому от 4 февраля 1888 г. (П. II, 187). Чехова, видимо, задело слово «вещица», производившее повесть «Степь» в ранг лейкинского «рассказца».
8 При этом еще двойственной: комментарии к 3-му тому Писем в ПССП и обе Летописи (старая и новая) расходятся в показаниях, когда написан рассказ – летом или в ноябре: «Эту черту Свободина Чехов использовал в рассказе „Обыватели“ <…>, который был написан летом 1889 г. (летом 1889 г. Свободин гостил у Чехова на Луке) и потом включен в рассказ 1894 г. „Учитель словесности“ в качестве первой главы. Чехов иногда называл в шутку Свободина Лессингом за его пристрастие к „Гамбургской драматургии“, о которой тот любил говорить». Таков комментарий к письму Суворину от 1 ноября 1889 г. (П. III, 428–429).
Об авторах
Руслан Борисович Ахметшин
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Автор, ответственный за переписку.
Email: ahmad-jin@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-8050-6586
кандидат филологических наук, доцент, доцент кафедры истории русской литературы, филологический факультет
Российская Федерация, 11991, Москва, Ленинские горы, д. 1, стр. 51Список литературы
- Александр и Антон Чеховы. Воспоминания, переписка / сост. Е.М. Гушанская, И.С. Кузьмичев; под ред. И.Н. Сухих. М.: Захаров, 2012. 960 с.
- Высоков М.С. Комментарий к книге А.П. Чехова «Остров Сахалин». Владивосток - Южно-Сахалинск: Рубеж, 2010. 848 с.
- Громов М.П. Чехов. М.: Молодая гвардия, 1993. 394 с.
- Кузичева А.П. Чеховы. Биография семьи. М.: Артист. Режиссер. Театр, 2004. 472 с.
- Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем: в 30 томах. М., 1974-1983.
- Чехов и его среда / под ред. Н.Ф. Бельчикова; предисл. В. Полянского. Л.: Academia, 1930. 466 с.
- Чудаков А.П. Слово и предмет в стихе Некрасова // Слово - вещь - мир. От Пушкина до Толстого / А.П. Чудаков. М.: Современный писатель, 1992. С. 46-69.
Дополнительные файлы