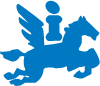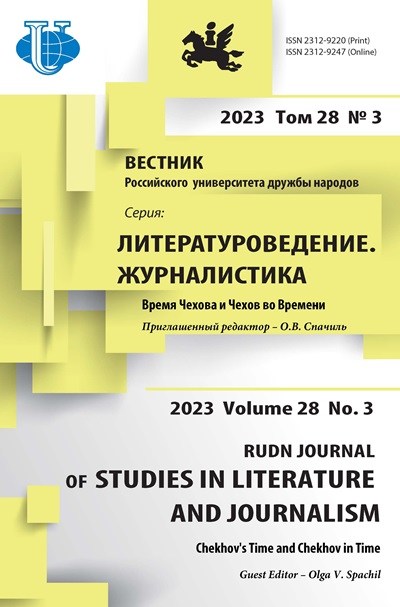Гипертексты «Анны Карениной» у Чехова
- Авторы: Кибальник С.А.1
-
Учреждения:
- Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук
- Выпуск: Том 28, № 3 (2023): Время Чехова и Чехов во Времени
- Страницы: 437-450
- Раздел: Литературоведение
- URL: https://journals.rudn.ru/literary-criticism/article/view/36785
- DOI: https://doi.org/10.22363/2312-9220-2023-28-3-437-450
- EDN: https://elibrary.ru/SAOAJQ
- ID: 36785
Цитировать
Аннотация
Отталкиваясь от показанной в предыдущих исследованиях гипертекстуальной полемичности по отношению к роману Льва Толстого «Анна Каренина» повести Чехова «Дуэль» и рассказа «Попрыгунья», автор рассматривает аналогичные явления в чеховских рассказах «Супруга», «О любви» и «Дама с собачкой». При этом в первом из них он видит своего рода саркастическую криптопародию на роман Толстого, а во втором и третьем - собственные вариации Чехова на этот сюжет, разыгрываемые в перспективе любовника. В рассказе «О любви» Чехов ставит своего рода художественный эксперимент: он показывает, что случилось бы с героями «Анны Карениной», если бы Алехин был больше похож на толстовского Левина, чем на Вронского. Что же касается «Дамы с собачкой», то в нем Чехов намечает возможность счастливого преодоления «любовниками» возникших перед ними многочисленных препятствий. Показано, что этот рассказ написан с отчетливой опорой на эстетику «преображения человека», общую для всей русской классики, - от Пушкина до Достоевского и Толстого (но только опять же сюжетной линии не Анны Карениной, а Константина Левина).
Ключевые слова
Полный текст
Введение
Широко распространено представление о том, что Чехов испытывал сильное влияние Толстого (см., например: Лакшин, 2011). В действительности, несмотря на сохранившийся до конца жизни интерес к нему, в большинстве своих произведений зрелого периода Чехов скорее полемизирует, чем солидаризируется с Толстым.
Не случайно еще 27 марта 1894 г. Чехов написал А.С. Суворину: «толстовская философия сильно трогала меня, владела мною лет 6–7, и действовали на меня не основные положения, которые были мне известны и раньше, а толстовская манера выражаться, рассудительность и, вероятно, гипнотизм своего рода. Теперь же во мне что-то протестует; расчетливость и справедливость говорят мне, что в электричестве и паре любви к человеку больше, чем в целомудрии и в воздержании от мяса. Война зло и суд зло, но из этого не следует, что я должен ходить в лаптях и спать на печи вместе с работником и его женой и проч. и проч. Но дело не в этом, не в „за и против“, а в том, что так или иначе, а для меня Толстой уже уплыл, его в душе моей нет и он вышел из меня, сказав: се оставляю дом ваш пуст. Я свободен от постоя» (П. V, 283–284).
На примере чеховских произведений конца 1880-х – начала 1890-х гг. мы уже показывали ранее, что, скажем, рассказ «Попрыгунья» (1892) или повесть «Дуэль» (1891)[1] представляют собой не просто гибридные гипертексты, но полемические интерпретации «Анны Карениной» (и в то же время романа Г. Флобера «Мадам Бовари») (Кибальник. Гипертексты.., 2021; Кибальник. Два доктора.., 2021). В них Чехов откровенно опровергает основную мысль романа Толстого.
В дальнейшем его творчестве эта полемичность приобретает еще более острые формы. Так, в рассказе «Супруга» (1895) Чехов даже пишет лишь слегка закамуфлированную жесткую пародию на «Анну Каренину».
Обсуждение
Рассказ Чехова «Супруга» как криптопародия на «Анну Каренину»
Первая половина этого рассказа представляет собой своего рода экспозицию, в которой намечена сюжетная ситуация. Доктор Николай Евграфович находит на столе у своей жены Ольги Дмитриевны телеграмму от ее любовника Мишеля, живущего в Монте-Карло.
Поскольку в совместной жизни с ней героя – между прочим, доктора – и раньше хватало «истерик, визга, попреков, угроз и лжи, наглой, изменнической лжи», то Николай Евграфович решается дать ей развод. Причем, как и Алексей Александрович Каренин после родов Анны, он готов пойти на жертву: «Я объяснюсь с ней; пусть она уходит к любимому человеку… Дам ей развод, приму вину на себя…» (С. IX, 95).
То есть в той же самой сюжетной ситуации любовного адюльтера, которую воспроизвел Толстой, муж у Чехова преисполнен великодушия Алексея Каренина. Ср. слова Каренина: «Я беру на себя позор, отдаю даже сына…» (Толстой, т. 19, с. 453). Однако героиня воспринимает это предложение как желание «избавиться» от нее.
Толстовская Анна не может принять «его великодушие» (Толстой, т. 19, с. 456) и уезжает с Вронским в Италию без развода, чем окончательно ставит себя вне закона. Чеховская Ольга Дмитриевна, отказываясь от развода, руководствуется совсем другими соображениями: « – Ты поедешь к Рису навсегда. Я дам тебе развод, приму вину на себя, и Рису можно будет жениться на тебе. – Но я вовсе не хочу развода! ‒ живо сказала Ольга Дмитриевна, делая удивленное лицо. – Я не прошу у тебя развода! Дай мне паспорт, вот и все» (С. IX, 98).
То есть она хочет поехать к своему любовнику Рису на месяц, а затем вернуться к мужу. Последовавший за этим разговор героев порождает в Николае Евграфовиче ощущение непреодолимых противоречий между ним и женой: «И опять, с недоумением, спрашивал себя, как это он, сын деревенского попа, по воспитанию – бурсак, простой, грубый и прямой человек, мог так беспомощно отдаться в руки этого ничтожного, лживого, пошлого, мелкого, по натуре совершенно чуждого ему существа» (С. IX, 99).
Как мы видим, в полном противоречии с широко распространенным представлением о чеховской «неопределенности» в «Супруге» никаких полутонов нет.
При этом последняя фраза представляет собой откровенную стилизацию под женоненавистнические пассажи героев Толстого – вроде восприятия Пьером Безуховым Элен Курагиной или героем «Крейцеровой сонаты» Василием Позднышевым его жены.
Между тем та же самая сюжетная ситуация в чеховской «Супруге» развивается анекдотически. Ольга Дмитриевна воспринимает желание Николая Евграфовича дать ей развод как намерение избавиться от нее и заодно от обязанности ее обеспечивать: «– Но почему же ты не хочешь развода? – спросил доктор, начиная раздражаться. – Ты странная женщина. Какая ты странная! Если ты серьезно увлеклась и он тоже любит тебя, то в вашем положении вы оба ничего не придумаете лучше брака. И неужели ты еще станешь выбирать между браком и адюльтером? – Я понимаю вас, – сказала она, отходя от него, и лицо ее приняло злое, мстительное выражение. – Я отлично понимаю вас. Я надоела вам, и вы просто хотите избавиться от меня, навязать этот развод. Благодарю вас, я не такая дура, как вы думаете. Развода я не приму и от вас не уйду, не уйду, не уйду! Во-первых, я не желаю терять общественного положения, – продолжала она быстро, как бы боясь, что ей помешают говорить, – во-вторых, мне уже 27 лет, а Рису 23; через год я ему надоем и он меня бросит. И в-третьих, если хотите знать, я не ручаюсь, что это мое увлечение может продолжаться долго... Вот вам! Не уйду я от вас. – Так я тебя выгоню из дому! – крикнул Николай Евграфыч и затопал ногами. – Выгоню вон, низкая, гнусная женщина! – Увидим-с! – сказала она и вышла» (С. IX, 98).
При этом Николай Евграфович явно стилизован под толстовского Пьера в сцене объяснения с Элен Курагиной после того, как тот обнаружил, что она изменяет ему с Долоховым: «– Нам лучше расстаться, – проговорил он прерывисто. – Расстаться, извольте, только ежели вы дадите мне состояние, – сказала Элен... – Расстаться, вот чем испугали! Пьер вскочил с дивана и шатаясь бросился к ней. – Я тебя убью! – закричал он, и схватив со стола мраморную доску, с неизвестною еще ему силой, сделал шаг к ней и замахнулся на нее. Лицо Элен сделалось страшно: она взвизгнула и отскочила от него. Порода отца сказалась в нем. Пьер почувствовал увлечение и прелесть бешенства. Он бросил доску, разбил ее и, с раскрытыми руками подступая к Элен, закричал: „Вон!!“ таким страшным голосом, что во всем доме с ужасом услыхали этот крик. Бог знает, что́ бы сделал Пьер в эту минуту, ежели бы Элен не выбежала из комнаты» (Толстой, т. 11, с. 31).
Как мы видим, по сравнению с Пьером Безуховым Николай Евграфович ведет себя хотя и сходным, но куда более мирным образом.
Концовка рассказа «Супруга» самая саркастическая. Парадоксальным образом она даже делает его немного похожим на ранние юморески Чехова: «Когда в одиннадцать часов он надевал сюртук, чтобы ехать в больницу, в кабинет вошла горничная. – Что вам? – спросил он. – Барыня встали и просят двадцать пять рублей, что вы давеча обещали» (С. IX, 98).
Возможно, эта концовка представляет собой пародию на развязку процитированной выше сцены объяснения Пьера с Элен: «Через неделю Пьер выдал жене доверенность на управление всеми великорусскими имениями, что составляло бо́льшую половину его состояния, и один уехал в Петербург» (Толстой, т. 11, с. 31).
Пародия на Толстого у Чехова, таким образом, получается довольно жесткая и вдобавок многовекторная – не только на «Анну Каренину», но и на «Войну и мир». Не случайно Толстой находил этот чеховский рассказ «безобразным нравственно»: «Бывает так, но художник не должен описывать» (цит. по: С. IX, 466). Очевидно, он был убежден в том, что нужно описывать только ситуации, подобные той, которую он сам изобразил в «Анне Карениной»: когда герои соревнуются между собой в великодушии (хотя в жизни такое встречается довольно редко). Чехов же явно придерживался ровно противоположного мнения.
Впрочем, «Анну Каренину» он еще не раз «переписал» в гораздо менее саркастическом, более конгениальном с Толстым ключе. Достаточно, например, вспомнить его рассказы «О любви» (1898) и «Дама с собачкой» (1899).
«Анна Каренина» в перспективе любовника
В них мы находим более мягкий по сравнению с «Супругой» вариант сюжетной трансформации романа Толстого «Анна Каренина». Разница в том, что теперь та же самая сюжетная ситуация воспроизведена у Чехова в перспективе любовника.
В первом из этих двух рассказов адюльтер остается лишь возможностью, нереализованной в жизни ее героев. Во втором они, как и герои «Анны Карениной», идут до конца. И в финале полны решимости преодолеть все возникающие перед ними трудности.
Наиболее отчетливым символическим сигналом гипертекстуальной соотнесенности обоих произведений с «Анной Карениной» являются такие же, как у героини Толстого «Анны Аркадьевны», анафорические имена-отчества. Героиню рассказа «О любви» зовут Анна Алексеевна, а героиню «Дамы с собачкой» – Анна Сергеевна.
В последнем случае ситуация осложнена тем, что имя-отчество «дамы с собачкой» полностью совпадает с именем-отчеством «холодной» тургеневской героини из его романа «Отцы и дети», которая, несмотря на свою симпатию к Базарову и незамужнее положение, все же воздерживается от того, чтобы ринуться вместе с ним в водоворот страстей. Впрочем, отдельные ассоциации с Одинцовой, по-видимому, вызывает и Анна Алексеевна Луганович: «”тайну молодой, красивой, умной женщины, которая выходит за неинтересного человека, почти за старика (мужу было больше сорока лет)…“ можно проследить в судьбе героини И.С. Тургенева. За сорокалетнего старика Одинцова выходит замуж двадцатилетняя Анна Сергеевна Локтева в романе „Отцы и дети“» (Богданова, 2019, с. 454).
Герои же этих двух произведений ‒ Алехин и Гуров – немного похожи друг на друга тем, что занимают в жизни как будто бы не свое место. Когда Павел Алехин впервые предстает перед читателем в рассказе «Крыжовник», он с самого начала кажется «похожим больше на профессора или художника, чем на помещика» (С. X, 56). Когда же читатель навсегда расстается с ним в рассказе «О любви», Буркин и Чимша-Гималайский «жалели, что этот человек с добрыми, умными глазами, который рассказывал им с таким чистосердечием, в самом деле вертелся здесь, в этом громадном имении, как белка в колесе, а не занимался наукой или чем-нибудь другим, что делало бы его жизнь более приятной» (С. X, 74).
Так что, когда мы знакомимся с героем «Дамы с собачкой» Дмитрием Гуровым, у нас отчасти возникает впечатление, что это все тот же герой рассказа «О любви», только немного постаревший по сравнению с Алехиным периода его влюбленности в Анну Луганович: «Ему не было еще сорока[2]. <…> Гуров рассказал, что он москвич, по образованию филолог, но служит в банке; готовился когда-то петь в частной опере, но бросил…» (С. X, 130).
Правда, «у него была уже дочь двенадцати лет и два сына-гимназиста», так что парадоксальным образом это как бы Алехин с судьбой Лугановича – то есть такой Алехин, которому все же досталась Анна Алексеевна. Но дело, разумеется, не в этом, а в том, что с самого начала обоих произведений в характеристике их главных героев намечен общий мотив: «реальная жизнь как нечто противоположное человеческим стремлениям и мечтам».
Как не суждено Алехину стать ученым – мотив, который скоро будет снова использован применительно к герою «Трех сестер» Андрею Прозорову, – так не суждено ему стать любовником Анны Луганович. И причина этого – не что иное, как его образ мыслей, в котором преобладают заявленные с самого начала рассказа мотивы морального долга, его склонность к размышлениям и колебаниям – одним словом, все то, чего совершенно не было в характере Вронского: «Так и мы, когда любим, то не перестаем задавать себе вопросы: честно это или нечестно, умно или глупо, к чему поведет эта любовь и так далее. Хорошо это или нет, я не знаю, но что это мешает, не удовлетворяет, раздражает – это я знаю» (С. X, 67).
Как мы видим, Алехин больше похож на толстовского Левина, чем на Вронского. Впрочем, в своих рассуждениях он проигрывает альтернативный вариант развития своего любовного романа с Анной Луганович, представляя себя в роли других, тургеневских героев – по всей видимости, прежде всего из романа «Накануне» ‒ революционера Инсарова, ученого Андрея Берсенева, скульптора Павла Шубина: «Другое дело, если бы у меня была красивая, интересная жизнь, если б я, например, боролся за освобождение родины или был знаменитым ученым, артистом, художником, а то ведь из одной обычной, будничной обстановки пришлось бы увлечь ее в другую такую же или еще более будничную» (С. X, 72).
Как известно, сам Тургенев, создавая своих героев, по собственному признанию, всегда вдохновлялся образами других людей: Бакунина, Добролюбова[3]. Нельзя сказать, что этого не было в Чехове, но в своем позднем творчестве он, наряду со скрытым использованием реально-биографических прототипов, в большей степени оперирует литературными типами.
В отличие от Алексея Вронского, Павел Алехин так и не вступает в любовные отношения с Анной Алексеевной Луганович. Казалось бы, все должны быть довольны и счастливы. Однако результат оказывается противоположным: «В последние годы Анна Алексеевна стала чаще уезжать то к матери, то к сестре; у нее уже бывало дурное настроение, являлось сознание неудовлетворенной, испорченной жизни, когда не хотелось видеть ни мужа, ни детей. Она уже лечилась от расстройства нервов.
Мы молчали и все молчали, а при посторонних она испытывала какое-то странное раздражение против меня; о чем бы я ни говорил, она не соглашалась со мной, и если я спорил, то она принимала сторону моего противника. Когда я ронял что-нибудь, то она говорила холодно: – Поздравляю вас. Если, идя с ней в театр, я забывал взять бинокль, то потом она говорила: – Я так и знала, что вы забудете» (С. X, 73).
Наконец, в финале рассказа «О любви» Алехин, казалось бы, осознает, что ошибался, не дав хода своему любовному чувству: «Когда она уже простилась с мужем и детьми и до третьего звонка оставалось одно мгновение, я вбежал к ней в купе, чтобы положить на полку одну из ее корзинок, которую она едва не забыла; и нужно было проститься. Когда тут, в купе, взгляды наши встретились, душевные силы оставили нас обоих, я обнял ее, она прижалась лицом к моей груди, и слезы потекли из глаз; целуя ее лицо, плечи, руки, мокрые от слез, – о, как мы были с ней несчастны! – я признался ей в своей любви, и со жгучей болью в сердце я понял, как ненужно, мелко и как обманчиво было все то, что нам мешало любить. Я понял, что когда любишь, то в своих рассуждениях об этой любви нужно исходить от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье, грех или добродетель в их ходячем смысле, или не нужно рассуждать вовсе».
Но тогда почему же он хотя бы теперь не действует сообразно с этим его новым «пониманием»: «Я поцеловал в последний раз, пожал руку, и мы расстались – навсегда. Поезд уже шел. Я сел в соседнем купе, – оно было пусто, – и до первой станции сидел тут и плакал» (С. X, 73).
Ведь Анна Алексеевна едет в Крым одна, причем об этом было известно заблаговременно: «Было решено, что в конце августа мы проводим Анну Алексеевну в Крым, куда посылали ее доктора, а немного погодя уедет Луганович с детьми в свою западную губернию» (С. X, 74).
И тем не менее Алехину даже не приходит в голову ехать с ней или за ней и, наконец-то, в самом деле поступить, исходя «от высшего, от более важного, чем счастье или несчастье, грех или добродетель в их ходячем смысле» (С. X, 74).
Очевидно, дело здесь в том, что Алехин по-настоящему любит Анну Алексеевну и стремится не просто к любовной победе. По-видимому, с его точки зрения, время для решительных перемен в ее жизни ушло. Но, может быть, главная причина его нерешительности, по крайней мере, в том числе – по-прежнему его характер?
В рассказе «О любви» Чехов ставит своего рода художественный эксперимент. Он показывает, что случилось бы с героями «Анны Карениной», если бы Алехин был больше похож на толстовского Левина, чем на Вронского.
Между тем Гуров в самом начале «Дамы с собачкой», как и Вронский, лишен алехинского пристрастия к самоедству: «Опыт многократный, в самом деле горький опыт, научил его давно, что всякое сближение, которое вначале так приятно разнообразит жизнь и представляется милым и легким приключением, у порядочных людей, особенно у москвичей, тяжелых на подъем, нерешительных, неизбежно вырастает в целую задачу, сложную чрезвычайно, и положение в конце концов становится тягостным. Но при всякой новой встрече с интересною женщиной этот опыт как-то ускользал из памяти, и хотелось жить, и все казалось так просто и забавно» (С. X, 129).
Так что, когда от рассказа «О любви» мы переходим к «Даме с собачкой», у нас может возникнуть впечатление, что именно Дмитрий Гуров встретит в Крыму Анну Луганович. И доведет до конца то, чего не сделал Алехин, – наконец, даст ей то, чего ей недоставало: реальную любовную связь, которая восполнит ей не во всем удовлетворяющее ее супружество…
Впрочем, это ощущение, конечно же, кажущееся. Потому что Анне Сергеевне Дидериц, как это с самого начала явственно обозначено в «Даме с собачкой», требовалось не просто любовное приключение.
Дмитрий Луганович и Алексей Суворин
Между тем общие черты у этих двух чеховских героинь, разумеется, есть. Ведь если у Анны Сергеевны, по ее собственным ощущениям, муж «лакей» (С. X, 132), то у Анны Алексеевны он скучный обыватель.
Говоря точнее, по словам героя-рассказчика, Дмитрий Луганович – «добряк, один из тех простодушных людей, которые крепко держатся мнения, что раз человек попал под суд, то, значит, он виноват, и что выражать сомнение в правильности приговора можно не иначе, как в законном порядке, на бумаге, но никак не за обедом и не в частном разговоре» (С. X, 69).
В связи с этим О.В. Богданова справедливо отметила, что многое в Лугановиче сближает его и с Беликовым, и со Старцевым: «…человек, хотя и благородный, но в чем-то похожий на Беликова из „Человека в футляре“. Последующие (в том числе речевые) характеристики персонажа только усиливают беликовскую составляющую его личности. <…> Герой, который „держится около солидных людей“, заставляет вспомнить текст чеховского „Ионыча“, главный персонаж которого без интереса, но с почтительною постоянностью посещает губернский клуб и уважаемых в городе вельмож. Эпитеты „вялый, ненужный“, кажется, вновь порождают аллюзии к уже упомянутому образу Дмитрия Ионыча Старцева (заметим, Луганович и Старцев тезки, оба Дмитрии)» (Богданова, 2019, с. 451–452, 454).
Важные штрихи в образ Лугановича вводит его реальный жизненный прототип. Некоторые исследователи склонны верить воспоминаниям Л.А. Авиловой, в которых она рассказывает, что таким прототипом был ее муж, а в основе рассказа лежит так и несостоявшийся любовный роман Чехова с ней (см. например: Богданова, 2019, с. 455–456).
Однако скорее в основе его совсем другие отношения Чехова – с А.С. Сувориным и с его второй женой Анной Ивановной Сувориной. Судя по всему, кроме сильной взаимной симпатии, между ним и ею никогда ничего не было[4]. Но разве такой симпатии недостаточно, чтобы из этого зерна развился сюжет художественного произведения?
Тем более что Анна Ивановна также была значительно (на целых 24 года) моложе Алексея Сергеевича. И примерно такой же была разница в возрасте между Анной Алексеевной и Лугановичем: «Тогда она еще была очень молода, не старше двадцати двух лет и за полгода до того у нее родился первый ребенок <…> я старался понять тайну молодой, красивой, умной женщины, которая выходит за неинтересного человека, почти за старика (мужу было больше сорока лет)…» (С. X, 71–72).
Когда Чехов познакомился с А.И. Сувориной зимой 1885 г., ей уже было 27 лет, и у нее уже был не один ребенок. За Алексея Сергеевича Суворина она вышла замуж еще в 1877 г. Но ведь и про Анну Алексеевну Луганович далее говорится: «Между тем годы шли. У Анны Алексеевны было уже двое детей» (С. X, 73).
Вот как Чехов воспринимал Анну Ивановну Суворину через несколько лет после знакомства с ней в 1888 г.: «Видаю много женщин; лучшая из них – Суворина. Она так же оригинальна, как и ее муж, и мыслит не по-женски. Говорит много вздора, но если захочет говорить серьезно, то говорит умно и самостоятельно. <…> Обладает необыкновенным талантом без умолку болтать вздор, болтать талантливо и интересно, так что ее можно слушать весь день без скуки, как канарейку. Вообще человек она интересный, умный и хороший»[5] (П. II, 298).
А вот как она сама готовилась к знакомству с Чеховым в их, с А.С. Сувориным, петербургском доме: «Я, конечно, заинтересовалась этою восходящею звездою, горела желанием скорей с ним познакомиться и просила мужа, чтобы он привел Московского гостя ко мне, в мою гостиную: почему-то мне не хотелось знакомиться с ним в громадном, заваленном книгами кабинете мужа, всегда наполненном людьми, часто посторонними; у меня же был хорошенький, уютный и веселый уголок. Помню очень хорошо, что я положила на свой стол мои два любимые романа: „M-me Bovary“ и „Анну Каренину“, – для чего сама не знаю» (Суворина, 1925, с. 185)[6].
Уже этого, кажется, достаточно для начала многолетнего скрытого увлечения, а появление Чехова в доме Сувориных и затем долгий перерыв перед следующей встречей Анны Ивановны с ним вполне могли отозваться в чеховском рассказе вот так: «У вас вялый вид. Тогда, весной, когда вы приходили обедать, вы были моложе, бодрее. Вы тогда были воодушевлены и много говорили, были очень интересны, и, признаюсь, я даже увлеклась вами немножко. Почему-то часто в течение лета вы приходили мне на память и сегодня, когда я собиралась в театр, мне казалось, что я вас увижу» (C. X, 70).
Разумеется, многие особенности и детали взаимоотношений Алехина с Анной Луганович могли иметь и другое происхождение. А то и вовсе быть плодом чистой фантазии Чехова. Но есть в рассказе один разговор героев, который прочно связывает Лугановичей именно с Сувориными.
Прототипическая связь с ними выходит на поверхность в рассказе Алехина о законопослушности Лугановича как «товарища председателя окружного суда» (С. X, 68): «В деле поджигателей обвинили четырех евреев, признали шайку и, по-моему, совсем неосновательно. За обедом я очень волновался, мне было тяжело, и уж не помню, что я говорил, только Анна Алексеевна все покачивала головой и говорила мужу: ‒ Дмитрий, как же это так? <…> – Мы с вами не поджигали, ‒ говорил он мягко, ‒ и вот нас же не судят, не сажают в тюрьму» (С. X, 69).
В истории с «поджигателями», по всей видимости, отозвалось так называемое «дело Дрейфуса». Как известно, серьезные разногласия с Сувориным по отношению к этому нашумевшему на всю Европу делу как раз и развели Чехова и Суворина в конце 1890-х гг.
Французский офицер еврейского происхождения Альфред Дрейфус в 1894 г. был оговорен военным командованием, обвинен в шпионаже в пользу Германии и приговорен к пожизненной ссылке. Все передовые силы Франции выступили с протестом против этого. Эмиль Золя напечатал в газете пламенную статью «Я обвиняю!», за которую был приговорен к году тюрьмы.
Чехов, неоднократно бывавший в эти годы во Франции, был яростным «дрейфуссаром». Он неоднократно убеждал Суворина в подложности документов, по которым был обвинен Дрейфус. Суворин соглашался с Чеховым. Однако продолжал печатать в своей газете материалы против Дрейфуса. Ведь эта позиция была близка правительственным кругам.
На опыте личного общения с Сувориным Чехов не раз убеждался, как страшны равнодушие и бесхарактерность. «Крайней бесхарактерностью» Суворина Чехов объяснял травлю Дрейфуса в «Новом времени» вскоре после того, как сам Суворин в ответ на доводы в его защиту написал ему в письме: «Вы меня убедили» (Ковалевский, 2005, с. 111). Писателю Ивану Леонтьеву-Щеглову Чехов однажды сказал: «Я очень люблю Суворина, очень, но знаете ли, Жан, бесхарактерные люди подчас в серьезные минуты жизни бывают вреднее злодеев» (цит. по: Литературное наследство, 1960, с. 488)[7].
Как и сам Чехов, воспринимавший «дело Дрейфуса» очень болезненно, герой чеховского рассказа Алехин «за обедом очень волновался», ему «было тяжело», и он уж не помнит, что «говорил» (С. X, 69). Между тем поведение Лугановича в вопросе о «поджигателях»-евреях показывает, что муж Анны Алексеевны не просто скучный обыватель, а беспринципный, косный человек, склонный к любым компромиссам с властями предержащими. В то время как героиня не лишена чувства справедливости.
Рассказ «О любви» Чехов писал в июне – июле 1898 г. А незадолго до этого он прервал отношения и переписку с Сувориным из-за «дела Дрейфуса». Чашу его терпения переполнило то, что «Новое время» позволило себе «выливать помои» на Эмиля Золя за его пламенное открытое письмо президенту Франции в защиту Дрейфуса «Я обвиняю». За это письмо французский писатель 23 февраля (7 марта) 1898 г. был обвинен в клевете и осужден на тюремное заключение.
В тот же день Чехов писал из Ниццы брату Александру: «В деле Зола «Нов<ое> время» вело себя просто гнусно. По сему поводу мы со старцем обменялись письмами (впрочем, в тоне весьма умеренном) – и замолкли оба. Я не хочу писать и не хочу его писем, в которых он оправдывает бестактность своей газеты тем, что он любит военных, – не хочу, потому что все это мне уже давно наскучило. Я тоже люблю военных, но я не позволил бы кактусам, будь у меня газета, в Приложении печатать роман Зола задаром, а в газете выливать на этого же Зола помои – и за что? за то, что никогда не было знакомо ни единому из кактусов, за благородный порыв и душевную чистоту. И как бы ни было, ругать Зола, когда он под судом, – это не литературно» (П. VII, 175).
Так что отношения Анны Луганович с ее мужем, тоже – как и в случае с Алексеем Карениным – чиновником и сухарем, в чеховском рассказе «О любви» получают еще одно, весьма актуальное и политически острое измерение, которого не было у Толстого.
«Дама с собачкой» и «Анна Каренина»
Что же касается «Дамы с собачкой», то она связана с Толстым множеством незримых нитей.
Как толстовский Иван Ильич, а затем и созданный позднее чеховский Вершинин из «Трех сестер», Гуров «не любил бывать дома» (С. X, 128). Впрочем, своим первоначальным легкомысленным отношением к любовным связям он явным образом похож на Вронского: «… при всякой новой встрече с интересною женщиной этот опыт как-то ускользал из памяти, и хотелось жить, и все казалось так просто и забавно», «… но все же в обращении с ней, в его тоне и ласках сквозила тенью легкая насмешка, грубоватое высокомерие счастливого мужчины, который к тому же почти вдвое старше ее» (С. X, 129, 135).
Причем в этом отношении он совсем не меняется и после начала его любовной связи с Анной Сергеевной: «Гурову было уже скучно слушать, его раздражал наивный тон, это покаяние, такое неожиданное и неуместное; если бы не слезы на глазах, то можно было бы подумать, что она шутит или играет роль» (С. X, 33).
Аналогичным образом Анна Сергеевна в начале рассказа, если судить по внешним приметам, похожа на Анну Каренину. В день, в который она станет любовницей Гурова, у нее, когда она «обращалась» к нему, «блестели глаза» (С. X, 131). Эта же примета постоянно подчеркивается в Анне после ее знакомства с Вронским: «В этом коротком взгляде Вронский успел заметить сдержанную оживленность, которая играла в ее лице и порхала между блестящими глазами и чуть заметной улыбкой, изгибавшею ее румяные губы. Как будто избыток чего-то так переполнял ее существо, что мимо ее воли выражался то в блеске взгляда, то в улыбке. Она потушила умышленно свет в глазах, но он светился против ее воли в чуть заметной улыбке. <…> Каждый раз, как он говорил с Анной, в глазах ее вспыхивал радостный блеск, и улыбка счастья изгибала ее румяные губы» (Толстой, т. 18, с. 65, 86).
Cходство между героинями Чехова и Толстого сохраняется и после того, как Анна Сергеевна становится любовницей Гурова. «„Нехорошо, ужасно“, „я дурная, низкая женщина“, „пусть бог меня простит“ таковы оценки Анны Сергеевны своего поступка – подытоживал самоощущение Анны Карениной Н.И. Пруцков. – Через весь роман проходят характеристики, раскрывающие тяжелое нравственное состояние Анны: „мучительная краска стыда“, „преступная радость“, „когда-то гордая, а теперь постыдная голова“, „позорная связь“, „преступная жена“, „позорное положение женщины“, бросившей мужа и сына и соединившейся с любовником и т. д.» (Пруцков, 1971, с. 237).
Чеховская героиня как будто бы испытывает примерно то же самое: «Анна Сергеевна, эта „дама с собачкой“, к тому, что произошло, отнеслась как-то особенно, осень серьезно, точно к своему падению, – так казалось, и это было странно и некстати. У нее опустились, завяли черты и по сторонам лица печально висели длинные волосы, она задумалась в унылой позе, точно грешница на старинной картине. – Нехорошо, – сказала она. – Вы же первый меня не уважаете теперь. <…> – Чем мне оправдаться? Я дурная, низкая женщина, я себя презираю и об оправдании не думаю» (С. X, 132).
Впрочем, если к толстовской Анне Аркадьевне лишь постепенно приходит сознание уязвимости ее собственной позиции, то чеховская Анна Сергеевна ощущает ее сразу. И в этом отношении временами скорее напоминает Катерину из «Грозы» А.Н. Островского: «Простые люди говорят: нечистый попутал. И я могу теперь про себя сказать, что меня попутал нечистый» (С. X, 133)[8].
Это связано с тем, что в действительности чеховская Анна с самого начала существенно отличалась от толстовской: «Анне Карениной „слишком самой хотелось жить“ (8, 115). И это осознавалось ею как жизнь с любимым человеком. Чеховской Анне тоже „хотелось пожить“. Но это осознается ею уже не просто как свободная жизнь с любимым человеком, а как жажда „лучшего“, как стремление к „другой жизни“. Анна Каренина чувствует свою вину перед мужем. <…> Чеховская Анна не чувствует этой вины. Она вполне осознает, что обманула не мужа, а самое себя, так как искала „другую жизнь“, а оказалась, как ей представилось, „пошлой дрянной женщиной, которую всякий может презирать“» (Пруцков, 1971, с. 241).
По-видимому, не случайно Толстой в основном называет свою героиню Анной, а Чехов – Анной Сергеевной. По мере развития сюжета «Дамы с собачкой» противоположность чеховской истории адюльтера по отношению к толстовской становится все более явственной.
Отношения Вронского с Анной в каком-то смысле так и остаются на стадии адюльтера. Постепенно они даже становятся в положение раздраженных противников: «„Дух зла и обмана“, что-то „жестокое“, „бесовское“, проступающее сквозь „прелесть“ Анны на балу в Москве, „непроницаемая броня лжи“, на которую наталкивается Каренин, пытаясь вызвать Анну на откровенность <…> – все это рисует страсть Анны как роковое наваждение, а не как светлое и возвышенное чувство» (Купреянова, 1964, с. 340–341).
Между тем отношения Гурова с Анной Сергеевной с течением времени превращаются в любовь с большой буквы: «Чехову, так сказать, не нужна была любовь как фатально действующая стихийная и разрушительная сила. Ему нужна была любовь-благо как сила соединяющая, гуманизирующая и возвышающая. Любовь Гурова и „дамы с собачкой“ была прежде всего делом их духовного мира» (Пруцков, 1971, с. 241, 243).
И происходит это, во-первых, благодаря временному духовному «перерождению» Гурова, которое он испытывает под воздействием этой любви еще в Крыму: «Гуров думал о том, как, в сущности, если вдуматься, все прекрасно на этом свете, все, кроме того, что мы сами мыслим и делаем, когда забываем о высших целях бытия, о своем человеческом достоинстве. <…> Совершенная праздность, эти поцелуи среди белого дня, с оглядкой и страхом, как бы кто не увидел, жара, запах моря и постоянное мелькание перед глазами праздных, нарядных, сытых людей точно переродили его; он говорил Анне Сергеевне о том, как она хороша, как соблазнительна, был нетерпеливо страстен, не отходил от нее ни на шаг…» (С. X, 134).
А во-вторых, благодаря тому внутреннему кризису, через который он проходит позднее, уже в Москве: «Гуров не спал всю ночь и возмущался и затем весь день провел с головной болью. И в следующие ночи он спал дурно, все сидел в постели и думал или ходил из угла в угол. Дети ему надоели, банк надоел, не хотелось никуда идти, ни о чем говорить» (С. X, 137).
Неожиданно Гуров при этом начинает напоминать уже не Вронского, а влюбленных героев позднего Пушкина – Дон Гуана, полюбившего Донну Анну, и Анджело – в тот момент, когда, увлекшись Изабелой, он теряет покой:
День целый Анджело безмолвный и угрюмый
Сидел, уединясь, объят одною думой,
Одним желанием; всю ночь не тронул сон
Усталых вежд его. <…>
Размышлять, молиться хочет он,
Но мыслит, молится рассеянно. Словами
Он небу говорит, а волей и мечтами
Стремится к ней одной. В унынье погружен,
Устами праздными жевал он имя бога,
А в сердце грех кипел. Душевная тревога
Его осилила. Правленье для него,
Как дельная, давно затверженная книга,
Несносным сделалось. Скучал он; как от ига,
Отречься был готов от сана своего…
(Пушкин, 1948, т. 5, с. 114–115)
Получается, что герои Чехова действительно «не потеряли себя, а нашли себя» (Пруцков, 1971, с. 237). Если же «самое сложное и трудное» в их жизни тем не менее «только еще начинается» (С. X, 143), то оно заключено не «в самом характере любви Анны и Вронского, как у Толстого, а в их запутанных семейных отношениях, в которых они оказались вследствие совершенных ими ранее ошибок.
А заключительные слова о том, что «эта любовь изменила их», как будто бы прямо отсылают читателя к многочисленным хрестоматийным пушкинским стихотворениям о преображающем воздействии любви на душу человека. И становится понятно: рассказ написан с отчетливой опорой на эстетику «преображения человека», общую для всей русской классики, – от Пушкина до Достоевского и Толстого (но только опять-таки сюжетной линии не Анны Карениной, а Константина Левина).
Заключение
Повествование Чехова отражает интригующий «доконцептуалистский» подход. Стоит отметить, что главные герои его более поздних произведений могут быть связаны с четко определенными литературными прототипами, некоторые из которых происходят из конкретных литературных произведений, а другие встроены в более широкую сферу русской классики. Следовательно, Чехов больше не рассказывает исключительно о персонажах, рожденных в результате встреч в реальной жизни; скорее, он мастерски создает свои собственные интерпретации мотивов, которые находят отклик в этих знаменитых литературных прототипах.
[1] В «Дуэли» Чехов показывает, что, казалось бы, погибший в нравственном отношении герой может, вследствие тех или иных драматических обстоятельств жизни, резко перемениться. И неожиданно оказаться способным на «восстановление» как будто бы уже окончательно «погибшего человека», если воспользоваться выражениями Ф.М. Достоевского (Достоевский, т. 20, с. 28).
2 Между тем в то время, когда происходит действие рассказа «Крыжовник», Алехин уже «мужчина лет сорока» (С. 10; 56).
3 Как признавался сам Тургенев, он «никогда не покушался „создавать образ“, если не имел исходною точкою не идею, а живое лицо, к которому постепенно примешивались и прикладывались подходящие элементы» (Тургенев, т. 11, с. 86).
4 Характерно, что она сама в своих воспоминаниях о Чехове сразу задает тургеневские ориентиры в их взаимоотношениях: «Как и Григорович и муж мой, я тоже поддалась обаянию Чехова. Первое мое чувство… было то, что он должен походить на одного из любимых моих героев – на Базарова. Так почему-то мне представилось» (Суворина, 1925, с. 185).
5 Письмо Чеховым от 22–23 июля написано из Феодосии, где Чехов гостил на крымской даче Сувориных.
6 Там же.
7 По всей видимости, с А.С. Сувориным связаны и многие другие образы Чехова: от профессора Николая Степановича из «Скучной истории» (см.: Кубасов, 1998, с. 236–238) до доктора Чебутыкина из «Трех сестер» (см.: Кибальник, 2022, с. 270‒275).
8 Ранее – также скорее диссонансно, чем унисонно – с ней была соотнесена героиня чеховской «Драмы на охоте» (1884–1885) Оленька (см. об этом: Кибальник, 2023).
Об авторах
Сергей Акимович Кибальник
Институт русской литературы (Пушкинский Дом) Российской академии наук
Автор, ответственный за переписку.
Email: kibalnik007@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-5937-5339
доктор филологических наук, ведущий научный сотрудник
Российская Федерация, 199034, Санкт-Петербург, наб. Макарова, д. 4Список литературы
- Богданова О.В. Русская литература XIX – начала XX века. Традиция и современная интерпретация. СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2019. 732 с.
- Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: в 30 томах. Л., 1972‒1990.
- Кибальник С.А. «Драма на охоте» Чехова как гибридный гипертекст А.Н. Островского // Проблемы исторической поэтики. 2023. № 4 (в печати).
- Кибальник С.А. Гипертексты Флобера у Чехова // Литературоведческий журнал. 2021. № 3 (53). С. 100–111. http://doi.org/10.31249/litzhur/2021.53.06
- Кибальник С.А. Два доктора: Осип Дымов и Шарль Бовари (интертекстуальная структура рассказа Чехова «Попрыгунья») // Проблемы исторической поэтики. 2021. Т. 19. № 3. С. 187–205. http://doi.org/10.15393/j9.art.2021.9922
- Кибальник С.А. Тайнопись русских писателей: от Пушкина до Набокова. СПб.: Петрополис, 2022. 434 с.
- Ковалевский М.М. Моя жизнь. Воспоминания. М.: РОССПЭН, 2005. 784 с.
- Кубасов А.В. Проза А.П. Чехова: искусство стилизации. Екатеринбург: Урал. гос. пед. ун-т, 1998. 399 с.
- Купреянова Е.Н. «Война и мир» и «Анна Каренина» Льва Толстого // История русского романа: в 2 томах. М. ‒ Л.: Наука, 1964. Т. 2. С. 270–349.
- Лакшин В. Толстой и Чехов: в 2 томах. Том 2. М.: Московские учебники, 2010.
- Литературное наследство. Т. 68. Чехов. М.: Изд-во Академии наук, 1960. 965 с.
- Пруцков Н.И. Об одной параллели («Анна Каренина» Толстого и «Дама с собачкой» Чехова) // Поэтика и стилистика русской литературы. Памяти академика Виктора Владимировича Виноградова. Л.: Наука, 1971. С. 236–246.
- Пушкин А.С. Анджело // Полное собрание сочинений: в 16 томах. Том 5. М. ‒ Л., 1948. С. 107–129.
- Суворина А.И. Воспоминания о Чехове // А.П. Чехов: затерянные произведения, неизданные письма, новые воспоминания, библиография. Л.: Атеней, 1925. С. 185–195.
- Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений: в 90 т. М. ‒ Л.: Гослитиздат, 1928–1958.
- Тургенев И.С. После «Отцов и детей» // Полное собрание сочинений и писем: в 30 томах. Том 11. Пьесы 1878‒1888 / И.С. Тургенев. М., 1981. С. 86–97.
- Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем: в 30 томах. М.: Наука, 1973–1983.
- Чехов и Толстой: к 100-летию памяти Л.Н. Толстого // Чеховские чтения в Ялте: сборник научных трудов / сост. и науч. ред. А.Г. Головачева. Симферополь: Доля, 2011. Вып. 16. 292 с.
Дополнительные файлы