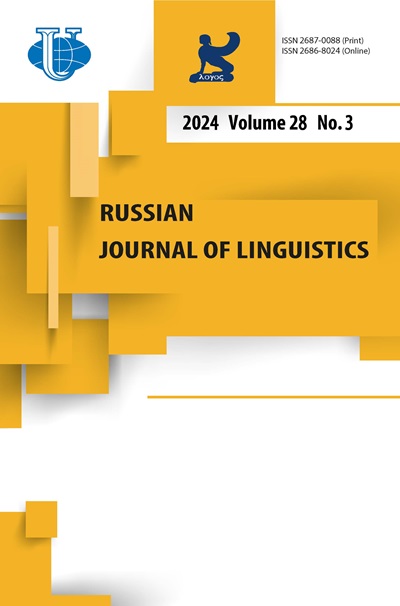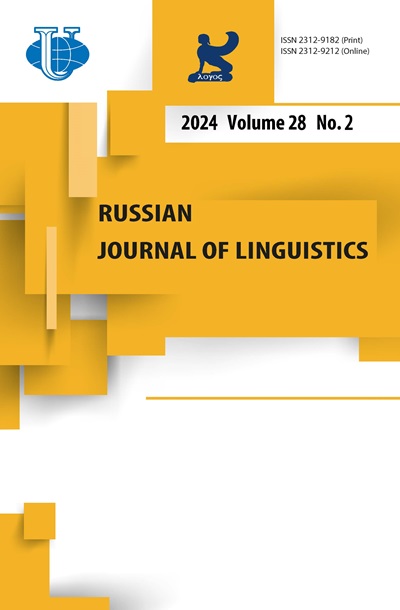Направления исследования миромоделирования в российской лингвистике: парадигмальные рамки и понятийный аппарат
- Авторы: Кушнерук С.Л.1
-
Учреждения:
- Челябинский государственный университет
- Выпуск: Том 28, № 2 (2024)
- Страницы: 439-465
- Раздел: Статьи
- URL: https://journals.rudn.ru/linguistics/article/view/39440
- DOI: https://doi.org/10.22363/2687-0088-35762
- EDN: https://elibrary.ru/DVZOQG
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В первой четверти XXI века понятие миромоделирования вызывает большой интерес современных ученых и активно разрабатывается в теории литературы, текста и дискурса. Трактовка данного понятия в лингвистике существенно отличается от литературоведения, что определяет актуальность исследования этого сложного ментально-языкового феномена в рамках науки о языке. Цель настоящей статьи - провести обзор отечественных публикаций, в которых поднимаются проблемы моделирования мира в языке и коммуникации. Она конкретизируется задачами систематизировать направления исследования феномена в рамках когнитивно-дискурсивной парадигмы и обозначить в каждом из них потенциал научной проблематики. В статье представлены результаты осмысления новейших наработок российских специалистов, обращающихся к феномену миромоделирования в речевых практиках. Выборка составляет 334 публикации, извлеченные из общенациональной информационно-аналитической системы eLIBRARY. Отстаивается идея о том, что под влиянием господствующей парадигмы в лингвистике оформляется самостоятельное когнитивно-дискурсивное направление исследования миромоделирования. Устанавливается, что метанаучная широта когнитивно-дискурсивного подхода к изучению миромоделирования получает конкретизацию, что ведет к появлению дискретных направлений исследования, аккумулирующих свою систему понятий. Обсуждается научный потенциал лингвокогнитивного, концептуального, функционального, аксиологического, семантико-стилистического, когнитивно-прагматического и лингвоидеологического направлений. Приводятся аргументы относительно того, что логика развития дискретных направлений определена межпарадигмальным взаимодействием, благодаря которому знание о репрезентации мира в коммуникации выстраивается на общих парадигмальных принципах, а также достижениях частных дисциплин. В заключительной части внимание уделяется возможностям разработки лингвокультурологического, социально-семиотического, лингвоперсонологического, психолингвистического направлений, которые начинают заявлять о себе в отдельных публикациях. Утверждается и объясняется, что междисциплинарность делает возможным сочетание нескольких векторов анализа миромоделирования. Результаты исследования могут использоваться для совершенствования теории когнитивно-дискурсивного миромоделирования в лингвистике и ее применения в социогуманитарной сфере.
Полный текст
Введение
Статья содержит обзор российских публикаций первой четверти XXI в., посвященных проблеме миромоделирования в лингвистике. В широком смысле понятие миромоделирования соотносится с функцией языка, заключающейся в представлении образа мира и его фрагментов в речевой деятельности. В указанный период времени понятийный аппарат активно разрабатывается в теории литературы, текста и дискурса, что влечет за собой оформление двух магистральных линий исследования.
Художественное миромоделирование уходит корнями к работам филологов-классиков (Ю.М. Лотмана, В.Н. Топорова, Б.А. Успенского, В.Е. Хализева), посвященным эстетике литературного творчества. Вслед за Ю.М. Лотманом художественное произведение рассматривается как модель мира (Лотман 2018), а специалисты обращаются к целому спектру проблем – художественному методу писателя (Гарипова 2020, Меркель, Тулушева 2020), принципам смыслообразования и миромоделирования (Ларина 2018), миромоделирующим категориям (Гильяно 2020), моделям пространства и времени как отражению результатов авторского миропонимания (Кулешова 2013). Понятие миромоделирования в этой области филологии преимущественно используется в значении способов и приемов, благодаря которым конструируются художественные миромодели, передающие концепцию писателя. Системно-структурный анализ составляющих авторских миромоделей способствует закреплению понятий миропроектирования, мироконструирования, мироструктурирования, которые используются для обозначения аспектов «образного умопредставления» в пределах «возможного мира», реализуемого на уровне структур художественного текста (Гарипова 2020). В теоретико-методологическом плане литературоведческая традиция опирается на трактовку модели мира В.Н. Топорова: «сокращенное и упрощенное отображение всей суммы представлений о мире в данной традиции, взятых в их системном и операционном аспектах <...> Само понятие «мир», модель которого описывается, целесообразно понимать как человека и среду в их взаимодействии; в этом смысле мир есть результат переработки информации о среде и о самом человеке» (Топоров 1980: 161).
Фундаментальное для неклассической парадигмы художественности понятие модели мира выходит за пределы теории литературы и в начале нынешнего столетия занимает позиции в постнеклассической науке о языке (Цивьян 2009: 5). Такая преемственность, по нашему мнению, обусловлена несколькими факторами, главные их них – дифференциация филологии (Лихачёв 1989), смена «языкоцентричных» изысканий текстоцентричными и дискурсивными и расширение диапазона лингвистических исследований за счет включения в их орбиту ментальных и коммуникативных факторов.
Последний из названных, по всей видимости, объясняет востребованность термина «языковая картина мира» (Вежбицкая 2000, Зализняк, Левонтина, Шмелев 2005). Конкурирование в научном пространстве смежных, но не тождественных понятию миромоделирования терминов происходит под влиянием господствующей в языкознании когнитивно-дискурсивной парадигмы с ядром в виде дискурс-анализа, интегрирующего разнородные подходы, аналитические инструменты и методологии (Била, Иванова 2020, Иванова, Хакимова 2020, Понтон, Ларина 2017). Понимание того, что в речевых практиках объективируются фрагменты картины мира, оказывающие регулирующие воздействие на мировидение адресата в различных сферах коммуникации, стимулирует развитие когнитивно-дискурсивного миромоделирования.
В парадигмальных условиях лингвистики понятие миромоделирования трактуется иначе, чем в литературоведении, что требует осмысления, определяет актуальность настоящей работы и ее цель – произвести обзор отечественных научных публикаций, выделить дискретные направления исследования феномена в рамках когнитивно-дискурсивной парадигмы и обозначить в каждом из них потенциал научной проблематики.
Парадигмальные рамки исследования миромоделирования
Под лингвистической парадигмой принято понимать совокупность идей и теорий, выдвинутых разными авторами и формирующих систему взглядов, в соответствии с которой в определенный момент истории объясняются языковые явления. Парадигмы отличаются гетерогенностью и выстраиваются в иерархию (Н.Ф. Алефиренко). По аналогии с идеями Э. Рош об уровнях категоризации можно определить место парадигмы в общей системе лингвистических парадигм ее нахождением на суперординатном, базовом и субординатном уровнях. Антропоцентрическая парадигма занимает положение суперпарадигмы, устанавливающей общий ход научной мысли, предопределенный В. фон Гумбольдтом, о единстве мира, человека и языка. На базовом уровне располагаются дисциплинарные макропарадигмы, из которых в настоящее время главенствует когнитивно-дискурсивная. Нижний ярус предоставлен парадигмам-спецификаторам, охватывающим частное дисциплинарное знание (парадигмы когнитивной лингвистики, дискурс-анализа, лингвопрагматики и др.).
Развитие в лингвистике самостоятельного, отличного от художественного, направления исследования миромоделирования можно объяснить качеством полипарадигмального предпосылочного знания на основе следующих доказанных в науке фактов. Во-первых, когнитивно-дискурсивная парадигма принимает постулат интегративности, то есть она синтезирует принципы антропоцентричности, функциональности, системоцентричности, при этом обязательным является рассмотрение языковых явлений в неразрывном единстве когниции (семантики) и коммуникации (прагматики) (Кубрякова 1995, 2004, 2009). Во-вторых, внутрипарадигмальные и межпарадигмальные связи способствуют полиаспектному исследованию обсуждаемого явления, что прогнозирует появление разных сосуществующих подходов, уживающихся в пределах научного поля. В-третьих, когнитивно-дискурсивный подход к исследованию языковых явлений базируется на том, что в основе дискурсивной деятельности лежит концептуальная картина мира, существующая в сознании говорящих, а язык выступает инструментом ее овнешнения.
Обеспечивая таким образом теоретическую платформу для изучения миромоделирования в коммуникации, когнитивно-дискурсивная парадигма вместе с тем формирует «рамочную» конструкцию, которая широко, но ограничивает способы и образцы решения исследовательских задач. В ее пределах складывается обобщенный объект исследований – миромоделирование как контекстуально обусловленный процесс и результат конструирования реальности в дискурсе средствами языка. Его изучение определено рядом значимых положений об участии языка в моделировании социального взаимодействия, систематизированных С.Л. Кушнерук: 1) язык является средством осуществления дискурсивной деятельности, имеющей когнитивные основания; 2) язык выступает поверхностной формой, которая выражает концептуальные структуры, определяющие мировосприятие и поведение людей в социуме; 3) любое знание существует в виде ментальных репрезентаций, которые объективируются средствами языка, их анализ дает возможность установить дискурсивно-специфичные формы портретирования действительности, подчиненные целям коммуникации в конкретной сфере социального взаимодействия; 4) язык структурирует представление реальности и выступает инструментом социальной власти, которая ограничивается в дискурсе по причинам онтологического и институционального характера; 5) язык рассматривается как эффективное средство внедрения в когнитивную систему человека концептуальных конструктов, благодаря которым формируются, обновляются, прививаются социальные взгляды, мнения и оценки (Кушнерук 2019: 299).
В такой системе взглядов обозначены две стороны явления: когнитивный аспект миромоделирования обусловлен ментальными процессами обработки поступающей извне информации, а дискурсивный (языковой) связан с актуализацией знаний и представлений формами текстуальности в конкретных речевых практиках с учетом социального контекста. Чтобы подчеркнуть двуединство, используется терминосочетание «когнитивно-дискурсивное миромоделирование», которое обозначает переработку и структурирование информации о среде и человеке в дискурсе, приводящее к образованию ментально-языковых (репрезентационных) структур (Кушнерук 2019, 2023).
Обращает на себя внимание, что в настоящее время метанаучная широта когнитивно-дискурсивного подхода к изучению миромоделирования уточняется. Осмысление новейших наработок позволяет выделить в пространстве российского языкознания несколько сосуществующих направлений, кристаллизация которых происходит под влиянием аксиоматики когнитивно-дискурсивной парадигмы, акцентирующей ментальные и языковые факторы представления знаний и их роль в процессах понимания мира. Логика парадигмального развития мысли объясняет непротиворечивость того, что на переднем крае отечественной лингвистики оказываются исследования, разрабатывающие такие понятия, как концептуализация, категоризация, концептосфера, когнитивная база, картина мира, репрезентация, дискурс, коммуникация и др. Очевидно, что под эгидой функционализма эта тенденция является следствием междисциплинарной интеграции идей когнитивистики, прагматики, дискурсологии. Нельзя не заметить, что на фоне концептуальной «разомкнутости» лингвокогнитивных исследований в смежные области научное знание подвергается дискретизации, а в понятие миромоделирования вкладывается все более конкретное содержание.
Направления исследования миромоделирования в рамках когнитивно-дискурсивной парадигмы
В настоящее время дисциплинарную рамочную конструкцию для разработки проблематики миромоделирования преимущественно формируют когнитивная лингвистика, лингвистика текста и дискурса. Предметы исследований варьируются в зависимости от частных целей и задач при ее изучении в дискурсе: виртуальном (Л.М. Гриценко), диалектном (С.В. Волошина, Д.Н. Галимова, Т.А. Демешкина), рекламном (С.Л. Кушнерук, А.В. Проскурина, Т.Е. Цимбалова), военном (К.В. Волчок), политическом (А.В. Дмитриева, Е.С. Курукалова, А.П. Чудинов), научном (Е.А. Панасенко), учебном (А.В. Курьянович, Е.А. Серебренникова), песенном (Е.О. Васильева), интернет-дискурсе (М.Р. Бабикова, Л.М. Гриценко, О.В. Орлова, Ю.А. Эмер), телеграм-дискурсе (Э.В. Будаев, С.Л. Кушнерук, М.А. Курочкина), медиадискурсе (В.Н. Еремкина, Л.И. Ермоленкина, Д.Н. Никитина, В.В. Лабутина, О.В. Орлова, Е.О. Шевелева). Такое положение дел свидетельствует о том, что «под зонтиком» когнитивно-дискурсивной парадигмы лингвистики появляются автономные направления, каждое из которых аккумулирует свою систему понятий. В нижеследующих разделах обсуждается научный потенциал работ, в которых развиваются лингвокогнитивное, концептуальное, функциональное, аксиологическое, семантико-стилистическое, когнитивно-прагматическое, лингвоидеологическое направления. В финальном подразделе объединены направления исследования миромоделирования, которые находятся на первоначальной стадии разработки и, фактически, представлены одной-двумя публикациями, но, вместе с тем, они содержат результаты, достаточные для установления приоритетов, открывающих научные перспективы.
3.1. Лингвокогнитивное направление
Лингвокогнитивное направление исследования миромоделирования зарождается в недрах когнитивной лингвистики, интерпретирующей язык как открытую систему, свойства которой определяются процессами концептуализации. Объектами изучения выступают концептуально-сложные понятия, такие как языковая картина мира, образ мира, метафорические модели, модели образной интерпретации. Понимание миромоделирования выстраивается на том, что воплощенная средствами языка картина мира задает систему ценностных ориентаций человека и оказывает регулирующее воздействие на его поведение. В соотношении двух понятий миромоделирование отождествляется с процессом, в результате которого появляется картина мира как ментально-языковой продукт.
Для становления данного направления наибольшей теоретической значимостью обладают публикации З.И. Резановой (Резанова 2010, 2011). Принятие идей функционализма с первичной ролью целеполагания в построении моделей языковой коммуникации приводит к отграничению языковой картины мира от дискурсивной. Первая, по мнению ученого, представляет собой «воплощение особого способа ментально-языкового членения действительности, объективированного в структурах внешней языковой формы» (Резанова 2010: 29), вторая интерпретируется как «часть языковой картины мира, воплощенная в тексте, текстах, порождаемых в некоем типовом социально-психологическом контексте с типовыми коммуникантами, и моделируется она с использованием того же набора методов, что и языковая картина мира» (Картины русского мира 2007: 26). Принципиальное отличие здесь видится в выделенности смыслов. В первом определении очевиден акцент на когнитивной составляющей термина, то есть на содержании и значении, стоящими за совокупностью языковых форм. Во втором подчеркивается праксиологический аспект – связь между объективированным средствами текстуальности содержанием и деятельностью человека в типовых социальных контекстах.
В большинстве публикаций, однако, языковая и дискурсивная картины мира не дифференцируются, а их влияние друг на друга не устанавливается. Внимание специалистов концентрируется на пространственных моделях мира и языковых моделях пространства (Картины русского мира 2007), а также отдельных способах представления информации о мире средствами языка (Галимова 2013, Катунин, Антонова 2010). В этом кругу особая роль отводится метафорическому миромоделированию. Отмечается, что в лингвокогнитивном плане метафора формирует ведущий принцип миромоделирования, сам механизм метафоризации рассматривается как ведущий объяснительный принцип явлений ментальной и языковой природы (Катунин, Антонова 2010). На основе специфики речевых единиц изучается отражение в метафоре практического опыта (Галимова 2013), а фрагменты языковой картины мира реконструируются за счет описания их миромоделирующего потенциала (Резанова 2011).
Отличительной чертой проводимых исследований миромоделирования считаем синтез частных дисциплинарных установок, придающий научному анализу многофакторность и позволяющий увидеть больше граней сложного феномена. Лингвокогнитивный анализ дополняется лингвокультурологическим для установления характеристик национальной картины мира. Так, миромоделирование связывается со свойством метафоры определять направления смыслового развития в процессах текстообразования, что способствует выявлению общих принципов метафорического моделирования в аспекте культурной специфики литературных и диалектных форм русского языка (Резанова 2010). Лингвокультурологический вектор прогрессирует в лингвокогнитивных исследованиях жанрового миромоделирования (Эмер 2013). Например, жанры небылицы, получающие реализацию в русской и китайской лингвокультурах, представляют собой источники информации о разном мировосприятии, а способы миромоделирования систематизируются специалистами через пропозициональные структуры (Беляева, Проскурина 2022). Сопоставительное изучение миромоделирования с точки зрения организации жанра и ограничений, накладываемых социумом, представляется весьма перспективным, поскольку пропозициональная структура выступает своеобразной линзой культурно-специфичного видения ситуаций.
Думается, что методология лингвокогнитивного исследования миромоделирования нуждается в совершенствовании ввиду динамической природы дискурса и его способности к порождению сложно организованных коммуникативных пространств со многими переменными. Следует признать, однако, что обоснование теоретически значимого понятия дискурсивной картины мира с учетом когнитивного, языкового, социального, культурного опыта и прагматических установок коммуникантов задает перспективный научный вектор, открывая путь изучению дискурсивно-специфичных миромоделей, определяющих понимание явлений действительности в разных лингвокультурах. Должное внимание к данной проблеме способно внести вклад в развитие теории языка и межкультурной коммуникации.
3.2. Концептуальное направление
Концептуальное направление, также как лингвокогнитивное, уходит корнями к постулатам когнитивной науки. Между двумя нет непроходимых границ. Фактически концептуальное направление уточняет границы применимости лингвокогнитивного в отношении более узкого предмета. Поскольку термин «концепт», обозначающий элемент ментального лексикона человека, отражающий его опыт и знания, относится к числу базовых в когнитивной лингвистике, во многих статьях миромоделирование осмысляется в связи с образованием концептуальных структур и их языковой объективацией. Понятийный аппарат направления включает термины, традиционные для дисциплины («концепт», «концептуализация», «концептуальная структура»), а также те, которые раскрывают отдельные свойства миромоделирования («миромоделирующий потенциал концепта»).
Справедливости ради следует подчеркнуть, что необозримое число публикаций, посвященных концептам, находится за пределами настоящего обзора по причине того, что в них не рассматривается связь двух когнитивных явлений. В сухом остатке, как следствие, остаются работы, авторы которых включают понятия концепта и миромоделирования в проблематику ментально-языкового моделирования и с этих позиций обращаются к особенностям оязыковления концептов в языке (Потураева 2010), тексте (Курьянович, Серебренникова 2022), дискурсе (Орлова 2012), единичных жанрах (Никитина 2013). Нужно признать, однако, что соответствующие рабочие термины часто используются как само собой разумеющиеся и не требующие пояснений, а их соотношение, к сожалению, лишено ясности.
В самом первом приближении связь между двумя понятиями заключается в том, что они отличаются степенью концептуальной сложности и отражают разные аспекты ментально-языковой репрезентации знаний о мире. Единичные работы демонстрируют комплексность подхода. Так, предлагая полипараметрическую модель исследования концептов в дискурсе по критериям семиотической плотности, особенностей линейной реализации, образно-оценочных и ценностных репрезентаций и представлений, С.Л. Кушнерук доказывает, что концепт является дискурсивной единицей миромоделирования, многократная объективация которой в речевых практиках прогнозирует утрату и/или появление новых ассоциативных корреляций, что определяет характер репрезентации событий (Кушнерук 2019: 158–161). Предложенный вектор анализа позволяет переосмыслить то, что уже известно о статических признаках ментальных единиц (их системном потенциале) для изучения динамики концептов, получающих «оречевление» в дискурсе. Несколькими годами ранее мысль о том, что при объективации ментальной структуры в дискурсе на первый план выходят ее вариативные составляющие, высказывается О.В. Орловой в терминах дискурсивной и стилистической маркированности концепта (Орлова 2012).
В обозначенном ракурсе когнитивные исследования все отчетливее приобретают качество коммуникативно-ориентированных, а приращение знаний о семантической эволюции ментальной единицы и ее трансформациях в дискурсивных практиках обнаруживает значимое свойство концепта – его миромоделирующий потенциал. Такой вывод обладает большой эвристической ценностью, хотя само понятие трактуется учеными по-разному. Например, раскрывая содержание термина «миромоделирующий потенциал», А.В. Курьянович, Е.А. Серебренникова указывают на способность концепта «участвовать в построении модели национальной картины мира на уровне конкретного фрагмента» (Курьянович, Серебренникова 2022: 327). Представляется, что такая формулировка довольна расплывчата, а акцент на динамике изменений концепта, предопределенной целями коммуникации, требует уточнения с учетом структурно-содержательной целостности когнитивной единицы. В силу сказанного миромоделирующий потенциал концепта предлагается трактовать как способность ментальной единицы формировать фрагмент картины мира за счет актуализации понятийной, образной и ценностной составляющих когнитивной единицы в процессах ассоциативно-смыслового развертывания в дискурсе.
Предположительно, под таким углом анализ модификаций концептов (содержательного обогащения/обеднения) в текстовых совокупностях может обеспечить более глубокое проникновение в суть динамических факторов дискурсопорождения. Не менее перспективно, по нашему мнению, изучение миромоделирующего потенциала концептов в направлении от языка к культуре с учетом семантико-когнитивных (лексических и грамматических средств доступа к содержанию) и знаковых (вербальных, невербальных, паравербальных) особенностей их репрезентации в дискурсивной картине мира.
3.3. Функциональное направление
Поскольку когнитивно-дискурсивная парадигма является функциональной, закономерно стремление исследователей объяснять языковые формы их функциями. Изучение миромоделирования в этом направлении делает обязательным обращение к дискурсу, в котором язык функционирует в реальном времени. Дискурс интересует специалистов не сам по себе, но с точки зрения производства и воспроизводства речевых форм в текущий момент и понимания, какую роль они играют в репрезентации мира.
Методологической опорой этих публикаций являются идеи, заложенные в трудах В.З. Демьянкова, Е.С. Кубряковой, Ю.С. Степанова о дискурсе и миросозидающей функции языка. Во-первых, дискурс определяется как форма «использования языка в реальном времени, которая отражает определенный тип социальной активности, создается в целях конструирования особого мира с помощью детального языкового описания и является частью процесса коммуникации между людьми» (Кубрякова 2004: 525). Во-вторых, утверждается, что язык выполняет миросозидающую функцию, которая заключается в конструировании мира при его «портретировании» (интерпретации фрагментов мира в языке) (Кубрякова 2009: 5–12). Признание того, что представления о мире конструируются дискурсивно, разжигает интерес исследователей к речевым механизмам смыслогенерации.
При рассмотрении миромоделирования сквозь призму «языка в действии» в качестве обобщенного объекта современных исследований выступают функции разнотипных средств языка, жанров, концептуальных структур, метафор. Так, жанр как минимальная моделирующая динамическая система, зависящая от языка и социального контекста, изучен на примере частушки (Эмер 2013), загадки (Абдрашитова 2014), поздравления (Кашпур 2007). Установлен набором специфических функций, благодаря которым метафорическое миромоделирование воплощается в разных дискурсах. В задачи ученых, работающих в этом русле, входит объяснение способов формирования смыслов о мире. Чтобы подчеркнуть ведущую роль языка в процессах репрезентации мира, используется термин «миромоделирующая функция», которая заложена «имманентным свойством языка» конструировать в текстовых формах фрагменты картины мира языковыми средствами (Волчок 2021, Кашпур 2007).
Особой ценностью, с нашей точки зрения, обладают публикации, в которых миромоделирование, толкуемое в свете функциональной вариативности языка, связывается с проблемой речевого воздействия. Отстаивается мнение, что намеренное и осознанное влияние, или речевое воздействие, «запускает» процесс миромоделирования, то есть язык целенаправленно используется для «навязывания» систем представлений говорящего, что неизбежно «конструирует модель мира». Согласно такой логике, к примеру, выполнено исследование А. В. Дмитриевой, утверждающей функциональную значимость топонимов как инструментов пространственного миромоделирования. Предложенный ею подход обеспечивает особенностей понимание картины мира, транслируемой избирателям в дискурсе российской политической рекламы (Дмитриева 2022).
Думается, что обсуждение проблемы миромоделирования в функциональной перспективе может оказаться продуктивным для углубления знаний о механизмах воздействия и убеждения в дискурсе, а признание социальной направленности дискурсивных практик делает перспективным исследование социального миромоделирования в аспекте формирования представлений об обществе, социальных группах, их ценностях и идеологических установках.
3.4. Аксиологическое направление
В начале нынешнего столетия под влиянием когнитивно-дискурсивной парадигмы формируется лингвоаксиология – научное направление, выявляющее ценностные ориентиры общества через изучение фактов языка, предмет которого составляют способы представления ценностей и оценок в языке и речи (Общая и русская лингвоаксиология 2022: 91). Обращенность к фиксации и воспроизводству ценностей при речевом «портретировании» мира выводит на первый план обобщенный объект исследований – фрагменты ценностной картины мира, отражающие наиболее значимые для представителей культуры смысловые доминанты. Понятийный аппарат обогащается терминами, закрепляющими ценностные характеристики процесса («аксиологическое миромоделирование») и результата миромоделирования («аксиологическая картина мира»).
Конкретные предметы изучения определяются научными предпочтениями авторов, которые в настоящее время концентрируются на аксиологии метафор, лексических средств вербализации концептов и когнитивно-коммуникативных особенностях речевого поведения (Ермоленкина 2014). Особую роль в рамках аксиологического миромоделирования играют разные типы прецедентных феноменов, выступающие маркерами межтекстовых связей в виде крылатых фраз, пословиц, поговорок, цитат, афоризмов, изречений, регулярно воспроизводимых в дискурсе (Гриценко 2013, Еремкина 2017, Кушнерук, Васильева 2023, Эмер, Гриценко 2013). Интерес к указанным единицам не случаен и, очевидно, объясняется тем, что они обладают широким комплексом культурных и ценностных коннотаций и задают векторы смысловой интерпретации явлений за счет активации коллективного опыта.
Прецедентные единицы обеспечивают процесс ценностного миромоделирования и рассматриваются в качестве средств экспликации аксиологической картины мира. Движением вперед в этой перспективе является признание того, что в дискурсе они не столько отражают реальное положение дел, сколько воспроизводят бытующие представления о тех или иных ситуациях, и это способствует закреплению стереотипов (Еремкина 2017). Важным шагом развития направления можно считать разработку прецедентной основы аксиологического миромоделирования с учетом семантического критерия. Прецедентные имена, по определению, обладают двуплановостью, которая проявляется в их способности указывать на конкретное явление и одновременно обозначать объект (или некоторое множество объектов), выполняя дефинитивную функцию. На этом фоне оправданно введение в научный оборот понятия миромоделирующего потенциала прецедентного феномена – способности единицы индуцировать концептуально-сложные ментальные репрезентации посредством отсылок к хорошо известным явлениям, фактам, событиям, ситуациям, представления о которых имеют сверхличностный характер и хранятся в коллективном сознании представителей лингвокультуры (Кушнерук, Васильева 2023: 279). Эвристическую ценность имеет вывод о том, что свойство семантической двуплановости прецедентной единицы обеспечивает содержательную глубину миромоделирования за счет обогащения текстового мира признаками, которые входят в ассоциативное поле ценностно-значимого для представителей лингвокультуры концепта.
Знакомство с публикациями, посвященными исследованию миромоделирования в рамках обозначенного направления, способствует пониманию того, что «в чистом виде» аксиологических исследований нет, поскольку лингвоаксиология неоднородна, ее проблематика затрагивает философские, психологические, социальные вопросы, а аксиологические доминанты тесно связаны с культурными доминантами поведения людей (по В.И. Карасику). Предположительно, по этим причинам описание ценностных сторон миромоделирования осуществляется через обращение к достижениям нескольких внутрипарадигмальных областей знания, что, в целом, способствует понятийной гибридизации. Результатом соположения аксиологического и лингвокогнитивного подходов, к примеру, становится модель ценностно-концептного анализа, благодаря которой диагностируются аксиологически значимые миромоделирующие концепты. В работе Н.Б. Лебедевой показано, в частности, что они структурируют советскую эпоху и выстраивают особый мир, погруженный в широкий социальный контекст (Лебедева 2015). В концепции ученого, очевидно, обозначены два важных свойства миромоделирующего концепта – его аксиологическая отмеченность и способность структурировать представления о среде и человеке. В дальнейшем такой подход может быть уточнен с позиций дискурсивной специфики ценностей в разных социальных условиях и их роли в организации миропорядка и общественного взаимодействия.
Перспективно, на наш взгляд, продолжать изучение миромоделирования, принимая по внимание единство ценности и оценки, благодаря которому обеспечивается разная «аксиологическая настройка» текстуальности в дискурсе. В научном поле уже существует некоторое единство мнений относительно того, что основой для реализации такой настройки являются лексико-семантические средства языка. В исследованиях миромоделирования они рассматриваются с точки зрения коммуникативного назначения и участия в процессах репрезентации знаний и преобразования представлений о мире. Это обеспечивает автономность семантико-стилистического направления, которое, на наш взгляд, целесообразно считать ответвлением аксиологического.
3.5. Семантико-стилистическое направление
Первостепенная задача исследователей заключается в анализе отношений между языковыми выражениями и передаваемой с их помощью информацией об окружающем мире. Наличие в естественном языке лексической базы служит непременным условием процессов миромоделирования, которое в русле данного направления связывается с осмыслением механизмов кодирования и декодирования информации через описание содержательной многослойности слов. Объектно-предметную область проводимых изысканий составляют тематические и лексико-семантические группы в составе концептуальной и языковой картин мира. Подчеркнем, что авторы сохраняют все ценное, что накопила лексическая семантика о значении слова, его содержательной структуре, смысловых соотношениях, и вместе с тем, кроме традиционных терминов («лексическое значение», «оценочный компонент значения»), вводят в научный оборот потенциально продуктивные, но требующие дополнительной проработки понятия: «лексико-семантическое миромоделирование», «образное миромоделирование», «миромоделирующая активность лексем».
Наблюдение за функционированием лексических единиц как средств миромоделирования в речевых практиках отражает стремление специалистов установить нюансы смыслопорождения. Это имеет свое формальное и содержательное проявление. В номенклатурном плане изучаются разные группы апеллятивов – соматизмы (Ван 2021), образные слова (Шерина 2012), эвфемизмы, антосинонимы, пейоративы (Лабутина 2017), в структурном отношении анализируется оценочный компонент лексического значения (Бохонная, Шерина 2019). Исследование апеллятивов с учетом семантической многомерности их функционирования в речи обусловливает востребованность понятия миромоделирующей активности слов, которое определяется как «регулярная и интенсивная реализация миромоделирующей функции – формирования определенного фрагмента картины мира в языке и тексте» (Ван 2021: 70). Общим местом этих публикаций является вывод, что миромоделирование осуществляется благодаря наличию в семантике лексических единиц ценностно-оценочного потенциала.
С точки зрения реализации миромоделирующей функции особняком стоят образные слова – «морфологически мотивированные лексические единицы с метафорической внутренней формой» (Юрина 2005: 37). В компонентном плане они включают информационный слой, содержащий представления об объекте в культурной среде, типичных ассоциациях и ценностных стереотипах (подкаблучник, сорвиголова, лоботряс и др.). Изучение образных лексем в аспекте миромоделирования представляется продуктивным, так как эти единицы языка не только называют объект, но передают отношение человека к именуемому явлению. Объяснением служит то, что наряду с денотативным и ассоциативно-образным компонентами значения в их семантической структуре можно выделить аксиологический компонент, отражающий субъективную оценку обозначенных феноменов (Шерина 2012). На таких рассуждениях выстраивается понятие образного миромоделирования. Очевидно, что лексическая система естественного языка располагает неисчерпаемыми семантическими ресурсами. Кроме названных объединений лексики средствами миромоделирования могут выступать иные функционально-семантические группы, такие как неологизмы, окказионализмы, онимы, слова-ярлыки, слова генерализующей семантики. Рассмотрение их в качестве предмета, со всей очевидностью, обещает расширить знание о лингвоаксиологических механизмах смыслопроизводства в речевых практиках.
Поскольку апелляция к эмоциям и чувствам адресата носит регулярный характер в коммуникации при формировании оценок окружающего мира, принципиально важную роль для исследования миромоделирования играет учет присутствующей в словах непредметной информации, которую содержат единицы, закрепленные за той или иной речевой средой (стилем). Акцент на стилистическом значении лексико-семантических единиц языка (эмоционально-экспрессивных коннотациях, исторически сложившихся характеристиках употребления, отношении говорящего к предмету речи, сфере общения, речевому жанру и др.) прогнозирует самостоятельность лингвостилистического направления, контуры которого только начинают очерчиваться (Кушнерук, Васильева 2023). В такой перспективе распознается попытка связать понятие миромоделирования с выразительностью как центральным качеством речи, которое ассоциируется с точностью, логичностью, непротиворечивостью, ясностью, экспрессивностью, обеспечивающими ее полноценное восприятие адресатом. Представляется, что выявление выразительно-изобразительных эффектов миромоделирования в разных сферах коммуникации может добавить еще один «концентрический круг» (по Л.В. Щербе) к основному стилистическому и обогатить раздел экспрессивной стилистики.
3.6. Когнитивно-прагматическое направление
Внутрипарадигмальное взаимодействие когнитивной лингвистики с лингвопрагматикой делает все более устойчивыми позиции когнитивно-прагматического направления исследования миромоделирования. Усилия ученых направлены на выяснение прагматических аспектов ментально-языкового представления среды и человека в разных сферах коммуникации. Методологическим фундаментом этих работ являются положения о ментальных репрезентациях, воплощающих символическое отражение окружающего мира (когнитивный аспект), и определяющей роли языка в регулировании и конструировании социальных процессов (прагматический аспект). Ожидаемо, что понятийный аппарат формирующегося направления объединяет когнитивные («репрезентация», «ментальная репрезентация») и прагматические категории («адресант», «адресат», «ситуация», «речевая стратегия», «тактика», «прием», «ход»). Его расширение происходит за счет введения в оборот терминов, обозначающих концептуально-сложные структуры интегрированного знания, представляющие реальность и ее «части» («репрезентационная структура», «дискурсивный мир», «когнитивно-прагматическая ментальная репрезентация»).
Специальные наблюдения позволяют утверждать, что обсуждаемый подход в настоящее время более-менее полно разработан применительно к коммерческой рекламе. В частности, дискурс трактуется как «сплав» языковой формы, знаний и коммуникативно-прагматической ситуации (Кушнерук, Чудинов 2013). Избранный ракурс анализа рекламного дискурса во взаимодействии когнитивных факторов и целей коммуникантов делает логичным обращение к специфике разнотипных средств языка, определяющих характер ментальных репрезентаций и задающих качество прагматических миромоделей в интересах рекламиста. Наиболее ярко это демонстрируют метафоры, которые интегрируются в рекламное произведение, благодаря чему в текстовом мире создается прагматический «эффект двойного видения» (Кушнерук 2019: 286–287). В свете теории метафорического моделирования (Дж. Лакофф, М. Джонсон) не вызывает возражений заключение о том, что в когнитивном плане миромоделирование усложняет концептуальную архитектуру ментальной репрезентации, обеспечивая двухмерность восприятия объекта речи (рекламируемого товара) за счет способности метафоры структурировать область цели по образцу источника, а в прагматическом плане происходит конструирование рассчитанного на целевую аудиторию «гибридного мира» (когнитивного конструкта), содержащего исключительно положительную оценку товара или услуги, что способствует продвижению идеологии потребления.
Бережное отношение к когнитивным и прагматическим факторам со стороны современных ученых постепенно приводит к пониманию того, что миромоделирование в социальной сфере часто носит стратегический характер. Это значит, еще более заметная роль в конструировании систем значений отводится целеустановкам отправителя речи и его ориентации на реципиента. Двигаясь по намеченной траектории, специалисты делают первые шаги в понимании того, как факторы адресанта, адресата и целеполагания обусловливают качество «портретирования» мира в конкретной разновидности дискурса. Объектами выступают стратегии, тактики и приемы, определяющие характер интерпретации отдельных сторон действительности. Прагматическая специфика миромоделирования, к примеру, обнаруживается в функциях, которые выполняют тексты в политической коммуникации (Волчок 2021). Вывод о том, что в военном интернет-дискурсе реализуются речевые стратегии дезинформации и дискредитации, свидетельствующие о расшатывании государственных устоев и попытке создания новой национальной картины мира, выводит лингвистическое исследование на уровень социального взаимодействия, организованного намеренно сконструированными миромоделями. Показательно в этом случае, что когнитивно-прагматический аспект находится в неразрывном единстве с аксиологическим, функциональным и идеологическим.
Имеющиеся в распоряжении исследования миромоделирования базируются на признании тесной связи языка с деятельностью человека. Включение в орбиту познания ментальных факторов не только обогащает традиционные для лингвопрагматики категории, но открывает широкие перспективы установлению закономерностей между задачами решения проблем в сферах практической деятельности и эффективными способами работы с массовым сознанием, что все заметнее ставит лингвистику на службу обществу. Дальнейшее развитие заявленных идей способно создать прочный теоретический остов для изучения дискурсов социальной сферы в терминах репрезентационных структур, и выявить новые грани в понимании когнитивно-прагматических механизмов регулирования общественного взаимодействия.
3.7. Лингвоидеологическое направление
Линия лингвоидеологического исследования миромоделирования в российском языкознании начинает визуализироваться сравнительно недавно, что связано с повсеместным распространением дискурс-анализа. Она формируется под влиянием идей дискурсологии и критической лингвистики о языке, обществе, дискурсивном производстве и воспроизводстве идеологии, власти и доминирования (Р. Водак, М. Мейер, Т. ван Дейк). Как в большинстве современных зарубежных и отечественных концепций дискурса, центром притяжения авторов являются дискурсивные практики, в которых язык, идеология и культура тесно переплетены (Дейк 2014). Отправным можно признать положение о том, что дискурс, встроенный в культурно-исторический контекст, участвует в конструировании социальной реальности, а «в дискурсивных исследованиях говорящие приобретают “осязаемость” и конкретность как биологические, социальные, культурные, этнические, профессиональные идентичности» (Била, Иванова 2020: 232).
Такая позиция полностью согласуется с социально-конструкционистскими принципами дискурс-анализа (В. Бурр, М. Йоргенсен, Л. Филлипс, В.Е. Чернявская), которые в русле лингвоидеологического направления «прочитываются» на новом уровне. В фокус внимания специалистов попадает понятие идеологии, используемое в значении комплексной когнитивной системы, контролирующей формирование социальных знаний (Дейк 2014: 54). Складывается некоторое единство мнений вокруг того, что идеология выступает «энергией» дискурса, приводящей в движение картину мира в ее функционально обусловленном варианте, «специфика которого определяется коммуникацией автора и адресата на основе общности ментальных конструктов, оценочных интерпретационных моделей и форм речевого поведения» (Ермоленкина 2014: 145). Социкогнитивные идеи (Дейк 2014), наложенные на положения критического дискурс-анализа, используются в рамках складывающегося направления для более точного определения научного объекта с учетом социальных факторов. В свете этого миромоделирование предстает в аспектах репрезентации явлений и событий посредством включения в ментально-языковое пространство текста и дискурса идеологических смыслов и установок, отражающих интересы групп влияния (Ермоленкина 2014, Кушнерук 2020, 2023). Развиваемый подход вполне доказателен в отношении того, что в дискурсе «осязаемы» как отдельные аспекты общества и человека (представления, социальные идентичности, образы), так и целостные картины, различающиеся характером идеологических смыслов и, вследствие этого, представляющие разные «версии» реальности (Кушнерук 2020).
В границах направления теоретическое обоснование получает понятие идеологического миромоделирования, представленное в монографии С.Л. Кушнерук: «структурирование информации о действительности в дискурсе, осуществляемое посредством актуализации интерпретационных схем, которые устанавливают связь между объектами репрезентации (люди, события, ситуации) и идеологией, кристаллизующейся в политических, правовых, этических, религиозных и иных квантах смысла, что способствует объяснению явлений в желательном для социального актора направлении и формированию идеологизированного мировидения» (Кушнерук 2023: 111). Заметно, что содержание понятия миромоделирования в этом случае раскрывается и одновременно расширяется представлениями о форматировании информации за счет интерпретационных схем (метасообщений), получающих объективацию в дискурсе, в связи с воспроизводством идеологии.
Развитие данного направления прогнозирует получение данных о роли ментально-языковых структур в организации социальной реальности в интересах «символических элит» в политике, управлении, бизнесе, образовании, рекламе и др., что представляет ценность для прикладных коммуникаций (PR, реклама, политическая пропаганда, конфликтология). Набор векторов исследования идеологического миромоделирования принципиально открыт перед лицом глобальных вызовов времени, а разработка обозначенной проблемы с использованием новейших методов лингвистики становится насущной необходимостью на фоне внешних информационных угроз национальной безопасности России.
3.8. Другие направления
Задача выделения дискретных направлений исследования миромоделирования решается нами с учетом мнений множества специалистов. Их рассуждения отличаются разной глубиной проработки вопроса. Очевидно, что многие авторы только «нащупывают» свои пути, что, однако, не дает право игнорировать имеющиеся результаты, которые, с нашей точки зрения, можно рассматривать как предпосылки формирования нескольких научных линий.
Во-первых, проблема взаимодействия языка и культуры прогнозирует развитие лингвокультурологического направления, которое, как было отмечено выше, заявлено в некоторых публикациях в связи с лингвокультурологическим потенциалом создаваемых в текстах моделей мира (Беляева, Проскурина 2022). Представляется, что наличие в каждом сообществе разнородных культурно-отмеченных языковых, речевых, семиотических, фольклорных, мифологических, символических единиц открывает доступ к изучению миромоделирования в национально-культурных условиях. В этом случае специфика феномена может проявляться на разных уровнях организации речевых практик – пространственно-композиционном, когнитивно-смысловом, культурно-ценностном и семиотическом. Движением вперед по намеченному пути считаем решение задач системного анализа разнотипных единиц, которые имеют символическое, эталонное и образное значение, хорошо известное представителям лингвокультуры, благодаря чему формируется «особая» картина мира в дискурсе. В это число, конечно, входит «своя» для каждого народа безэквивалентная лексика (high tea, afternoon tea, meat teat в Британии), стереотипы, эталоны, ритуалы и пр. Они обладают историко-культурной ценностью в пределах сообщества и характеризуются прецедентностью. Ср.: реалии (bearskin – меховой кивер у английских гвардейцев, ceilidh – вечеринка с музыкой и танцами в Шотландии и Ирландии); историзмы, сохранившие культурную память об объекте (mosstrooper – разбойник в Шотландии в XVII в.). Кроме того, большой интерес представляют социолекты (школьный жаргон, уголовный жаргон, воровское арго, арго хиппи и др.). В таком случае лингвокультурологический аспект неотъемлем от лексико-семантического. В самом первом приближении криминальный мир в русском языке и культуре можно представить моделью: субъект (браток, авторитет) – объект (бытовуха, мокруха) – действие (мочить, заметать) – место (ментура). На примере такого рода языковых данных в разных культурах перспективной представляется не только реконструкция фрагментов картины мира как сетки координат, накладываемой на восприятие действительности, но выделение лингвокультурологических доминант, подчеркивающих идиоэтническую специфику мировидения сообщества и его отдельных субкультур (ЗОЖ, рэперы, k-pop и др.).
Во-вторых, акцент на использовании семиотических систем в социо-культурных практиках (М. Халлидей, Р. Ходж, Г. Кресс, Т. Лёйвен) может стать платформой развития социально-семиотического направления исследования миромоделирования. Социальная семиотика – новое междисциплинарное направление, которое анализирует «способы, с помощью которых люди используют семиотические ресурсы как для создания артефактов и коммуникативных событий, так и для их интерпретации в определенных ситуациях социального взаимодействия» (Гаврилова 2016: 106). В рамках подхода важность имеет не столько то, что стоит за знаком, сколько то, как он применяется в культуре. При этом знаки не ограничиваются речевыми, но охватывают вербальные, визуальные и звуковые коды, которые интегрируются в текст, что фактически выводит на первый план мультимодальные аспекты миромоделирования.
В настоящее время триада «социальность – семиотика – культура» только начинает привлекать лингвистов. К примеру, положено начало изучению конфигураций мироустройства на фоне экономических, политических и культурных аспектов социума (Уланович, Карпушенко 2022). Своеобразие «кода» миромоделирования, согласно результатам, проявляется в том, что старые символы и элементы попадают в новый контекст, в котором они отчасти утрачивают первоначальное значение, но обретают новые смыслы. Хотя в упомянутой работе не дано определение мультимодального кода миромоделирования, идеи о соположении разнотипных семиотических средств, обеспечивающих кодирование и декодирование информации в дискурсе, принципиально значимы. Их развитие, по нашему мнению, делает перспективным изучение вербального и невербального кодов коммуникации как ресурсной базы миромоделирования. Думается, что структурно-содержательная классификация мультимодальных средств (символы, аудиовизуальная образность, кинемы, такемы, сенсемы, проксемы, хронемы, параграфемные средства), а также систематизация моделей их соотношения в разных типах дискурса могут обеспечить понимание смыслопорождения и вариативности репрезентаций мира и социальности.
В-третьих, миромоделирование в дискурсе языковой личности способствует прогрессии лингвоперсонологического направления. На первый план выходит специфика вербального поведения человека в разных сферах коммуникации. Анализируются средства языка, которые использует персона в осмыслении окружающего мира, экспликации подвержены ее когнитивные, социо-психолингвистические характеристики и их роль в организации коммуникации (Гынгазова 2010). Начатая работа имеет перспективы, которые мы видим в изучении речевых портретов лидеров мнений (политиков, блогеров, инфлюенсеров и др.) с учетом соотношения личностного и институционального факторов. Это может оказаться продуктивным для выявления ментально-языковых особенностей, отражающих специфику мировосприятия статусной личности и участвующих в создании индивидуального имиджа.
В-четвертых, в условиях порождения и восприятия речевого высказывания исследование миромоделирования приобретает психолингвистический вектор. В настоящее время описаны лингвистические модели процессов восприятия, отраженные в разных формах русского национального языка (Демешкина и др. 2006). На наш взгляд, применение психолингвистических методик к изучению миромоделирования может способствовать реконструкции фрагментов картин мира, существующих в сознании самых разных носителей языка. Они потенциально «богаче» или «беднее» тех, которые восстанавливаются на основе языковых данных, закрепленных лексикографией.
Заключение
Проведенный обзор новейших российских публикаций, посвященных проблемам миромоделирования, позволяет заключить, что в пространстве отечественной лингвистики развиваются лингвокогнитивное, концептуальное, функциональное, аксиологическое, семантико-стилистическое, когнитивно-прагматическое, лингвоидеологическое направления. Их можно отнести к ядерной зоне научных исследований, поскольку они получают теоретико-методологическое оформление в трудах многих ученых, работающих в русле когнитивно-дискурсивной парадигмы.
Научная самостоятельность и логика развития автономных направлений определена парадигмальным статусом лингвистики в целом, а также межпарадигмальным взаимодействием, благодаря которому новое знание об особенностях репрезентации мира в коммуникации выстраивается на достижениях, имеющихся в частных дисциплинах. В лингвистике обнаруживаются единичные наработки, которые остро нуждаются в системном подходе, но имеют научный потенциал для разработки лингвокультурологического, социально-семиотического, лингвоперсонологического и психолингвистического направлений исследования миромоделирования.
Названные линии научного поиска отличаются по характеру теоретических установок, методам и конкретным методикам анализа. Обобщенным объектом современных исследований выступает миромоделирование как процесс и результат представления фрагментов мира в языке и коммуникации. В рамках каждого дискретного направления объект специализируется.
Когнитивно-дискурсивная парадигма лингвистики охватывает широкий спектр задач, рассматриваемых в синтезе когниции (семантики) и коммуникации (прагматики). По этой причине обозначенные траектории часто пересекаются. Междисциплинарность делает естественным сочетание нескольких векторов анализа миромоделирования. На практике регулярно происходит объединение концептуального направления с лингвокогнитивным и функциональным, лингвокогнитивного с лингвоидеологическим, лексико-семантического с аксиологическим и прагматическим, что объясняется плюралистичностью лингвистики.
Понятийный аппарат исследований миромоделирования находится в процессе активного становления. К актуальным нерешенным проблемам изучения миромоделирования в науке о языке следует отнести вопрос о предмете и единицах анализа, значимых для моделирования дискурса, понимания его смысловых доминант и характера репрезентации фрагментов действительности. Важной научной задачей считаем уточнение ключевых понятий и терминов, таких как «миромоделирующий потенциал» и «миромоделирующая функция», с учетом дисциплинарных и междисциплинарных установок.
Лингвистика, эволюционируя, дифференцируется все больше, поэтому представленная в статье систематизация не является исчерпывающей. Предлагаемый перечень научных направлений исследования миромоделирования, выделяемых в рамках господствующей парадигмы, принципиально открыт. Поднимаемая автором проблематика приглашает заинтересованных специалистов к ее дальнейшему обсуждению и обнаружению новых граней феномена в актуальных речевых практиках.
Об авторах
Светлана Леонидовна Кушнерук
Челябинский государственный университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: svetlana_kush@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-4447-4606
доктор филологических наук, профессор кафедры теории и практики английского языка Челябинского государственного университета. Сфера ее научных интересов - дискурсивный анализ, когнитивная лингвистика, медиалингвистика, когнитивно-дискурсивное миромоделирование.
Челябинск, РоссияСписок литературы
- Абдрашитова М.О. Трансформация миромоделирующих возможностей современного жанра загадки // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2014. № 2-1 (32). С. 13-15. [Abdrashitova, Mariya O. 2014. Transformatsiya miromodeliruyushchikh vozmozhnostei sovremennogo zhanra zagadki (Transformation of the world-modeling possibilities of the modern genre of riddles). Philological sciences. Questions of theory and practice 2-1 (32). 13-15. (In Russ.)].
- Беляева Д.А., Проскурина А.В. Своеобразие небылиц в русской и китайской лингвокультурах: сопоставительный аспект // Мир науки, культуры, образования. 2022. № 6 (97). С. 565-567. [Belyaeva, Dar'ya. A. & Anastasiya Proscurina V. 2022. The originality of fables in Russian and Chinese linguocultures: A comparative aspect. The World of Science, Culture, Education 6 (97). 565-567. (In Russ.)]. https://doi.org/10.24412/1991-5497-2022-697-565-567
- Била М., Иванова С.В. Язык, культура и идеология в дискурсивных практиках // Russian Journal of Linguistics. 2020. Т. 24. №2. C. 219-252. [Bilá, Magdaléna & Svetlana Ivanova V. 2020. Language, culture and ideology in discursive practices. Russian Journal of Linguistics 24 (2). 219-252. (In Russ.)]. https://doi.org/10.22363/2687-0088-2020-24-2-219-252
- Бохонная М.Е., Шерина Е.А. Единицы, называющие посуду, в языке среднеобской частушки // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2019. Т. 12. № 6. С. 300-303. [Bokhonnaya, Marina. E. & Evgeniya A. Sherina. 2019. Units nominating dishes in the language of the middle Ob chastushka. Philological Sciences. Questions of Theory and Practice 12 (6). 300-303. (In Russ.)]. https://doi.org/10.30853/filnauki.2019.6.63
- Ван Х. Лексическая и миромоделирующая активность соматизмов и антропоморфизм языковой категоризации в пословице // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2021. № 3 (215). С. 69-75. [Wang, Hua. 2021. Lexical and world-modeling activity of somatisms and anthropomorphism of language categorization in the proverb. Bulletin of Tomsk State Pedagogical University 3 (215). 69-75. (In Russ.)]. https://doi.org/10.23951/1609-624X-2021-3-69-75
- Вежбицкая А. Языковая картина мира как особый способ репрезентации образа мира в сознании человека // Вопросы языкознания. 2000. № 6. С. 33-38. [Vezhbitskaya, Anna. 2000. Yazykovaya kartina mira kak osobyi sposob reprezentatsii obraza mira v soznanii cheloveka (The linguistic picture of the world as a special way of representing the image of the world in human consciousness). Voprosy Yazykoznaniya 6. 33-38. (In Russ.)].
- Волчок К.В. Функционально-прагматические особенности конфликтогенных текстов о Великой Отечественной войне // Политическая лингвистика. 2021. № 2 (86). С. 62-72. [Volchok, Konstantin. V. 2021. Functional and pragmatic features of conflictogenic texts about the Great Patriotic War. Political Linguistics 2 (86). 62-72. (In Russ.)]. https://doi.org10.26170/1999-2629_2021_02_05
- Гаврилова М.В. Социальная семиотика: теоретические основания и принципы анализа мультимодальных текстов // Политическая наука. 2016. № 3. С. 101-117. [Gavrilova, Marina. V. 2016. Social semiotics: Theoretical foundations and principles of analysis of multimodal texts. Political Science 3. 101-117. (In Russ.)].
- Галимова Д.Н. Метафорическое моделирование объектов мира природы в диалектном дискурсе // Слово: Фольклорно-диалектологический альманах. 2013. № 10. С. 138-147. [Galimova, Dar'ya. N. 2013. Metaphorical modeling of objects of the natural world in dialect discourse. Word: Folklore-dialectological Almanac 10. 138-147. (In Russ.)].
- Гарипова Г.Т. Специфика художественного миромоделирования в прозе русского символизма: теория, тенденции, трансперсональные модели // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Литературоведение. Журналистика. 2020. Т. 25. № 3. С. 399-423. [Garipova, Gulchira. T. 2020. The specifics of artistic world modeling in the prose of Russian Symbolism: Theory, trends, transpersonal models. Bulletin of the Peoples’ Friendship University of Russia. Series: Literary Studies. Journalism 25 (3). 399-423. (In Russ.)]. http://dx.doi.org/10.22363/2312-9220-2020-25-3-399-423.
- Гильяно К.Е. Анализ миромоделирующих категорий художественного произведения // Филологические науки. Научные доклады высшей школы. 2020. № 3. С. 115-121. [Gilyano, Karina. E. 2020. Analysis of the world-modeling categories of works of art. Philological Sciences. Scientific Reports of the Higher School 3. 115-121. (In Russ.)]. https://doi.org/10.20339/PhS.3-20.115
- Гриценко Л.М. Прецедентный текст как средство формирования ценностной картины мира (на материале чатов) // Язык и культура. 2013. № 1 (21). С. 16-23. [Gritsenko, Lyubov' M. 2013. The precedent text as а means of formation of values picture of the world (based on the chat). Language and Culture 1 (21). 16-23. (In Russ.)].
- Гынгазова Л.Г. Метафорическое миромоделирование в дискурсе языковой личности // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2010. № 1 (9). С. 7-11. [Gyngazova, Lyudmila. G. 2010. Metaphorical world modeling in the discourse of the language personality of a dialect speaker. Bulletin of Tomsk State University. Philology 1 (9). 7-11. (In Russ.)].
- Дейк Т.А. ван. Дискурс и власть: Репрезентация доминирования в языке и коммуникации. М., 2014. [Dijk, Teun. A. van. 2014. Diskurs i vlast': Reprezentatsiya dominirovaniya v yazyke i kommunikatsii (Discourse and Power: Representation of Dominance in Language and Communication). Moscow. (In Russ.)].
- Демешкина Т.А, Верхотурова Н.А., Крюкова Л.Б., Курикова Н.В. Лингвистическое моделирование ситуации восприятия в региональном и общероссийском дискурсе. Томск: Национальный исследовательский Томский государственный университет, 2006. [Demeshkina, Tat'yana. A, Nataliya A. Verkhoturova, Larisa B. Kriukova & Natal’ya V. Kurikova. 2006. Lingvisticheskoe modelirovanie situatsii vospriyatiya v regional'nom i obshcherossiiskom diskurse (Linguistic Modeling of the Perception Situation in Regional and All-Russian Discourse). Tomsk: National Research Tomsk State University. (In Russ.)].
- Дмитриева А.В. Функциональный и прагматический потенциал топонимов в видеотекстах российской политической рекламы // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. 2022. № 2. С. 206-218. [Dmitrieva, Anastasia. V. 2022. Functional and pragmatic potential of toponyms in Russian political advertising videotexts. Actual Problems of Philology and Pedagogical Linguistics 2. 206-218. (In Russ.)]. https://doi.org10.29025/2079-6021-2022-2-206-218
- Еремкина В.Н. Роль прецедентных текстов в отражении ценностных ориентаций в текстах современных СМИ // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2017. № 10-2 (76). С. 78-80. [Eremkina, Vera. N. 2017. The role of precedent texts in representing value orientations in modern mass media texts. Philological Sciences. Questions of Theory and Practice 10-2 (76). 78-80. (In Russ.)].
- Ермоленкина Л.И. Метаречевые реализации дискурсивной идеологии информационно-аналитического радио (на примере канала «Эхо Москвы») // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2014. № 10 (151) С. 145-152. [Yermolenkina, Larisa. I. 2014. Speech realization of the discourse ideology of a news radio station (the case of «Echo of Moscow»). Bulletin of Tomsk State Pedagogical University 10 (151). 145-152. (In Russ.)].
- Зализняк А.А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д. Ключевые идеи русской языковой картины мира. М.: Языки славянской культуры, 2005. [Zaliznyak Anna. A., Irina B. Levontina & Aleksei D. Shmelev. 2005. Klyuchevye idei russkoi yazykovoi kartiny mira (Key Ideas of the Russian Language Picture of the World). Moscow: Yazyki slavyanskoi kul'tury (In Russ.)].
- Иванова С.В., Хакимова Г.Ш. Жанр светских слухов в дискурсе англоязычных массмедиа // Russian Journal of Linguistics. 2020. Т. 24. № 2. C. 386-418. [Ivanova, Svetlana V. & Gulnara Sh. Khakimova. 2020. Celebrity gossip as a genre in English-language mass media discourse. Russian Journal of Linguistics 24 (2). 386-418. (In Russ.)]. https://doi.org10.22363/2687-0088-2020-24-2-386-418
- Картины русского мира: пространственные модели в языке и тексте / под ред. З. И. Резановой. Томск: UFO-Plu, 2007. [Rezanova, Zoya. I. (ed.). 2007. Pictures of the Russian World: Spatial Models in Language and Text. Tomsk : UFO-Plus. (In Russ.)].
- Катунин Д.А., Антонова М.К. Метафорическое представление времени как воды/жидкости в русской языковой картине мира // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2010. № 1 (9). С. 12-16. [Katunin, Dmitrii. A. & Mariya K. Antonova. 2010. Metaphorical representation of time as water/liquid in Russian linguistic picture of the world. Bulletin of Tomsk State University. Philology 1 (9). 2-16. (In Russ.)].
- Кашпур В.В. Жанр «поздравление» в русском политическом дискурсе: к проблеме лингвокогнитивного моделирования // Вестник Томского государственного университета. 2007. № 305. С. 11-14. [Kashpur, Valeriya. V. 2007. Genre «congratulation» in Russian political discourse: To the problem of linguistic cognitive model. Bulletin of Tomsk State University 305. 11-14. (In Russ.)].
- Кубрякова Е.С. Эволюция лингвистических идей во второй половине ХХ века (Опыт парадигмального анализа) // Язык и наука конца ХХ века. М.: Ин-т языкознания РАН, 1995. С. 144-238. [Kubryakova, Elena. S. 1995. The evolution of linguistic ideas in the second half of the twentieth century (The experience of paradigm analysis). Language and Science of the late twentieth century. Moscow: Institute of Linguistics of the Russian Academy of Sciences. 144-238. (In Russ.)].
- Кубрякова Е.С. Язык и знание. На пути получения знаний о языке: Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира. М. : Языки славян. культуры, 2004. [ Kubryakova, Elena. S. 2004. Language and Knowledge. On the Way to Gaining Knowledge about Language: Parts of Speech from a Cognitive Point of View. The Role of Language in the Knowledge of the World. Moscow: Languages of the Slav. Culture, 2004. (In Russ.)].
- Кубрякова Е.С. В поисках сущности языка // Вопросы когнитивной лингвистики. 2009. № 1. С. 5-12. [Kubryakova, Elena. S. 2009. In search of the essence of the language. Voprosy Kognitivnoy Lingvistiki 1. 5-12. (In Russ.)].
- Кулешова С.В. Мифологическая модель мира в романе М. Павича «Ящик для письменных принадлежностей» // Филология и литературоведение. 2013. № 10 (25). С. 1. [Kuleshova, Svetlana. V. 2013. Mythological model of the world in the novel of M. Pavic “Box for writing utensils”. Philology and Literary Studies 10 (25). 1. (In Russ.)].
- Курьянович А.В., Серебренникова Е.А. Реализация миромоделирующего потенциала концепта ЯЗЫК в учебных текстах: опыт анализа дискурсивного варьирования лингвокультурного концепта // Сибирский филологический журнал. 2022. № 2. С. 325-337. [Kuryanovich, Anna. V. & Elena A. Serebrennikova. 2022. Realization of the world-modeling potential of the language concept in educational texts: Analyzing the discursive variation of the linguistic and cultural concept. Siberian Philological Journal 2. 325-337. (In Russ.)]. https://doi/org/10.17223/18137083/79/23
- Кушнерук С.Л. Когнитивно-дискурсивное миромоделирование: опыт сопоставительного исследования рекламной коммуникации. М.: ФЛИНТА, 2019. [Kushneruk, Svetlana. L. 2019. Kognitivno-diskursivnoe miromodelirovanie: opyt sopostavitel'nogo issledovaniya reklamnoi kommunikatsii (Cognitive-discursive World Modeling: The Comparative Research of Advertising). Moscow: FLINTA. (In Russ.)].
- Кушнерук С.Л. Идеологическое миромоделирование в американском медиадискурсе // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2020. № 67. С. 92-111. [Kushneruk, Svetlana. L. 2020. Ideological world modeling in American media discourse. Bulletin of Tomsk State University. Philology 67. 92-111. (In Russ.)]. https://doi.org/10.17223/19986645/67/5
- Кушнерук С.Л. Идеологическое миромоделирование в контексте информационно-психологической войны. М.: ФЛИНТА, 2023. [Kushneruk, Svetlana. L. 2023. Ideologicheskoe miromodelirovanie v kontekste informatsionno-psikhologicheskoi voiny. (Ideological World-modeling in the Context of Information and Psychological War). Moscow: FLINTA. (In Russ.)].
- Кушнерук С.Л., Васильева Е.О. Миромоделирующий потенциал прецедентных феноменов в песенном дискурсе // Когнитивные исследования языка. 2023. № 1 (52). С. 272-281. [Kushneruk, Svetlana. L. & Elena O. Vasil'eva. 2023. World-modeling potential of precedent phenomena in song discourse. Cognitive Studies of Language 1 (52). 272-281. (In Russ.)].
- Кушнерук С.Л., Чудинов А.П. Прагматика миромоделирования: что стоит за рекламным слоганом? // Известия Уральского федерального университета. Серия 1: Проблемы образования, науки и культуры. 2013. Т. 113. № 2. С. 28-41. [Kushneruk, Svetlana. L. & Anatolii P. Chudinov. 2013. The pragmatics of world-modeling: What is behind the advertising slogan? Izvestia Ural Federal University Journal. Series 1. Issues in Education, Science and Culture 113 (2). 28-41. (In Russ.)].
- Лабутина В.В. Лексические средства миромоделирования в рost-truth дискурсе // Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология. 2017. Т. 23. № 1-2. С. 96-100. [Labutina, Vera. V. 2017. Lexical means of world modeling in the post-truth discourse. Bulletin of Samara University. History, Pedagogy, Philology 23 (1-2). 96-100. (In Russ.)].
- Ларина Н.А. «Пространство катастрофы» как миромоделирующая категория в рассказах Л. Андреева // Педагогическое образование и наука. 2018. № 1. С. 118-120. [Larina, Nadezhda. A. 2018. «Space disaster» as a world modeling category in stories by L. Andreyev. Pedagogical Education and Science 1. 118-120. (In Russ.)].
- Лебедева Н.Б. Мемуары как письменно-речевой дискурс рядового носителя русского языка: ценностно-концептный анализ // Вестник Кемеровского государственного университета. 2015. № 1-1 (61). С. 92-100. [Lebedeva, Natal'ya. B. 2015. Memoirs as written speech discourse of the Russian speaker: Value-concept analysis. Bulletin of Kemerovo State University 1-1 (61). 92-100. (In Russ.)].
- Лотман Ю.М. Структура художественного текста. Анализ поэтического текста. СПб., 2018. 220 с. [Lotman, Yurii M. 2018. Struktura khudozhestvennogo teksta. Analiz poeticheskogo teksta (The Structure of a Literary Text. Analysis of the Poetic Text). St. Petersburg. (In Russ.)].
- Меркель Е.В., Тулушева Е.С. Персонажная систематика в трилогиях Дины Рубиной 2000-2010-х годов // Научный диалог. 2020. № 12. С. 185-195. [Merkel, Elena. V. & Elena S. Tulusheva. 2020. Character taxonomy in Dina Rubina’s trilogies of the 2000s-2010s. Scientific Dialogue 12. 185-195. (In Russ.)]. https://doi.oeg/10.24224/2227-1295-2020-12-185-195
- Никитина Д.Н. Концепт «нефть» в дискурсе журналиста нефтяного моногорода // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2013. № 2 (130). С. 186-189. [Nikitina, Dar'ya. N. 2013. The concept «oil» in the discourse of an oil monotown journalist. Bulletin of Tomsk State Pedagogical University 2 (130). 186-189. (In Russ.)].
- Общая и русская лингвоаксиология: коллективная монография / М. С. Милованова (отв. ред.). М.-Ярославль: Издательство «Канцлер», 2022. [Milovanova, Marija S. (ed.). 2022. General and Russian linguoaxiology: A collective monograph. Moscow-Yaroslavl: Publishing House “Chancellor”. (In Russ.)].
- Орлова О.В. Миромоделирующий потенциал медиаконцепта и прецедентность в интернет-дискурсе // Сибирский филологический журнал. 2012. № 1. С. 163-169. [Orlova, Olga. V. 2012. The world-modeling potential of the media concept and precedence in internet discourse. Siberian Philological Journal 1. 163-169. (In Russ.)].
- Понтон Д., Ларина Т.В. Дискурс-анализ в 21 веке: теория и практика (II) // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Лингвистика. 2017. Т. 21. № 1. С. 7-21. [Ponton, Douglas & Tatiana V. Larina. 2017. Discourse Analysis in the 21st century: Theory and practice (II). Russian Journal of Linguistics 21 (1). 7-21. https://doi.org/10.22363/2312_9182_2017_21_1_7_21
- Потураева Е.А. Метафорические обозначения концепта «Дом» в русской языковой картине мира // Язык и культура. 2010. № 1 (9). С. 58-73. [Poturaeva, Evgeniya. 2010. A. Metaphorical designations of concept «house» in Russian language picture of the world. Language and Culture 1 (9). 58-73. (In Russ.)].
- Резанова З И. Метафорический фрагмент русской языковой картины мира: идеи, методы, решения // Вестн. Томс. гос. ун-та. Филология. 2010. № 1 (9). С. 26-43. [Rezanova, Zoya. I. 2010. A metaphorical fragment of the Russian language worldview: Ideas, methods, solutions. Bulletin of Tomsk State University. Philology 1 (9). 26-43 (In Russ.)].
- Резанова З.И. Языковая и дискурсивная картина мира: аспекты соотношений // Сибирский филологический журнал. 2011. № 3. С. 184-194. [Rezanova, Zoya. I. 2011. The language and the discourse picture of the world. Siberian Philological Journal 3. 184-194 (In Russ.)].
- Сухомлина Т.А. Языковое своеобразие будущего времени в английском языке // Вестник Пятигорского государственного лингвистического университета. 2014. № 1. С. 86-90. [Sukhomlina, Tatyana. A. 2014. Linguistic peculiarities of the future tense in the English language. Bulletin of Pyatigorsk State Linguistic University 1. 86-90. (In Russ.)].
- Топоров В.Н. Модель мира (мифопоэтическая) // Мифы народов мира: Энциклопедия: в 2 т. М.: Сов. энциклопедия, 1980. Т. 2. С. 161-166. [Toporov, Vladimir N. 1980. The model of the world (mythopoeic). In Myths of the Peoples of the World: Encyclopedia: in 2 Volumes. Moscow.: Soviet Encyclopedia. 161-166. (In Russ.)].
- Уланович О.И., Карпушенко Ю.И. Постмодернизм: формы социальной рефлексии и художественного миромоделирования // Искусствознание: теория, история, практика. 2022. № 1 (33). С. 71-78. [Ulanovich, Oksana. I. & Yuliya I. Karpushenko. 2022. Postmodernism: Forms of social reflection and artistic modeling of the world. Art Studies: Theory, History, Practice 1 (33). 71-78. (In Russ.)].
- Цивьян Т.В. Модель мира и ее лингвистические основы. М. : КомКнига, 2006. [Tsiv'yan, Tatyana. V. 2006. Model' mira i ee lingvisticheskie osnovy (The Model of the World and its Linguistic Foundations). Moscow: KomKniga. (In Russ.)].
- Шерина Е.А. Аксиологический компонент значения в семантической структуре собственно образных слов, характеризующих человека (на материале русского и английского языков) // Современные проблемы науки и образования. 2012. № 6. С. 534-542. [Sherina, Evgeniya. A. 2012. Axiological component of the meaning in semantic structure of figurative words characterizing a person (in English and Russian languages). Modern Problems of Science and Education 6. 534-542. (In Russ.)].
- Эмер Ю.А. Миромоделирующая функция частушки в праздничном дискурсе // Вопросы когнитивной лингвистики. 2013. № 1 (34). С. 136-142. [Emer, Yuliya. A. 2013. World-modeling function of the chastooshka in festive discourse. Voprosy Kognitivnoy Lingvistiki 1 (34). 136-142. (In Russ.)].
- Эмер Ю.А., Гриценко Л.М. Прецедентный текст: жизнь и судьба // Вестник Томского государственного университета. Культурология и искусствоведение. 2013. № 3 (11). С. 16-24. [Emer, Yuliya. A. & Lyubov’ M. Gritsenko. 2013. Precedent text: Life and fate. Bulletin of Tomsk State University. Cultural studies and art criticism 3 (11). 16-24. (In Russ.)].
- Юрина Е.А. Образный строй языка. Томск, 2005. [Yurina E. A. 2005. Obraznyi stroĭ yazyka (Figurative Structure of Language). Tomsk. (In Russ.)].