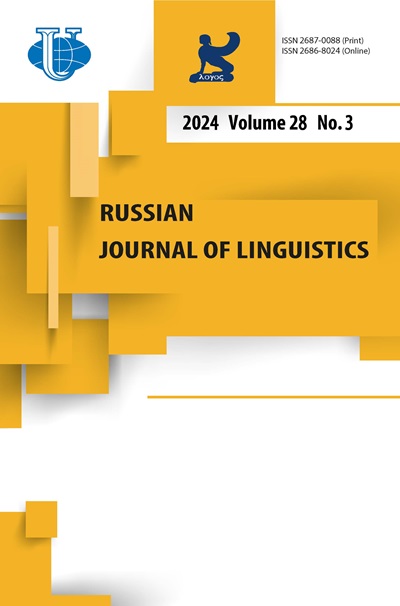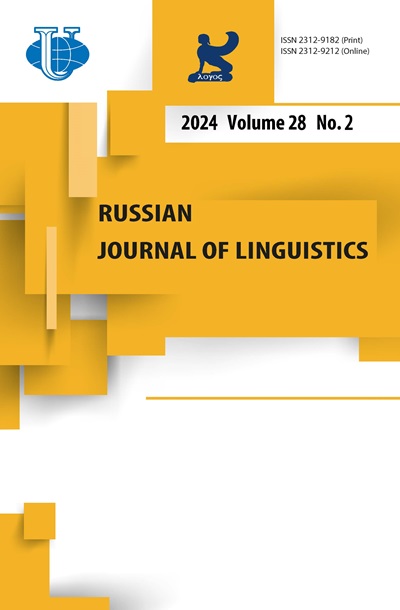Когнитивные механизмы ошибочной интерпретации юмора морфных единиц
- Авторы: Агеев С.В.1, Пушкарев Е.А.2, Антоненко Н.В.3
-
Учреждения:
- Санкт-Петербургский государственный экономический университет
- Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
- Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет
- Выпуск: Том 28, № 2 (2024)
- Страницы: 415-438
- Раздел: Статьи
- URL: https://journals.rudn.ru/linguistics/article/view/39439
- DOI: https://doi.org/10.22363/2687-0088-36029
- EDN: https://elibrary.ru/FKDAHX
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Мем как культурно-семиотический феномен активно изучается с позиции порождения юмора, однако проблема описания когнитивных механизмов, объясняющих, почему мемы могут не вызывать юмористическую реакцию, остается нерешенной. Данная статья посвящена выявлению причин возникновения когнитивных ошибок восприятия юмора так называемых морфных единиц (мемов, имидж-макро, фотожаб, вирусных видео), характеризуемых комбинацией сигналов одной либо различных модальностей и потенциально способных вызвать юмористическую реакцию у потребителя. Цель исследования - описать и классифицировать когнитивные ошибки в восприятии морфной единицы, входящей в мемический цикл sad keanu. Использованный метод опроса и собранные эмпирические данные позволили провести качественный анализ ответов респондентов относительно восприятия предложенного мема. Полученные результаты демонстрируют, что стимульное изображение в идеальном случае должно активировать через метонимический доступ релевантные для понимания морфной единицы структуры скрипта, в том числе включающие аллюзивный опыт, соотносящийся с прецедентными культурно-специфическими ситуациями. В работе выделяются интерпретационные ошибки, связанные либо с актом потребления стимульной единицы на уровне метаскрипта я потребляю мем, либо возникающие в результате когнитивного сбоя при актуализации скриптов, составляющих юмористическую оппозицию, если необходимые скрипты вообще концептуализированы индивидом. Выявлено, что когнитивные ошибки обычно обусловлены наличием частичной или нулевой культурной грамотности у потребителя мема. Отсутствие юмористической реакции в ситуациях достаточной культурной грамотности индивида объясняется социо-прагматическими факторами, например, ценностными ориентирами потребителя мема, отличными от установок создателя мема. Результаты позволяют считать основным источником когнитивных ошибок неспособность потребителя мемического сигнала актуализировать релевантные для понимания юмора скрипты (или их части). Подобный подход позволяет в перспективе применить данный метод к анализу любого мультимодального юмора.
Ключевые слова
Полный текст
Введение
Интернет-мемы являются распространенным видом цифровой коммуникации и самовыражения вовлеченных в интернет-дискурс (Laineste & Voolaid 2017, Yus 2018), что, безусловно, привлекает внимание лингвистов. Мемология – наука о мемах – охватывает различные аспекты функционирования и генезиса мемов, вопросы возникновения и развития культуры интернет-мемов (Börzsei 2013, Shifman 2012, 2013), мемическую виральность (Burgess 2014), прагматическое воздействие мема на эмоционально-психическое состояние потребителя мема (Paciello et al. 2020), в том числе механизмы воздействия на получателя в политическом дискурсе (Way 2021), юмористические паттерны, реализуемые через мем (Taecharungroj & Nueangjamnong 2015, Dynel 2016, 2020, Yus 2021), взаимодействие мультимодального творчества и лингвистического юмора (Dancygier & Vandelanotte 2017, Vásquez & Aslan 2021), социо-семиотический подход к анализу мемов (Kavitha 2018, Hussein & Aljamili 2020, Канашина 2018а). Кроме этого, в фокусе ряда исследователей оказываются вопросы понимания и смысла мемов, фоновых знаний и пресуппозиций при интерпретации мемов потребителем (Канашина 2018б, Никитина и др. 2018, Щурина 2013).
Вместе с тем есть отдельные аспекты функционирования мема, которые требуют дальнейшей проработки. К ним относятся, в частности, ситуации, когда юмористический мем по каким-то причинам не воспринимается потребителем как смешной. В статье для восполнения данной лакуны ставится вопрос об описании когнитивных механизмов, которые могли бы объяснить, почему подобные мемы не вызывают задуманной юмористической реакции. Целью работы является выявление и классификация причин когнитивных ошибок восприятия и неудач в интерпретации комического в эпизодах так называемого «морфного юмора», представленных в виде интернет-мемов, включая фотожабы – мема, созданного с помощью фотомонтажа и обычно не содержащего панчлайн1. Для ее достижения мы проанализировали понятие мультимодальности, ввели термин «морфная единица» и дали определение мема как морфной (часто мультимодальной) структуры. Также нами была рассмотрена возможность применения существующих подходов к изучению юмора, и, прежде всего, семантической теории юмора, основанной на оппозиции скриптов, для объяснения ошибок интерпретации мемов потребителем. Кроме этого, в работе был произведен разбор собственно примеров ошибок восприятия комического с применением скрипт-анализа, что позволило классифицировать неудачи, возникающие при потреблении юмора, созданного морфными инструментами.
Структурно-семантические особенности юмористической морфной единицы
Понятие мультимодальности не ново в контексте семиотических лингвистических исследований; это во многом объяснимо ростом объема вербально-визуального дискурса, что стало возможным благодаря распространению интернета. Вслед за Naciscione (2010), авторы считают уместным определить мультимодальность как атрибут коммуникативной ситуации, характеризующейся наличием более чем одного семиотического способа представления сигналов. Наиболее типичным видом мультимодального интернет-дискурса является мемическая единица. По определению Börzsei (2013), интернет-мем может проявляться в таких модальностях, как неподвижное изображение (текст, отдельное изображение или изображение, сопровождаемое текстом), анимированный GIF (движущееся изображение) или видео. Наиболее распространенной формой интернет-мемов является имидж-макро, который представляет собой реконтекстуализированную картинку (например, скриншот), сопровождаемую рамкой в виде текста сверху и/или снизу (см., напр., Vásquez & Aslan 2021). Однако мем может выступать не только как мультимодальная единица, то есть включать в себя разнородные сигналы, но и конструироваться на основе сигналов одной модальности (например, фотожабы, состоящие из элементов двух и более скриншотов). Таким образом, целесообразно ввести понятие морфной единицы (МЕ), которая, в отличие от мультимодальной, допускает сигналы как одной модальности (например, только изображение, или только текст, или только аудио), так и разных модальностей; следовательно, вводимое понятие шире и включает в себя монои мультимодальные формы.
В мемологии различают мем вообще и мем, эксплуатирующий комическое (Lankshear & Knobel 2019). Представляется, что только часть (возможно, бóльшая) мемов направлена на реализацию некоего комического потенциала. Комическое, будучи свойством, присущим человеку, всегда было в фокусе внимания философов и лингвистов. Представляется целесообразным начать исследования комического мема с анализа природы комического и обзора центральных категорий теории юмора. Описания эволюции теории юмора, важные с точки зрения истории науки (см., напр., Larkin-Galiñanes 2017, Lintott 2016, McGhee 1979), однако находящиеся вне фокуса настоящего исследования, уравновешиваются более современными теориями с разветвленным тематическим/понятийным аппаратом.
Для целей данного исследования наиболее релевантными являются два подхода к анализу комического. Семантическая теория юмора, основанная на оппозиции скриптов (в дальнейшем – SSTH), представленная В. Раскиным (Raskin 1984, Attardo & Raskin 1991), рассматривает случаи вербальных шуток, содержащих панчлайн. Как отмечает исследователь, шутка строится на идее несоответствия ожиданий (incongruity) потребителя шутки в отношении развития скриптов, которые по сути являются обобщенным представлением индивида о какой-либо ситуации. Эта теория, базируясь на элементах фреймовой семантики (см. Minsky 1975, Fillmore 1977), представляет юмор как конфликт, возникающий при столкновении двух (или более) скриптов и требующий разрешения. Следует отметить, что В. Раскин экстраполирует свою теорию исключительно на образцы вербального юмора и оперирует текстовыми манифестациями шуток, которые содержат отдельные лексемы, выступающие в качестве сигналов, активирующих скрипты в сознании индивида. Авторы данной статьи выдвигают гипотезу, что сигналами-активаторами скриптов, вступающих в оппозицию в шутке, могут быть и невербальные элементы, например, картинка интернет-мема. Такой подход позволяет использовать теорию В. Раскина для анализа механизмов комического в морфных единицах, которые могут носить в том числе невербальный характер.
Еще один подход к анализу юмора, известный как теория превосходства (the superiority theory), отталкивается от античной традиции. В основе теории находится постулат, удачно сформулированный Bain (2006), о том, что человеку смешным кажется не только и не столько какой-либо дефект в объекте шутки, но скорее ощущение некоего морального превосходства над высмеиваемым объектом, что может позволить автору шутки и ее потребителю воспринимать такой объект (чаще всего другого человека) «поверженным». Figueroa-Dorrego и Larkin-Galiñanes (2009) интерпретируют подобное поведение разделяющих шутку не только как форму психологической защиты, но и как способ выражения удовлетворенностью самими собой, позволяющий скрыть собственное незнание, зависть и т.д. В рамках этой теории демонстрацию юмора возможно расценивать, с одной стороны, как маркер социального взаимодействия вообще, и, с другой стороны, как маркер принадлежности индивида, прибегающего к высмеиванию, к определенной социально-возрастной группе, которая готова разделять шутку и способы высмеивания с ее автором. Подобное взаимодействие между автором и потребителем возможно только в том случае, если последний обладает некоторым культурно-социальным опытом, позволяющим ему увидеть/понять/осознать аллюзию на культурные феномены в шутке, иными словами, демонстрировать свою культурную грамотность, что может быть описано в терминах интертекстуальности (см., напр., Tsakona 2018).
Интертекстуальность традиционно в терминах формальной лингвистики предполагает наличие сложных связей между текстами и жанрами (Kristeva 1980, Bakhtin 1986). В широком понимании интертекстуальность пронизывает все, что мы говорим или пишем, каждый текст является отсылкой к более ранним текстам (Gasparov 2010). Tsakona и Chovanec (2020: 2) считают, что интертекстуальность в той или иной форме находится в центре любой шутки. В то же время необходимо акцентировать внимание на том, что «связь между текстами» в подобных определениях интертекстуальности не более чем метафора, поскольку эти связи не существуют per se, а создаются в сознании интерпретатора на основе его опыта взаимодействия со средой, включающей в себя в том числе и собственно сингалы-тексты.
Исследователи (de Beaugrande & Dressler 2016) выделяют два типа интертекстуальности: жанровая, которая помогает объединить разные тексты в самостоятельный жанр на основании сходных признаков, и референциальная, которая возникает в процессе интерпретации текста в виде аллюзий на предыдущие тексты, события, артефакты. В приложении к анализу МЕ, состоящих из картинки и подписи к ней, можно выделить особый жанр имидж-макро, в отличие, например, от фотожабы, которая строится на фотомонтаже нескольких изображений, часто без текста; в качестве же примеров референциальной интертекстуальности могут служить интернет-мемы, содержащие библейские аллюзии, аллюзии на исторические события и т. п.
Tsakona (2020) анализирует важность интертекстуальности в процессе потребления шуток, основанных на несоответствии или оппозиции скриптов, и приходит к выводу, что получатель не может увидеть несоответствие или оппозицию скриптов без обращения к предыдущим (кон)текстам, которые считаются в какой-то мере ожидаемыми, привычными, соотносящимися с нормой. Следовательно, именно установление интертекстуальных связей с предыдущими (кон)текстами определяет, что именно является несовместимым или несоответствующим данному (кон)тексту.
В идеальной модели отношений автор :: потребитель автором мема словно задумывается «верное», «корректное» и ожидаемое от воспринимающего (мультимодальный) сигнал толкование шутки. При этом такая идеальная ситуация означала бы и то, что у обеих сторон должен быть некий общий, инвариантный опыт, включающий культурную грамотность (cultural literacy в терминах Tsakona (2020). С когнитивной точки зрения опыт представляется результатом взаимодействия человека со средой и фактически является неким состоянием организма (прежде всего, в виде возбуждений его нервной системы). По мнению исследователей (Pushkarev & Rastvorova 2022), минимальные единицы опыта – коги – образуют более крупные когнитивные формы, ассоциируемые с опытом, так называемые идеализированные когнитивные модели. Являясь, по сути, паттернами возбуждений нейросети индивида, различные идеализированные когнитивные модели совокупно в причинно-следственной последовательности могут ассоциироваться с еще более крупной формой опыта – скриптом, включая его статическую разновидность фрейм. Таким образом, и культурная грамотность, и способность интерпретатора распознавать аллюзии подразумевают наличие у индивида некоего опыта, который, в свою очередь, может иметь характер скрипта.
В данной работе постулируется идея отношений включенности в опыт индивида вообще его культурной грамотности (как совокупности специфических разновидностей опыта, получаемых во взаимодействии индивида с социумом) с дальнейшей активацией участков опыта, необходимых для корректного понимания аллюзий (в работе предлагается называть такой опыт аллюзивным), что возможно только при наличии необходимой культурной грамотности (см. рис. 1). Это также означает, что способность к прочтению аллюзии с когнитивной точки зрения предполагает и способность к ассоциированию друг с другом различных скриптов, образующих культурную грамотность индивида.
Рис. 1. Некоторые формы опыта индивида в их взаимосвязи /
Figure 1. Different forms of individual experience in their interrelation
Соотношение внешних сигналов в МЕ и активируемых ими скриптов можно представить следующим образом (см. рис. 2). МЕ, являясь визуальным или визуально-звуковым конструктом вне потребителя, содержит сигналы, ассоциируемые посредством возбуждения релевантных сенсомоторных и когнитивных зон мозга, как минимум, с двумя скриптами, где репрезентации этих сигналов (оранжевые области на схеме) по метонимии (красные стрелки) концептуализируют иные структуры, связанные с данными скриптами. Ощущение конфликта скриптов (серая стрелка), то есть когда ситуация, по мнению индивида, разворачивается неожиданным образом, или, иными словами, неконгруэнтно, приводит к возникновению юмористического эффекта через разрешение данного конфликта скриптов.
Таким образом, учитывая монои мультимодальную природу сигналов, которые могут служить триггерами для (частей) скрипта, в рамках исследования авторы отходят от термина мультимодальность в пользу морфности, что позволяет охватить те мемические единицы, которые состоят из сигналов одной модальности, и что дает возможность адаптировать SSTH к случаям невербального юмора. Кроме этого, для полноценной активации скриптов, являющихся основой шутки, необходим некий аллюзивный опыт, который может реализовываться в том числе посредством интертекстуальных связей. Наличие такого опыта в рамках теории превосходства свидетельствует о возможности включения потребителя мема в круг «избранных», способных оценить шутку. Также логично предположить, что наиболее очевидными причинами интерпретационных ошибок могут являться, с одной стороны, неспособность потребителя распознать моно-/мультимодальные сигналы, служащие толчком к активации скриптов или их частей по метонимии, а с другой, отсутствие у потребителя релевантных скриптов, что объясняется его недостаточной культурной грамотностью. Следует однако отметить, что в фокусе исследования находятся когнитивные ошибки в восприятии юмора, а не ошибки, вызванные качеством стимульного изображения (размытая картинка, неудачные настройки экрана и иные подобные помехи).
Рис. 2. МЕ как совокупность сигналов, активирующих скрипты /
Figure 2. A morphed unit as a script-triggering signal
Материал, методика и организация исследования
Поставленная задача, а именно выявление возможных причин интерпретационных ошибок при восприятии морфного юмора, решается путем проведения опроса и качественного анализа ответов респондентов, которым было предложено ответить на ряд вопросов, связанных с восприятием мема sad keanu (Charlotte A. 20 March 2024). Отметим при этом, что в связи с тем, что в качестве стимула предложена МЕ, не содержащая текст, владение иностранным языком не является релевантным параметром для исследования. Выбор фотожабы, а не креолизованного текста (в виде имидж-макро, то есть самого распространенного вида мемов, представляющего собой картинку с надписью на ней) в качестве стимула в опросе объясняется возможностью для исследователей (1) экстраполировать положения SSTH на случаи невербального юмора; (2) избежать ограничения, связанные с языковой компетенцией респондентов; (3) сосредоточиться на оппозиции (культурно обусловленных) скриптов, не подкрепленных эксплицирующей их текстовой частью; (4) приблизиться к пониманию механизмов мышления, участвующих в процессе восприятия и интерпретации, в частности, бестекстовых МЕ.
МЕ из цикла sad keanu основана на прецедентном изображении, сделанном в 2010 году папарацци2. На фотографии (рис. 3) грустящий актер Киану Ривз с сэндвичем в руке сидит на скамейке.
Рис 3. Прецедентное изображение (слева) и МЕ-стимул из цикла SAD KEANU /
Figure 3. The precedent image (left) and the stimulus morphed unit from the SAD KEANU meme cycle
На момент написания статьи интернет-ресурсом KnowYourMeme.com зафиксировано более 700 МЕ, составляющих данный мемический цикл (см. некоторые примеры на рис 4). Такое количество МЕ косвенно свидетельствует о вирусности цикла и его способности решать прагматические цели создателей мема (например, насмешить, высмеять, привлечь внимание и т. п.).
Рис. 4. Примеры фотожаб из мемического цикла SAD KEANU /
Figure 4. Examples of photoshopped images from the SAD KEANU meme cycle
Мем-стимул (рис. 3) является морфом двух изображений: отредактированное прецедентное фото Киану Ривза наложено на кадр из кинофильма «Форрест Гамп» / Forrest Gump (Zemeckis 1994). Фрагмент из фильма отсылает к известному монологу главного героя My momma always said life was like a box of chocolates, you never know what you’re gonna get (Моя мама всегда говорила, что жизнь похожа на коробку шоколадных конфет, никогда не знаешь, какая тебе попадется).
Выбор именно этого мема обусловлен тем, что в нем отсутствует ожидаемый текстовой панчлайн, который обычно поддерживает один из скриптов, и таким образом, задает вектор интерпретации. Также вероятно, что осведомленность участников опроса и их способность воспринимать аллюзии может быть довольно низкой, поскольку фильм вышел около 30 лет назад. Это допущение важно в контексте проводимого исследования, имеющего цель выявить в том числе и роль культурной грамотности для юмористического понимания МЕ, предполагающей знания о событиях как конкретной (родной) культуры, так и глобальной. Использование в качестве стимула МЕ, которая содержит графические аллюзии на элементы глобальной поп-культуры, представляется оправданным, поскольку респонденты, тем не менее, потенциально могут быть знакомы с данными феноменами мировой культуры. В частности, фильм «Форрест Гамп» был всемирно популярным в момент выхода на экраны, а актер Киану Ривз – мировая кинозвезда.
Как представляется, идеальный интерпретатор данного мема должен распознать сигналы, отсылающие к двум скриптам С1 киану грустит и С2 форрест произносит мотивирующую речь. В дополнение необходимо отметить, что сам акт потребления МЕ разворачивается в рамках метаскрипта (МС) я потребляю ме, который отражает опыт взаимодействия потребителя с любыми МЕ. C1 подразумевает знание интерпретатором прецедентной ситуации, связанной с появлением фотографии. Для возникновения юмористического эффекта важен не только набор аллюзий, который данное событие (фотография) вызывает в памяти потребителя, но и знание того, что исходное изображение стало вирусным в том числе и в силу конфликта между популярностью и статусностью актера и его «приземленным» внешним видом. В мемическом цикле С1 носит инвариантный характер и в идеале должен быть знаком потребителю мема, при этом необходимо, чтобы С2 (вариативная часть МЕ) был максимально неожиданным для данного контекста, возможно, абсурдным.
В анонимном онлайн-опросе, проводимом с использованием Google-формы, добровольно приняли участие 80 человек в возрасте от 17 до 27 лет с различным уровнем образования (среднее – 34, неоконченное высшее – 24 и высшее – 22), из них 22 мужчины и 58 женщин. Выбор данной возрастной группы был обусловлен двумя факторами. Во-первых, интерпретация любых мультимодальных текстов, к которым, наряду с карикатурами, можно отнести и мемы, строится, по мнению С.Ю. Павлиной (2022), на известном коммуниканту релевантном широком культурном контексте, носящем характер пресуппозиции. Поскольку целью настоящего исследования является объяснить, почему МЕ может не вызывать юмористической реакции, для опроса намеренно была выбрана та социальная группа, которая в виду своего возраста маловероятно знакома с нюансами социально-исторического контекста, связанного с появлением МЕ, используемого в качестве стимула. Во-вторых, представители молодого поколения обладают более широким опытом взаимодействия с компьютерными семиотическими практиками, а значит, легко определяют формальные признаки МЕ (Zappettinni et al. 2021).
Применение Google-форм в качестве способа проведения опроса продиктовано желанием исследователей приблизить процесс анкетирования к естественному способу потребления мема (непринужденная обстановка, использование удобных девайсов и т. д.). Помимо идентификационных вопросов, направленных на определение социо-демографического профиля респондентов (пол, возраст, уровень образования), опросник для самостоятельного заполнения состоял из стимула-мема и вопросов открытого типа к нему: (1) Посмотрите на картинку. Кажется она вам смешной? (2) Кратко опишите происходящее на картинке (место, действие, события). (3) Как бы вы описали людей на картинке? (4) Какие ассоциации вызывает у вас эта картинка? (5) Если эта картинка кажется вам смешной, что именно вас смешит? Вопросы сформулированы простым языком, без использования терминов и направлены на определение возможной корреляции между культурной грамотностью респондентов (а значит, наличием необходимого опыта, соотносимого с соответствующими скриптами) и способностью индивидов видеть юмор в МЕ. Именно поэтому участникам опроса не сообщалось, что стимул является юмористическим мемом.
Проведенный опрос позволил получить эмпирический материал, который был качественно описан и систематизирован. Количественные данные были намеренно проигнорированы, поскольку для исследования ключевым является не то, сколько респондентов допустили какое-то число интерпретационных ошибок, а сам факт и специфика их возникновения. Более того, количественные данные о типах ошибок в процентном соотношении вряд ли могут быть экстраполированы на другие группы респондентов, а значит, они не будут качественно выявлять новые типы ошибок. На следующем этапе данные были проинтерпретированы с целью выявления, на каком этапе мыслительной обработки морфа потребителем возможны интерпретационные сбои и какого они рода.
Ключевым методологическим принципом для настоящего исследования является допущение того, что цепочки лексических единиц, ассоциируемых с каким-то когнитивным событием, могут косвенно указывать на особенности опыта, приобретенного индивидом, либо на отсутствие релевантного опыта. Анализ высказываний респондентов позволяет судить об удерживаемым памятью индивида участке опыта, являющегося «структурированной репрезентацией, которая ассоциируется со стереотипной последовательностью событий в контексте» (Schank & Abelson 1977: 41), следовательно, является скриптом. Таким образом, встает вопрос о формализованной записи полученного эмпирического материала. Авторы исходят из положения, что опыт может иметь пропозициональную структуру (см., напр., Lakoff 1987), которую в рамках обыденного сознания можно было бы представить как «кто-то где-то как-то что-то делает» и которую формально же можно соотнести с предикатом/признаком и аргументами. Наличие или значимое отсутствие тех или иных лексем, соотносимых с подобной пропозициональной структурой, может сигнализировать о том, активируются ли у участников опроса в ответ на стимул релевантные скрипты, необходимые для понимания юмора в данной МЕ.
В качестве примера анализа эмпирического материала рассмотрим разбор высказываний одного из респондентов (Таблица 1).
Таблица 1. Вопросы (В) анкеты и ответы (О) респондента на них
В1: Кратко опишите происходящее на картинке (место действия, события). | О1: Три человека сидят на одной лавке. |
В2: Как бы Вы описали людей на картинке?
| О2: Люди с угрюмым настроением. |
В3: Какие ассоциации вызывает у Вас эта картинка? | О3: Обычная картина в парке любого города. |
В4: Если эта картинка кажется Вам смешной, что именно Вас смешит? | О4: Мне эта картинка кажется самой обычной. |
Table 1. The questions (B) in the survey and the respondent’s answers (O)
В1: Briefly describe what is going on in the picture (place, events). | О1: Three people are sitting on the same bench. |
В2: How would you describe the people in the picture? | О2: People in a gloomy mood. |
В3: What associations does this picture evoke in you? | О3: An ordinary picture in a park in any city. |
В4: If this picture seems funny to you, what exactly makes you laugh? | О4: This picture seems very ordinary to me. |
На первом этапе в ответах определяются те лексемы, которые можно считать маркерами слотов скриптов (субъект S, предикат P, признак A, объект O). Далее, на основании заполненных слотов делается предположение относительно содержания скриптов, активизируемых сознанием респондента. Затем такие идиосинкратические скрипты (Сi и МСi) соотносятся со скриптами в идеальной интерпретации стимула (С1, С2, МС), то есть такой, которой должно быть достаточно для осмысления МЕ как шутки (табл. 2).
Таблица 2. Выделяемые идеальные (С1, С2, МС) и идиосинкратические (Сi, МСi) скрипты
Идеальные скрипты | Идиосинкратические скрипты |
С1 киану (S1) грустит (A1) | Сi угрюмые (A1) люди (Si) сидят (Pi) на лавке (Ai) в парке (Ai) |
С2 форрест гамп (S2) произносит (P2) мотивирующую (A2) речь (O2) | |
МС я (Sмс) потребляю (Pмс) мем (Oмс) | МСi я (Sмс) рассматриваю (Piмс) обычную (Aiмс) картинку (Oiмс) |
Table 2. The ideal (С1, С2, МС) and idiosyncratic (Сi, МСi) scripts in juxtaposition
The ideal scripts | The idiosyncratic scripts |
С1 sad (A1) keanu (S1) | Сi moody (A1) people (Si) are sitting (Pi) on a bench (Ai) in a park (Ai) |
С2 forrest gump (S2) is giving (P2) a pep (A2) talk (O2) | |
МС i (Sмс) consume (Pмс) a meme (Oмс) | МСi i (Sмс) am viewing (Piмс) an ordinary (Aiмс) picture (Oiмс) |
В данном случае респондент не распознал ни актера Киану Ривза, ни персонажей из х/ф «Форрест Гамп». Это позволяет сделать вывод, что оба скрипта (С1, С2), связанные с прецедентыми событиями не апроприированы (то есть не усвоены, не стали частью опыта) рассматриваемым участником опроса. Ответы респондента недвусмысленно указывают на то, что вместо оппозиции этих двух скриптов им выделяется единственный скрипт Сi люди сидят на скамейке. Несмотря на то, что некоторые слоты (A1, Sмс) оказываются заполненными, слоты релевантных скриптов (S1, S2, P2, A2, O2, Pмс, Oмс) остаются пустыми или заполненными некорректно; иными словами, опыт индивида не является достаточным для выявления задуманной создателем МЕ оппозиции скриптов, что приводит к возникновению интерпретационной ошибки и отсутствию юмористической реакции. Также обращалось внимание, идентифицируют ли опрошенные стимул как МЕ. Это важно, поскольку акт потребления мема, обладающего своей жанровой спецификой, тоже может быть представлен в виде МС, в каком-то смысле направляющего поведение потребителя. Представляется, что в анализируемом ответе респондент не смог идентифицировать изображение как фотожабу, на что указывает многократное употребление лексем «обычная», «картинка» вместо ожидаемых «мем», «фотожаба», «фотошоп» и т. п. Таким образом, в рассматриваемом примере возникают ошибки интерпретации как на уровне оппозиции скриптов, так и на уровне МС.
Результаты исследования
Поскольку возникновение юмористического эффекта напрямую связано с оппозицией скриптов и разрешением несоответствия между ними, все вопросы анкеты были составлены таким образом, чтобы обнаруживать в ответах респондентов прямые или косвенные отсылки к скриптам и/или их частям (в том числе в форме культурно-обусловленных аллюзий), релевантным для понимания юмора.
Результаты качественного анализа ответов на вопрос анкеты «Кратко опишите происходящее на картинке (место действия, события)» позволяют говорить о том, что ряд респондентов не смогли соотнести один или оба скрипта со своим опытом. При этом в рамках своего культурного опыта (грамотности) в ответ на стимул они склонны индуцировать вместо С1 и/или С2 иные скрипты, например друзья обсуждают проблему, люди ждут автобус, мужчина с бородой не может ответить на глупый вопрос, который задал сам, незнакомые переглядываются, и т.д. Подобные ответы подтверждают, что такие респонденты обычно оказываются не способны интерпретировать мем в юмористическом ключе, как то, вероятно, задумывал автор мема, поскольку они не видят наличия нескольких скриптов и контраста между ними, и замещают их одним нерелевантным скриптом.
Следует отметить, что поскольку в тексте вопросов анкеты термины «мем», «юмористический мем» и их синонимы не фигурировали, это могло помешать участникам анкетирования выявить жанровую принадлежность стимула. Согласно В.И. Карасику (2018: 904), для определения жанра сообщения в случае затруднения индивид ориентируется на «ситуативную привязку речи и [свой] жизненный опыт». Действительно, анализ ответов подтвердил, что обычно культурной грамотности респондентов оказалось достаточно, чтобы распознать данное изображение как мем и ожидать юмористический подтекст. Испытывая трудности в идентификации контрастирующих скриптов, ведущих к возникновению юмористического эффекта, отдельные респонденты включаются в игру, описывают картинку через призму своего повседневного опыта и продуцируют собственные панчлайны: «сделка провалена», «интеллектуальный процесс», «мое состояние после 4 пар в вузе», «когда друг пригласил на встречу и пришел с девушкой». Логично предположить, что данные ответы, с одной стороны, можно рассматривать как попытку потребителя смягчить коммуникативную неудачу, что вполне согласуется с прагматической стратегией сохранения лица. С другой стороны, поскольку культурная грамотность имеет элитистское измерение (Tsakona 2020), знание некоторой прецедентной ситуации (а значит и соотносящихся с ней скриптов) позволяет интерпретатору быть включенным в ограниченную группу «избранных». Таким образом, часто не желая показывать, что конкретный юмор ему непонятен, интерпретатор пытается завуалировать это, обратив ситуацию в собственную шутку, которая может не совпадать с авторской задумкой, но быть не менее удачной с точки зрения создаваемого юмористического эффекта. Очевидно, что подобное поведение согласуется с постулатами теории превосходства, когда потребитель шутки пытается заручиться поддержкой значимых для него других.
Если первый вопрос анкеты был нацелен на идентификацию опрашиваемыми обоих скриптов, актуализируемых МЕ, то второй вопрос «Как бы Вы описали людей на картинке?» является детализирующим и позволяет увидеть, могут ли респонденты вычленить более мелкие элементы скрипта (например, субъектов-актантов), которые способны актуализировать скрипты целиком. Субъект С1 может быть описан как грустный киану, субъект С2 форрест гамп. Результаты анализа показали, что изображения обоих субъектов были идентифицированы незначительной частью участников опроса, тогда как бóльшая часть узнала одного из субъектов, что является еще одним источником интерпретационной ошибки.
Наблюдается большой разброс в ответах опрашиваемых на вопрос о том, кого же они видят в роли участников ситуации на картинке. В фокус некоторых респондентов попадают признаки, которые не позволяют однозначно идентифицировать предлагаемые описания с Киану Ривзом и Форрестом Гампом: «Харизматичная девушка с эмоцией, выражающей недоумение. Задумчивый мужчина. Мужчина с заинтересованным взглядом»; «черный в белом и белый в черном»; «Черная женщина средних лет, короткая стрижка, одета в белое короткое платье и розовый кардиган, неформальный стиль, с собой сумка через плечо, на левой руке часы; белый мужчина средних лет с щетиной, волосы растрепанные темные, одет в джинсы, черную футболку и пиджак, выглядит расстроенным/потерянным; белый мужчина средних лет с очень короткими волосами, он в светлом костюме, голубая рубашка в клетку не подходит под костюм, на коленях держит плоскую белую коробку»; «Мужчина в белом справа не вызывает доверия» и т. д. Очевидно, у некоторых респондентов визуальный стимул актуализирует ложные скрипты/части скриптов, а, следовательно, у них концептуализируются иные структуры, отличные от ожидаемых С1 и С2.
Цель следующего вопроса «Какие ассоциации вызывает у вас эта картинка?» выявить через анализ ассоциативных связей тех респондентов, которые продуцируют однозначно ложные скрипты. Если исходить из того, что ассоциации могут отражать связь между концептуализациями событий, явлений, фактов и т. п., составляющих опыт индивида, то это позволяет судить о характере опыта, усвоенного человеком в виде фреймов/скриптов и его релевантности для интерпретации конкретной шутки. Ассоциации типа «грусть», «уныние», «Форрест», «Киану» свидетельствуют о том, что опрашиваемые интерпретируют визуальный стимул в ожидаемом ключе. Однако их же ассоциации «свежесть», «Крамской», «туристы», «студенты», «рок-группа», «зависть» сигнализируют о том, что респондент, вероятно, строит ложный скрипт/скрипты, что закономерно не позволяет индивиду понять задуманную создателем МЕ шутку.
Цель последнего вопроса «Если эта картинка кажется вам смешной, что именно вас смешит?» заключалась в побуждении тех участников, которые утверждают, что данная МЕ вызывает юмористическую реакцию, попытаться вербализовать шутку, чтобы на следующем этапе проанализировать, присутствует ли в их описании некая (в идеале – задуманная создателем МЕ) оппозиция скриптов С1 и С2. Лишь некоторые участники сумели нащупать оппозицию скриптов по универсальной линии реальное :: нереальное и попытались описать ее: «персонажи из двух разных фильмов, которые очень отличаются друг от друга»; «меня смешит, что персонажи из разных фильмов находятся вместе»; «Киану Ривз, он не принадлежит этому месту»; «то, что Киану Ривза не должно быть здесь». Под оппозицией реальное :: нереальное следует понимать принадлежность субъектов соответствующих скриптов к реальному (актер Киану Ривз обедает в парке) и вымышленному (персонаж художественного произведения Форрест Гамп) мирам. Представляется, что данная модель оппозиции является популярным способом создания комического эффекта (см., напр., Raskin 1984, Стефанкова 2014, Карасик 2018).
Ряд респондентов дал ответы смешные, однако базирующиеся на иных скриптах, например, оппозиция друзья смешат :: друг продолжает грустить: «У всех разные эмоции и свое настроение, надо поддержать печального друга/знакомого, но у всех свои события и эмоции»; «возможно, сама ситуация, поскольку похоже на момент, когда один из друзей грустит, а двое переговариваются, чтобы его подбодрить и показывают друг другу знаки. Казалось бы, ничего смешного, но что-то забавное в этом есть». Другие участники в ходе опроса включаются в языковую игру, основанную на знании поп-культурных аллюзий, и вовлекают интервьюеров в нее, развивая шутку, то есть добавляя сигналы-отсылки к С1 или С2, например, «Лес, который бежит» является отсылкой к фразе из фильма “Run, Forrest, run!” или «Форест Гамп предлагает конфеты Эвану», где Эван – персонаж в исполнении Киану Ривза из нерелевантного фильма. Подобную стратегию можно интерпретировать желанием респондента следовать модели поведения идеального потребителя мема, которая подразумевает способность реципиента понять, оценить задумку автора и, таким образом, включить себя в круг понимающих шутку «избранных», что коррелирует с постулатами теории превосходства в исследованиях юмора (см., напр., Tsakona 2020).
Следует отметить, что некоторые ответы на вопросы анкеты указывают, что ряд респондентов имеет опыт взаимодействия с МЕ. Характер подобного взаимодействия может быть представлен в виде МС я потребляю ме, которую можно считать одной из «моделей смехового поведения» (Карасик 2018: 895). Это значит, что есть некая идеальная последовательность действий и предполагаемых реакций потребителя на мем. Нарушение этой последовательности приводит к двум возможным исходам. Во-первых, потребитель отказывается видеть/искать смешное в МЕ, потому что ему не хватает опорных слотов МС (например, панчлайна): «Она не смешная для меня, возможно, потому, что я не знаю контекста фотки с Ривзом. Она могла бы быть более смешной, если добавить какую-то типичную подпись типа «Когда друг сказал, что больше не будет пить/звонить бывшей/ругаться с отцом/откладывать все до дедлайна». Во-вторых, нарушение ожидания потребителя в отношении первичной реакции на стимул (меня не смешит) толкает его к рефлексии, почему так произошло, что, в свою очередь, вызывает вторичную реакцию (мне смешно) на сам сбой в МС в акте потребления МЕ: «Как раз таки смешно именно оттого, что это вообще не смешно… постирония». Таким образом, анализ ответов позволяет выявить две глобальные группы интерпретационных ошибок, (а) связанных с собственно актом потребления стимульной единицы на уровне МС, и (б) возникающих в результате когнитивного сбоя при актуализации скриптов, составляющих юмористическую оппозицию, если необходимые скрипты вообще когнитивно усвоены индивидом.
Дискуссия
В работе предложен термин МЕ (морфная единица), под которым понимается комплекс сигналов, в том числе разной модальности, активизирующих скрипты в сознании потребителя посредством ассоциативной связи между разными концептуализациями опыта индивида. Введение понятия МЕ позволяет сделать выводы относительно того, как человек категоризирует/воспринимает мир, в том числе помогает понять роль аллюзии как когнитивного феномена, составляющего опыт индивида. Под опытом, обретаемым человеком в ходе взаимодействия с окружающим миром, видится совокупность психофизиологических состояний и процессов, возникающих в организме индивида в ответ на внешний раздражитель. Понятия скрипт и фрейм являются, по сути, способами представить опыт в виде дискретных единиц в научном дискурсе. Столкновение скриптов и последующее разрешение возникающего когнитивного конфликта необходимо для ощущения смешного (Raskin 1984, Vandaele 2002). МЕ также позволяет по-новому взглянуть на возможные источники ошибок восприятия юмора и предпринять попытку их классификации.
Типология возможных ошибок взаимодействия потребителя с МЕ должна принципиально коррелировать с процессом восприятия и интерпретации этой МЕ индивидом (типы 1–5). Вне фокуса данного исследования находятся те ошибки, которые обусловлены средой, например, вызванные качеством самого сигнала (тип 1), а также помехами, мешающими перцепции сигнала (тип 2). В центре внимания исследователей оказываются ошибки, связанные с особенностями когнитивных процессов в акте потребления МЕ. Поскольку «комическим для человека может быть что-то, во-первых, легко узнаваемое (т. е. имеющее знакомый образ) и, во-вторых, хорошо ему известное (понятное)» (Кошелев 2007: 283), в работе предлагается классификация ошибок, основанная на степени культурной грамотности индивидов (типы 3–5).
Наиболее очевидной причиной ошибок в процессе интерпретации МЕ можно считать полное отсутствие культурно-специфического релевантного опыта (тип 3), что не позволяет должным образом интерпретировать сигналы в составе МЕ, а значит, активизировать значимые скрипты, то есть коррелирующие с опытом, необходимым для разгадки задумки создателя МЕ. Вариантом такого типа ошибок являются случаи, когда потребитель видит вместо оппозиции двух релевантных скриптов один нерелевантный. В этом случае индивид не улавливает «юмористическую тональность» (см., Карасик 2018: 899) и интерпретирует МЕ в ином, часто прямом, смысле.
Следующей разновидностью ошибок будем считать два случая, когда индивид имеет ограниченную культурную грамотность (тип 4). Во-первых, из двух скриптов только один оказывается «верным», при этом оппозиция теоретически возможна (и она может привести к возникновению комического эффекта), но не задуманная автором. Во-вторых, имеющаяся культурная грамотность позволяет индивиду «заполнить» лишь часть слотов скрипта, но оппозиция не возникает, поскольку ключевые для понимания шутки слоты оказываются пустыми или заполненными неверно.
Наконец, не следует упускать случаи, когда когнитивных ошибок восприятия как таковых нет (то есть интерпретатор обладает необходимой культурной грамотностью, чтобы увидеть оппозицию между корректно сформированными скриптами), но в силу разных социопрагматических причин оппозиция скриптов не приводит к искомой смеховой реакции (тип 5). Такими причинами, например, могут быть иные морально-ценностные установки потребителя, его принадлежность к отличной социальной, возрастной, гендерной и др. группе; например, мемы про представителей какой-либо нации могут показаться оскорбительными/унизительными представителям данной нации.
Главный методологический принцип в работе – расчленение анализируемого процесса восприятия и интерпретации МЕ индивидом на естественные, продиктованные психофизиологическими особенностями восприятия сигналов человеком, этапы. Проведенный анализ процесса восприятия МЕ потребителем позволяет сделать ряд обобщений не только относительно того, как можно классифицировать ошибки интерпретации в актах потребления бестекстовых МЕ, но и приблизиться к описанию механизмов мышления в целом, что, несомненно, вызывает научный междисциплинарный интерес (Щербакова 2009).
Во-первых, несмотря на существующее сомнение о возможности приложения теории вербального юмора, основанной на оппозиции скриптов (Raskin 1984, Norrick 2004), данное исследование доказывает, что теория применима и к случаям невербального юмора, примеры которого можно найти в МЕ. Очевидно, что фотожаба и имидж-макро для интерпретатора являются такими же сигналами-стимулами, как и текст. Они активизируют те или иные когнитивные структуры мозга, связанные с репрезентацией и концептуализацией опыта, в том числе в виде фреймов/скриптов (см., напр., Pushkarev & Rastvorova 2022).
Во-вторых, помимо классификации ошибок восприятия юмора в реакции на МЕ важным является то, что значение не реифицировано, и тем более не передается сигналом (каким бы он ни был), и что следует избегать приписывать сигналу значение (в том числе неязыковое). Значение следует понимать как динамический когнитивный акт, коррелирующий с определенными паттернами (цепочек) нейронных возбуждений мозга и предполагающий мэппинг некоего субъективного концептуализированного опыта на другой интернализированный опыт и обратно (см., напр., Sinha 1999, Pushkarev & Rastvorova 2022). При этом, естественно, такой опыт может быть весьма разнообразный (напр., визуальный, звуковой, языковой) и существовать на разных уровнях абстрагирования (напр., идеализированные когнитивные модели, фреймы, скрипты, сценарии и т. п.). Анализ МЕ позволяет выявить, что мышление не всегда является языковым и что мы не можем поставить знак равенства между когницией и языком. МЕ, таким образом, лишь инструмент общения, которое «возможно только благодаря тому, что человек с помощью мышления обобщенно отражает действительность» (Выготский 2016: 32). Важно понимать, что МЕ, как и текст, не содержит значения, значение продуцируется индивидом в ответ на внутренний или внешний стимул. Наконец, следует отметить, что, как и со словом в речи, отношения между коммуникантами, опосредованными МЕ, и средой образуют, в терминах Sinha (1999), экологическую систему: в результате взаимодействия с социальной средой создатель мема продуцирует значение и интенционально формирует сигнал, который, в свою очередь, сам является частью экосистемы; потребитель, взаимодействуя с сигналом-МЕ, продуцирует свои смыслы в актах значения. Таким образом, экосистема замыкается на коммуникантах, будучи опосредована МЕ.
В-третьих, следует избегать приписывания текстам и прочим сигналам то, чего в них нет, а значит, и следует избегать в когнитивном научном дискурсе формулировок типа «интертекстуальные связи между текстами», но рассматривать аллюзию как исключительно когнитивный процесс, который возможен только внутри человека, но не во внешнем мире. В этом смысле заслуживает внимания утверждение И.К. Архипова (2007: 116), что «мир вокруг нас сам по себе ни серьезен, ни важен, ни смешон, ни трагичен, он – никакой с эмоциональной точки зрения; ее привносит только сам человек под диктовку своих внутренних потребностей, которые он сам же для себя устанавливает». Иными словами, следует признать, что аллюзивной связи между текстами (включая МЕ) вне сознания потребителя не существует.
Заключение
В статье была предпринята попытка выявить и классифицировать типичные случаи когнитивных ошибок восприятия юмора на примере анализа МЕ. Авторы экстраполируют SSTH В. Раскина на случаи невербального юмора и исходят из того, что основным источником когнитивных ошибок является неспособность потребителя мемического сигнала актуализировать релевантные для понимания юмора скрипты или их части. Принимая во внимание, что фреймы и скрипты являются опытом, концептуализированным индивидом, наличие культурно-специфического опыта оказывается необходимым условием для юмористической интерпретации МЕ.
Проведенный качественный анализ собранных в ходе опроса эмпирических данных относительно восприятия МЕ позволил сделать вывод о том, что фрагменты визуального стимула могут активировать соотносящиеся с ними части скрипта, отраженные в сознании индивида, которые, в свою очередь, через когнитивную метонимию способны задействовать недостающие части скрипта в объеме, достаточном для понимания юмора МЕ.
Предложенная в работе классификация ошибок коррелирует с наличием или отсутствием у индивида культурной грамотности, которая подразумевает концептуализацию специфического опыта о родной и неродной культурах. В связи с тем, что выделяемые ошибки анализируются с позиции восприятия МЕ интерпретатором, перспективы дальнейшего исследования видятся в необходимости рассмотрения МЕ с точки зрения многосторонней коммуникации, в том числе в акте порождения МЕ создателем, что предполагает расширение исследования социопрагматическим измерением.
Использованные сокращения: SSTH – семантическая теория юмора, основанная на оппозиции скриптов; МЕ – морфная единица; МС – метаскрипт; C – скрипт; i – идиосинкратический; S – субъект; P – предикат; A – признак; O – объект.
Abbreviations: SSTH – Semantic Script-based Theory of Humor; ME – morphed unit; MC – metascript; C – script; i – idiosyncratic; S – subject; P – predicate; A – attribute; O – object.
1 Под панчлайном, вслед за Е.В. Терентьевой и Е.Б. Павловой (2023), понимается непрогнозируемая финальная фраза, которая могла бы определить ход интерпретации юмористической ситуации индивидом.
2 Sad Keanu – KnowYourMeme.com 15 September 2023.
Об авторах
Сергей Валерьевич Агеев
Санкт-Петербургский государственный экономический университет
Email: ageev.s@unecon.ru
ORCID iD: 0000-0002-0121-994X
кандидат филологических наук, доцент кафедры английского языка № 1 Санкт-Петербургского государственного экономического университета, Россия. Его научные интересы относятся к вопросам исследования метафоры и неологизмов, а также более широких областей когнитивной лингвистики, семиотики и прагматики.
Санкт-Петербург, РоссияЕвгений Александрович Пушкарев
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Email: epushkarev@hse.ru
ORCID iD: 0000-0001-8348-5805
кандидат филологических наук, доцент департамента иностранных языков НИУ «Высшая школа экономики», Санкт-Петербург. В сферу его научных интересов входят когнитивная лингвистика, прагматика, эволюция языка и нейролингвистика. Его текущие работы посвящены изучению механизмов генезиса юмора в актах мемеозиса, а также интерпретации юмористических мемов
Санкт-Петербург, РоссияНаталия Владимировна Антоненко
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: nantonenko@lan.spbgasu.ru
ORCID iD: 0000-0002-9628-1040
кандидат филологических наук, доцент кафедры межкультурной коммуникации Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета. Ее научные интересы связаны с когнитивной лингвистикой, прагматикой и лексикологией.
Санкт-Петербург, РоссияСписок литературы
- Архипов И.К. Делу - время, потехе - час. О смешном и несмешном // Логический анализ языка. Языковые механизмы комизма / отв. ред. Н. Д. Арутюновой. М.: Индрик, 2007. С. 112-120. [Arkhipov, Igor K. 2007. Delu - vremya, potekhe - chas. O smeshnom i nesmeshnom (Work done, time for fun. What is funny and what is not). In Nina D. Arutiunova (resp. ed.), Logicheskii analiz yazyka. Yazykovye mekhanizmy komizma (Logical Analysis of the language. Linguistic Mechanisms of Comicism), 112-120. Moscow: Indrik. (In Russ.)].
- Выготский Л.С. Мышление и речь. М.: Национальное образование, 2016. [Vygotsky, Lev S. 2016. Myshlenie i rech' (Thinking and Speech). Moscow: Natsional'noe obrazovanie. (In Russ.)].
- Канашина С.В. Интернет-мем и прецедентный феномен // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2018а. №4 (193). С. 122-127. [Kanashina, Svetlana V. 2018а. Internet meme and precedent phenomenon. Tomsk State Pedagogical University Bulletin 4 (193). 122-127. (In Russ.)]. https://doi.org/10.23951/1609-624X-2018-4-122-127
- Канашина С.В. Семантические особенности интернет-мема как полимодального дискурса // Вестник Московского государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. 2018б. №16 (811). С. 74-80. [Kanashina, Svetlana V. 2018б. Semantic aspects of internet meme as a multimodal discourse. Vestnik of Moscow State Linguistic University. Humanities 16 (811). 74-80. (In Russ.)].
- Карасик В.И. Алгоритмы построения комических текстов // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Лингвистика. 2018. Т. 22. № 4. С. 895-918. [Karasik, Vladimir I. 2018. Algorithms of comic texts construction. Russian Journal of Linguistics 22 (4). 895-918. (In Russ.)]. https://doi.org/10.22363/2312-9182-2018-22-4-895-918
- Кошелев А.Д. О природе комического и функции смеха // Язык в движении. К 70-летию Л. П. Крысина / отв. ред. Е.А. Земская, М.Л. Каленчук. М.: Языки славянских культур, 2007. С. 277-326. [Koshelev, Aleksey D. 2007. O prirode komicheskogo i funktsii smekha (About the nature of the comic and the function of laughter). In Elena A. Zemskaya, Mariya L. Kalenchuk (resp. eds.), Yazyk v dvizhenii. K 70-letiyu L. P. Krysina (Language in action. On the 70th anniversary of Krysin L. P.), 277-326. Moscow: Yazyki slavyanskikh kul'tur. (In Russ.)].
- Никитина О.А., Гудкова О.А., Зандер Ф. Интернет-мем как мультимодальный феномен немецкоязычного интернет-дискурса // Язык и культура. 2018. № 43. С. 74-87. [Nikitina, Olga A. & Olga A. Gudkova & Sander Ferdinand. 2018. Internet meme as a multimodal phenomenon of the German Internet-discourse. Yazyk i kul'tura 43. 74-87. (In Russ.)]. https://doi.org/10.17223/19996195/43/5
- Павлина С.Ю. Прагматические и стилистические особенности британских и американских политических карикатур на тему COVID-19 // Russian Journal of Linguistics. 2022. № 26 (1). C. 162-193. [Pavlina, Svetlana Y. 2022. Pragmatic and stylistic perspectives on British and American COVID-19 cartoons. Russian Journal of Linguistics 26 (1). 162-193. (In Russ.)]. https://doi.org/10.22363/2687-0088-27107
- Стефанкова Л.Н. Скрипты и их оппозиция как способ моделирования комического эффекта в коротком рассказе // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. 2014. №16. С. 334-338. [Stefankova, Larisa N. 2014. Scripts and their oppositions as a way of comic effect modeling in short story. Current Issues in Philology and Pedagogical Linguistics 16. 334-338. (In Russ.)].
- Терентьева Е.В., Павлова Е.Б. Семиотическая организация русскоязычных экологических интернет-мемов // Научный диалог. 2023. № 12 (9). С. 184-206. [Terentyeva, Elena V., Pavlova, Elena B. 2023. Semiotic Organization of Russian Environmental Internet Memes. Nauchnyi Dialog 12 (9). 184-206. (In Russ.)]. https://doi.org/10.24224/2227-1295-2023-12-9-184-206
- Щербакова О.В. Когнитивные механизмы понимания комического: дис. ... кандидата психологических наук: 19.00.01. - Санкт-Петербургский государственный университет, 2009. [Shcherbakova, Olga V. 2009. Kognitivnye mekhanizmy ponimaniya komicheskogo (Cognitive mechanisms of understanding the comic): Thesis. Saint Petersburg State University. (In Russ.)]. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.22854.16963
- Щурина Ю.В. Интернет-мемы как средство межкультурной коммуникации // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2013. № 6 (81). С. 34-39. [Shchurina, Yuliya V. 2013. Internet-memy kak sredstvo mezhkul'turnoi kommunikatsii (Internet memes as a means of intercultural communication). Ivzestia of the Volgograd State Pedagogical University 6 (81). 34-39. (In Russ.)].
- Attardo, Salvatore & Victor Raskin. 1991. Script theory revis(it)ed: Joke similarity and joke representation model. Humor: International Journal of Humor Research 4 (3/4). 293-347. https://doi.org/10.1515/humr.1991.4.3-4.293
- Bain, Alexander. 2006. The Emotions and the Will. Replica of the completely revised 1888 third ed. New York: Cosimo Classics.
- Bakhtin, Mikhail Mikhailovich, Vern W. McGee, Caryl Emerson & Michael Holquist. 1986. Speech Genres and Other Late Essays. Austin: University of Texas.
- Beaugrande, Robert de & Wolfgang U. Dressler. 2016. Introduction to Text Linguistics. London: Routledge.
- Börzsei, Linda K. 2013. Makes a meme instead: A concise history of Internet memes. New Media Studies Magazine 7. 1-25.
- Burgess, Jean. 2014. ‘All your chocolate rain are belonging to us?’: Viral video, YouTube and the dynamics of participatory culture. Art in the Global Present. 86-96. https://doi.org/10.5130/978-0-9872369-9-9.e
- Dancygier, Barbara & Vandelanotte Lieven. 2017. Internet memes as multimodal constructions. Cognitive Linguistics 28 (3). 565-598. https://doi.org/10.1515/cog-2017-0074
- Dynel, Marta. 2016. “I has seen image macros!” Advice animals memes as visual-verbal jokes. International Journal of Communication 10. 660-688.
- Dynel, Marta. 2020. Covid-19 memes going viral: On the multiple multimodal voices behind face masks. Discourse & Society 32 (2). 175-195. https://doi.org/10.1177/0957926520970385
- Figueroa-Dorrego, Jorge & Cristina Larkin-Galinanes. 2009. A Source Book of Literary and Philosophical Writings about Humour and Laughter: The Seventy-Five Essential Texts from Antiquity to Modern Times. Lewiston: The Edwin Mellen Press.
- Fillmore, Charles J. 1977. Scenes-and-frames semantics. In Antonip Zampolli (ed.), Linguistics structures processing, 55-81. Amsterdam/New York/Oxford: North Holland Publishing Company.
- Gasparov, Boris. 2010. Speech, Memory, and Meaning: Intertextuality in Everyday Language. Berlin: De Gruyter Mouton.
- Hussein, Ahmed T. & Lina Nabil Aljamili. 2020. Covid-19 humor in Jordanian social media: A socio-semiotic approach. Heliyon 6 (12). 1-12. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05696
- Kavitha, Gopinath. 2018. A study of memes using semiotics. Research Journal of Humanities and Social Sciences 9 (1). 219-224. https://doi.org/10.5958/2321-5828.2018.00039.6
- Kristeva, Julia. 1980. Desire in Language: A Semiotic Approach to Literature and Art, trans. L. S. Roudiez. Oxford: Blackwell.
- Laineste, Liisi & Piret Voolaid. 2017. Laughing across borders: Intertextuality of internet memes. The European Journal of Humour Research 4 (4). 26-49. https://doi.org/10.7592/ejhr2016.4.4.laineste
- Lakoff, George. 1987. Women, Fire, and Dangerous Things: What Categories Reveal about the Mind. The University of Chicago Press.
- Lankshear, Colin & Michele Knobel. 2019. Memes, macros, meaning, and menace: Some trends in internet memes. The Journal of Communication and Media Studies 4 (4). 43-57. https://doi.org/10.18848/2470-9247/cgp/v04i04/43-57
- Larkin-Galiñanes, Cristina. 2017. An overview of humor theory. In Salvatore Attardo (ed.), The Routledge Handbook of Language and Humor, 4-16. 1st ed. Routledge.
- Lintott, Sheila. 2016. Superiority in humor theory. The Journal of Aesthetics and Art Criticism 74 (4). 347-358. https://doi.org/10.1111/jaac.12321
- McGhee, Paul E. 1979. Humor, its Origin and Development. San Francisco: W. H. Freeman.
- Minsky, Marvin. 1975. A framework for representing knowledge. In P. Winston (ed.), The Psychology of Computer Vision, 55-81. McGraw-Hill.
- Naciscione, Anita. 2010. Stylistic Use of Phraseological Units in Discourse. Amsterdam: John Benjamins Pub. Co.
- Norrick, Neal R. 2004. Non-verbal humor and joke performance. Humor - International Journal of Humor Research 17 (4). 401-409. https://doi.org/10.1515/humr.2004.17.4.401
- Paciello, Marinella, Francesca D’Errico, Giorgia Saleri & Ernestina Lamponi. 2021. Online sexist meme and its effects on moral and emotional processes in social media. Computers in Human Behavior 116. 106655. https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106655
- Pushkarev, Evgeny A. & Julia S. Rastvorova. 2022. States of idiosyncratic idealized cognitive models in acts of pragmatic meaning. Language Sciences 93. 101498. https://doi.org/10.1016/j.langsci.2022.101498
- Raskin, Victor. 1984. Semantic Mechanisms of Humor. Dordrecht: Springer Netherlands. https://doi.org/10.1007/978-94-009-6472-3
- Shank, Roger C. & Robert P. Abelson. 1977. Scripts, Plans, Goals and Understanding. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
- Shifman, Limor. 2012. An anatomy of a YouTube meme. New Media & Society 14 (2). 187-203. https://doi.org/10.1177/1461444811412160
- Shifman, Limor. 2013. Memes in Digital Culture. The MIT Press. https://doi.org/10.7551/mitpress/9429.001.0001
- Sinha, Chris. 1999. Grounding, mapping, and acts of meaning. In Theo Janssen & Gisela Redeker (eds.), Cognitive Linguistics, 223-256. Berlin/New York: De Gruyter Mouton. https://doi.org/10.1515/9783110803464.223
- Taecharungroj, Viriya & Pitchanut Nueangjamnong. 2015. Humour 2.0: Styles and types of humour and virality of memes on Facebook. Journal of Creative Communications 10 (3). 288-302. https://doi.org/10.1177/0973258615614420
- Terentyeva, Elena V. & Elena B. Pavlova. 2023. Semiotic organization of Russian environmental Internet memes. Nauchnyi Dialog 12 (9). 184-206. https://doi.org/10.24224/2227-1295-2023-12-9-184-206
- Tsakona, Villy. 2018. Intertextuality and cultural literacy in contemporary political jokes. In Arie Sover (ed.), The Languages of humor: Verbal, visual, and physical humor, 86-104. https://doi.org/10.5040/9781350062320.0012
- Tsakona, Villy. 2020. Scrutinising intertextuality in humour: Moving beyond cultural literacy and towards critical literacy. The European Journal of Humour Research 8 (3). 40-59. https://doi.org/10.7592/EJHR2020.8.3.Tsakona2
- Tsakona, Villy & Jan Chovanec. 2020. Revisiting intertextuality and humour: Fresh perspectives on a classic topic. The European Journal of Humour Research 8 (3). 1-15. https://doi.org/10.7592/EJHR2020.8.3.Tsakona
- Vandaele, Jeroen. 2002. Introduction: (Re-)constructing humour: Meanings and means. The Translator 8 (2). 149-172. https://doi.org/10.1080/13556509.2002.10799130
- Vásquez, Camilla & Erhan Aslan. 2021. “Cats be outside, how about meow”: Multimodal humor and creativity in an internet meme. Journal of Pragmatics 171. 101-117. https://doi.org/10.1016/j.pragma.2020.10.006
- Yus, Francisco. 2018. Identity-related issues in meme communication. Internet Pragmatics 1 (1). 113-133. https://doi.org/10.1075/ip.00006.yus
- Yus, Francisco. 2021. Incongruity-resolution humorous strategies in image macro memes. Internet Pragmatics 4 (1). 131-149. https://doi.org/10.1075/ip.00058.yus
- Way, Lyndon C. S. 2021. Trump, memes and the Alt-right: Emotive and affective criticism and praise. Russian Journal of Linguistics 25 (3). 789-809. https://doi.org/10.22363/2687-0088-2021-25-3-789-809
- Zappettini, Franco, Douglas. M. Ponton & Tatiana V. Larina 2021. Emotionalisation of contemporary media discourse: A research agenda. Russian Journal of Linguistics 25 (3). 586-610. (In Russ.)].