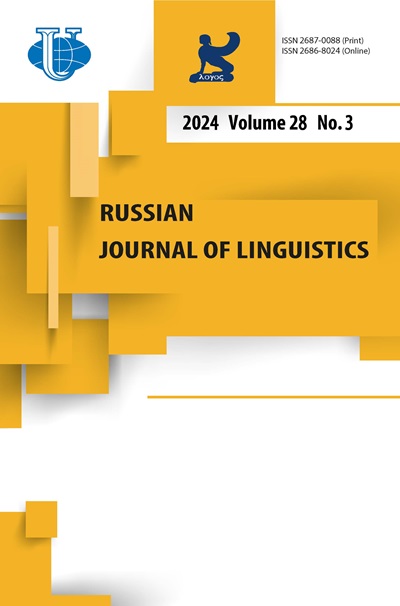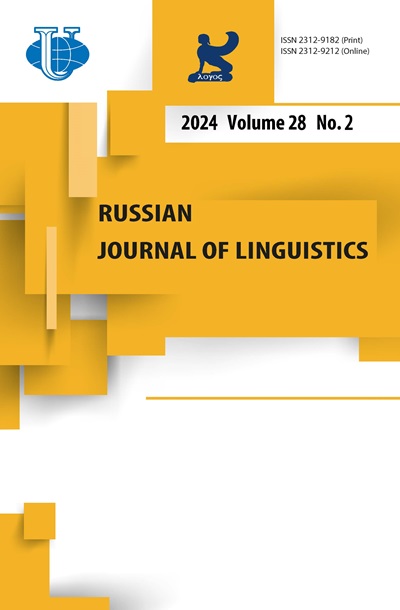Полимодальность восприятия и ее отражение в художественном тексте: когнитивно-семиотический аспект
- Авторы: Козлова Л.А.1,2, Кремнева А.В.1,2
-
Учреждения:
- Алтайский государственный педагогический университет
- Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова
- Выпуск: Том 28, № 2 (2024)
- Страницы: 391-414
- Раздел: Статьи
- URL: https://journals.rudn.ru/linguistics/article/view/39438
- DOI: https://doi.org/10.22363/2687-0088-37100
- EDN: https://elibrary.ru/ESRGCA
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Вопросы, связанные с полимодальностью восприятия и различными формами интермедиальности, широко обсуждаются в современной лингвистике, однако при этом редко затрагивается аспект взаимосвязи между ними. Цель данной статьи - проследить путь от участия различных модальностей восприятия в процессах взаимодействия с миром, отражения результатов этого восприятия в сознании, хранения их в памяти до манифестации результатов этих процессов в интермедиальном характере художественного текста и его восприятии читателем. Теоретической основой исследования послужили работы по когнитивной семотике, теории текста, полимодальности восприятия, интермедиальности, анализ которых позволяет предположить, что результатом полимодальности восприятия является формирование синестетических образов сознания, которые находят свою репрезентацию в феномене интермедиальности. В качестве эмпирического материала были использованы фрагменты текстов из произведений В. Вулф, Дж. Джойса, Дж. Кэри и А. Торпа, содержащие примеры лингвоживописной и лингвомузыкальной техник письма как форм интермедиальности. Интермедиальный анализ позволил показать, как полимодальность восприятия формирует специфику художественного мышления авторов, находящую свое воплощение в использовании языковых средств и приемов, которые активируют в сознании читателя музыкальные или визуальные образы, а также их сочетание. В результате подобный текст конституируется в тесной связи с тем искусством, приемы которого использованы в тексте. Анализ также показал, что в языковом воплощении музыкальных или живописных образов используются все виды семиотических языковых кодов: знаки-символы (номинации цвета, света, звуков музыки), знаки-индексы (отсылка к произведениям искусства или их авторам) и знаки-иконы (использование в тексте приемов и форм, характерных для других видов искусства). Исследование подтверждает продуктивность изучения интермедиальных взаимодействий в когнитивносемиотическом ракурсе, так как позволяет показать органическую связь между процессами восприятия, осмысления результатов этих процессов художественным сознанием и воплощения результатов этого осмысления в художественном тексте.
Полный текст
Введение
Вопросы, связанные с полимодальностью восприятия, современными медиа как каналами трансляции продуктов культуры и различными формами интермедиальности, находятся в фокусе внимания современной лингвистики и являются актуальным предметом исследования, требующим интеграции знаний из различных областей науки. Рассмотрение этих проблем в когнитивно-семиотическом ракурсе закономерно приводит к постановке вопроса о глубинных основах взаимодействия различных кодов, о связи между различными модусами восприятия, осмысления результатов этого восприятия и его отражения в художественном творчестве с помощью различных кодов. При этом, несмотря на значительное количество работ по полимодальности восприятия (например, Ананьев 1982, Гаспаров 1996, Гвишиани 2022, Грегори 1972 и др.), интермедиальности (Игнатенко 2022, Петрова 2011, Синельникова 2017, Тимашков 2007, Elleström 2010, Hansen-Löwe 1983, Rajewsky 2005 и др.) и медиа (Elleström 2010, Ljungberg 2010 и др), вопросы взаимосвязи между этими феноменами редко затрагиваются в исследованиях. Цель данной статьи – проследить путь от участия различных модальностей восприятия в процессах взаимодействия с миром, отражения результатов этого восприятия в сознании, хранения их в памяти до манифестации этих процессов в интермедиальном характере художественного текста и его восприятии читателем.
Теоретической основой исследования послужили работы по когнитивной семиотике, теории текста, полимодальности восприятия и интермедиальности. В качестве эмпирического материала были использованы фрагменты текстов из произведений В. Вулф, Дж. Джойса, Дж. Кэри и А. Торпа, содержащие примеры лингвоживописной и лингвомузыкальной техник письма как форм интермедиальности.
В данном исследовании мы пытаемся найти ответы на следующие вопросы:
Как происходит взаимодействие между различными модусами восприятия и различными образами сознания, хранящимися в нашей памяти?
Какие когнитивные механизмы лежат в основе репрезентации образов сознания в художественном тексте?
Как различные виды мышления (вербального и невербального) находят свою манифестацию в тексте?
Теоретические основания исследования проблемы взаимосвязи между полимодальностью восприятия и ее отражением в художественном тексте
2.1. Теория интермедиальности в когнитивно-семиотическом ракурсе
В своем фундаментальном труде, который по праву считается Библией структурной лингвистики, Ф. де Соссюр так обозначил задачи и будущее науки, которую он назвал семиологией: «Она должна открыть нам, что такое знаки и какими законами они управляются. Поскольку она еще не существует, нельзя сказать, чем она будет; но она имеет право на существование, а ее место определено заранее. Лингвистика – только часть этой общей науки: законы, которые откроет семиология, будут применимы и к лингвистике, и эта последняя, таким образом, окажется отнесенной к совокупности явлений человеческой жизни» (Соссюр 1977: 54). Термин «семиология» и сейчас используется в некоторых традициях (прежде всего французской) как синоним семиотики – термина, который был введен Ч. Пирсом и прочно закрепился в лингвистике. Семиотический подход к языку как системе знаков широко использовался в рамках структурной парадигмы при изучении таких сложных знаковых систем, как мифология, фольклор, литература и искусство. Во многом благодаря трудам Ю.М. Лотмана вся культура стала трактоваться как ТЕКСТ, т.е. как знаковая система, выступающая посредником между человеком и окружающим миром, которая осуществляет отбор и структурирование информации об окружающем мире, используя при этом различные коды, как вербальные, так и невербальные (Лотман 1992а: 143). При этом, в соответствии с общим направлением структурной парадигмы, в фокусе внимания находились семиотические знаки, которые рассматривались как самодостаточные сущности. Однако уже в рамках структурно-ориентированного семиотического подхода при обращении к таким проблемам, как память и ее роль в трансфере культуры, отчетливо прослеживалась необходимость обращения к человеческому фактору, лежащему в основе когнитивной парадигмы.
Главным основанием для сближения когнитивного и семиотического подходов является введенное Ч. Пирсом понятие интерпретанты (Пирс 2000), получившее дальнейшее развитие в трудах М. Фуко, который писал: «Основное в интерпретации – сам интерпретатор» (Фуко 2004: 52–53), тем самым подчеркивая значимость человеческого фактора в семиотике: знак только тогда обретает смысл, когда он становится объектом сознания человека. Данная трактовка интерпретанты однозначно указывает на включение вопросов, связанных с интерпретирующей деятельностью индивидуального сознания в сферу интересов семиотики, что также сближает ее с когнитивной наукой. На закономерность сближения семиотического и когнитивного подходов указывала Е.С. Кубрякова еще на ранних этапах становления когнитивного направления в отечественной науке. Рассматривая текст как сложное семиотическое образование, она отмечала, что он побуждает нас к творческому процессу его понимания, интерпретации, додумывания, другими словами, «осмыслениям человеческого опыта, запечатленного в описаниях мира и служащего сотворению новых ступеней познания этого мира» (Кубрякова 2001).
Сегодня когнитивная семиотика представляет собой одно из направлений когнитивной лингвистики как обширной области знаний, и когнитивно-семиотический подход широко используется при изучении таких проблем, как когнитивно-семиотические аспекты коммуникации (Durst-Andersen 2011), метафора (Fusaroli, Morgagni 2013, Самигуллина 2008), текст и интертекстуальность (Кремнева 2019, Соснин 2018 и др.). Таким образом, можно полагать, что интеграция семиотического и когнитивного подходов призвана способствовать большей экспланаторности исследований различных языковых фактов и проблем, в том числе проблемы интермедиальности.
Теория интермедиальности, оформившаяся в самостоятельную область исследований на основе теории интертекстуальности, сегодня представляет собой обширное поле междисциплинарных исследований, в которых рассматриваются общие вопросы теории (Хаминова, Зильберман 2014, Синельникова 2017, Rajewsky 2005 и др.), описывается специфика реализации интермедиальных отношений в медиапространстве (Ljungberg 2010 и др.), в живописи, музыке и киноискусстве (Тимашков 2007, Pethő 2010 и др.), а также в художественном тексте на материале различных языков (Игнатенко 2022, Каркавина 2011, Можаева 2011 и др.).
В основе развития и исследования интермедиальных связей лежит феномен синтеза искусств, который существует в искусстве на протяжении всей истории. Еще в конце 19 века Р. Вагнер писал о неразрывной связи танца, поэтического слова и музыки, называя их основными, первоначальными формами искусства (Wagner 1895). В искусстве и литературе ХХ века идея синтеза искусств нашла свое художественное воплощение в различных формах в творчестве Ш. Бодлера, П. Верлена, А. Рембо, В. Вулф, О. Уайльда, Р. Олдингтона, в музыкальности поэзии и прозы А. Белого, в кинематографичности футуристических опытов раннего В. Маяковского, в музыкальных экспериментах А.Н. Скрябина, в произведениях М. Чюрлёниса. Ярким примером воплощения синтеза искусств были «Русские сезоны» С.П. Дягилева, в которых нашла свое воплощение его концепция балетного спектакля, согласно которой, балетный спектакль — это органический синтез музыки, живописи, пластики и драматического действия. Он считал, что каждая из этих всех форм искусства привносит в театральное представление собственную составляющую, и только путем синтеза этих форм и их взаимопроникновения можно достичь успеха (Буцан 2012).
Говоря о развитии семиотического подхода к исследованию произведений искусства, Ю.С. Степанов отмечал, что все новое вначале создается за пределами теории, творцами искусства, но именно теоретики завершают процесс создания нового, в результате чего появляются новые теории (Степанов 2001: 39). Разнообразное сочетание различных форм искусства в сегодняшнем мире дает материал для теоретического осмысления феномена интермедиальности, что нашло отражение в попытках типологизации ее форм.
Исходя из этого широкого понимания интермедиальности и с учетом различных способов реализации интермедиальных отношений, И. Раевски выделяет три формы интермедиальности: (1) медиа транспозиция – процесс преобразования одной формы искусства в другую (экранизация или сценическая версия художественного текста); (2) медиа комбинация, или синтез медиа – использование различных медиа в процессе создания продукта культуры, что может привести к созданию качественно нового медиапродукта (например, поликодовый текст); (3) интермедиальная референция – использование в произведении искусства техник и приемов, характерных для другого вида искусства (Rajewsky 2005: 50–54). В проекции на художественный текст примерами третьего типа интермедиальности являются музыкальная, живописная, кинематографическая техники письма, визуальная поэзия. Именно этот тип интермедиальности представляет наибольший интерес для исследователей, занимающихся проблемами текста.
Изучение феномена интермедиальности в когнитивно-семиотическом ракурсе закономерно приводит к постановке вопроса о том, каковы глубинные основы взаимодействия различных кодов, как связаны между собой процессы восприятия окружающей нас действительности с помощью различных модусов, как происходит когнитивная обработка результатов этого восприятия и каковы формы отражения этих процессов в языке. Как отмечает Ларс Эллестром, несмотря на огромное количество работ по медиа, модальности восприятия и интермедиальности, вопросы взаимодействия между ними редко затрагиваются в исследованиях (Ellestrom 2010: 13).
Отметив тот факт, что связь между различными медиа, полимодальностью восприятия и ее отражением в интермедиальности редко становится предметом исследования, Ларс Эллестром делает попытку показать эту взаимосвязь, используя при этом термин модальность в качестве «зонтикового» термина для этих феноменов. Автор выделяет четыре вида модальности: т.н. материальную модальность (material modality), включающую все способы выражения результатов сенсорного восприятия как с помощью невербального общения, так и с помощью современных медиа средств; сенсорную модальность (sensorial modality) – каналы восприятия; пространственно-временную модальность (spatiotemporal modality) – концептуализацию пространства и времени на основе обработки результатов сенсорного восприятия; семиотическую модальность (semiotic modality) – репрезентацию результатов восприятия и концептуализации с помощью различных семиотических кодов (Ellestrom 2010: 36).
Отдавая должное стремлению автора показать тесную взаимосвязь между перечисленными феноменами, мы полагаем, что использование такого «зонтикового» термина для их объединения вряд ли целесообразно в силу различной природы и существенных различий между ними: так называемая материальная модальность представляет собой объект восприятия, сенсорная модальность – модусы восприятия, пространственно-временная – базовые концепты сознания, обеспечивающие возможность ориентации человека в мире, а семиотическая – коды, используемые для репрезентации смыслов, формирующихся в результате концептуальной обработки результатов сенсорного восприятия. Однако существование этих различий не отрицает необходимости изучения характера связи между ними, что мы и попытаемся сделать в данной работе, опираясь на основные положения психологии восприятия, когнитивной лингвистики и семиотики.
2.2. Путь от полимодальности восприятия к отражению ее результатов в художественном тексте
Попытаемся проследить последовательность этапов работы сознания от восприятия до отражения результатов этого восприятия в художественном тексте и его интерпретации реципиентом (читателем или исследователем). Опираясь на данные психологии восприятия, мы исходим из того, что в процессе познания человеком окружающей среды принимают участие все каналы сенсорного восприятия. При этом, в зависимости от особенностей воспринимаемого объекта и индивидуальных особенностей человека, они могут взаимодействовать друг с другом, что и лежит в основе понятия полимодальности восприятия. Одновременное участие нескольких каналов создает эффект синестезии, которая определяется как одновременное восприятие или способность человека при раздражении одного из органов чувств испытывать ощущения, свойственные другому органу (Синестезия: URL). По мнению психологов, восприятие редко протекает в рамках одного модуса, в большинстве случаев оно осуществляется в результате синтеза ощущений, получаемых с помощью разных анализаторов, что является подтверждением идеи целостности и активности чувственного отражения объектов действительности в психике человека (Ананьев 1982: 13–14). Это свойство неодинаково развито у всех людей, что позволяет выделять особую группу т.н. синестетиков, которые, вследствие распространения процессов возбуждения в кору полушарий головного мозга (иррадиации) могут не только слышать звуки, но и видеть их, не только ощущать какой-либо предмет, но и чувствовать его вкус. Способность к синестезии имеет особое значение для творческих людей. Среди знаменитых людей искусства синестетиками были композиторы А. Скрябин, различавший цвет и даже вкус музыкальных нот, и Н. Римский-Корсаков, обладавший цветным слухом на звуковысотность. У поэта Артюра Рембо гласные звуки окрашивались разными цветами, а художник В. Кандинский мог слышать звуки красок (Синестезия:URL).
Эффект синестезии находит свою манифестацию в языке в наличии лексем, особенно фразеологических единиц, в семантике которых отражается полимодальность восприятия (Гедина 2010). Такова, например, английская лексема acrid, которая означает: 1) острый (на вкус); 2) едкий (о запахе); раздражающий (о звуке). Ср.: …the donkey throwing back his head and emitting his long acrid moan (V. Woolf). Эффект синестезии находит репрезентацию и в таких высказываниях, как: I could hear the smile in his face (C. Ahern. The Time of My Life); You could smell his tiredness (A. Thorpe. Ulverton). Данные примеры иллюстрируют способность одного канала восприятия активировать другие каналы.
Результатом сенсорного восприятия и его последующей (а, возможно, одновременной ментальной обработки, на что указывает такой термин, как «разумный глаз» (Грегори 1972), является формирование образов сознания, в котором принимают участие все органы чувств при ведущей роли зрительного модуса. Как отмечает И.Ю. Колесов, ведущая роль модальности зрительного восприятия находит свое подтверждение во множестве способов языковой репрезентации данного канала информации, а также в разнообразии способов организации и функционирования языковых средств, отражающих результаты зрительного восприятия (Колесов 2008:11). По мнению Б.М. Гаспарова, даже в тех случаях, когда мы встречаемся с описанием события, ведущая роль в восприятии которого принадлежит, например, тактильному или слуховому каналу восприятия, мы все равно воспринимаем и запоминаем эти описания через посредство зрительного образа (Гаспаров 1996: 265–266). Вводя понятие «разумный глаз», Р.Л. Грегори писал о том, что оно основывается на способности человеческого зрения воспринимать не только форму, размер или цвет предметов, но и те признаки, которые воспринимаются другими каналами (температура, вкус, запах и т.д.), способность проникать в суть того, что не видно, но доступно разуму. Он объяснял это свойство «разумного глаза» его способностью «опознать настоящее с помощью сведений, накопленных в прошлом», т.е. соотнести зрительное восприятие с прежним опытом (Грегори 1972).
Важно также отметить, что источником формирования образов сознания могут быть как различные события, воспринимаемые органами чувств, так и «словесные образы», которые возникают на основе восприятия текстов, описывающих эти события. Как отмечает Н.Б. Гвишиани, суть зрительного образа как когнитивной сущности означает «конструирование видения объекта на основе синтеза данных в составе вербальной репрезентации» (Гвишиани 2022: 12). Это служит косвенным подтверждением того факта, что в этих процессах происходит тесное взаимодействие обоих полушарий мозга: левого, отвечающего за вербальное мышление, и правого, отвечающего за образное мышление. Взаимодействие между полушариями в данном случае подобно тому, которое имеет место в создании метафор, которые, по мнению Л. Шлайна, являются результатом совместной работы обоих полушарий. Шлайн характеризовал метафору как уникальный вклад правого полушария в языковую способность левого (Shlain 2000). Можно предположить, что формирование синестетических образов сознания: вербально-визуального, вербально-аудиального и т.д., находящих свою репрезентацию в феномене интермедиальности, также является результатом совместной работы полушарий.
Эти образы сознания хранятся в памяти, образуя своеобразный багаж знания, которое может оказаться востребованным в определенных обстоятельствах. Говоря о памяти как о хранилище знания, Ю.М. Лотман выделял два типа памяти: информативную, в которой хранятся итоги познавательной деятельности, и креативную, или творческую, которая представляет собой память культуры. Креативная память не является пассивным хранилищем, а составляет часть текстообразующего потенциала, способного возрождаться в новых культурно-исторических условиях. Для нашего исследования особое значение имеет мысль Ю.М. Лотмана о возможности «вторжения живописных текстов в поэтический процесс текстообразования, театра – в бытовое поведение или поэзии – в музыку, т.е. о любых противоречиях между жанровой природой текстов, сохранившихся в памяти, и кодами, определяющими нынешнее состояние культуры» (Лотман 1992б: 203). Как видим из цитаты, Ю.М. Лотман подчеркивает возможность смены кода при возрождении памяти культуры в процессе творчества. Эта мысль Ю.М. Лотмана находит дальнейшее развитие в исследовании Р. Лахманн, которая в своей работе по интертекстуальности трактует творческую память как средство овнешнения памяти культуры. Она пишет о том, что особенностью данного типа памяти является то, что в ней не происходит стирания знания: то, что было забыто, может находиться в латентном состоянии, реактивироваться и приобретать иную семиотическую ценность (Lachmann 1997: 23). Как мы уже отмечали ранее, образы сознания, хранящиеся в творческой памяти, могут служить средством межтекстового взаимодействия, становясь, подобно т.н. странствующим сюжетам (wandering plots), cтранствующими образами. Эти образы могут странствовать как в границах одной культуры, как, например, образ лошади в творчестве Н.А. Некрасова, Ф.М. Достоевского, В.В. Маяковского и Б.А Слуцкого, так и «поверх границ культур», как, например, образ окна в творчестве М.И. Цветаевой и В. Вулф, создавая своеобразную «интертекстуальную перекличку» (Кремнева 2015).
Мы полагаем, что образы сознания, сформировавшиеся на основе различных модальностей восприятия и хранящиеся в нашей креативной памяти как в словесной, так в иной форме, могут активироваться и служить основой для возникновения различных видов интермедиальных отношений в художественном тексте. На взаимодействие образов сознания, создание эффекта синестезии в результате действия одного канала восприятия на другой и активации различных образов сознания в творческой деятельности косвенно указывают и те мысли, которыми делятся творцы искусства, размышляющие над природой своего творчества. Исследователи творчества С.В. Рахманинова приводят его слова о том, что при сочинении музыки ему всегда помогала память о недавно прочитанной книге, прекрасной картине, стихотворении, и в результате возникал образ или сюжет, который он пытался претворить в музыке. Его симфонической поэме «Утес» предпослан эпиграф «Ночевала тучка золотая на груди утеса-великана» из стихотворения М.Ю. Лермонтова, а его «Остров мертвых» написан под впечатлением черно-белой картины Арнольда Бёклина (Федякин: URL). Не случайно выставка, посвященная 150-летию со дня рождения С.В. Рахманинова, была подготовлена Российским национальным музеем музыки совместно с Третьяковской галерей, что дало возможность посетителям увидеть те полотна, которые нашли отражение в его музыке.
Все сказанное выше позволяет сделать вывод о том, что между полимодальностью восприятия и интермедиальностью существует тесная взаимосвязь, находящая свою манифестацию в том, что образы сознания, формирующиеся в процессе восприятия и концептуализации мира, а также в процессе чтения, хранятся в различных формах в креативной памяти и могут активироваться в нашем сознании в процессе творческого мышления и находить актуализацию в различных семиотических кодах или их сочетаниях. Именно на этом основан художественный прием экфрасиса, функция которого состоит в том, чтобы обеспечить читателю процесс ментальной визуализации – возможность видеть «глазами сознания» то, что отсутствует в непосредственном восприятии (Бразговская 2020: 56). Экфрасис является одним из основных средств создания лингвоживописной техники письма. Лингвоживописная техника письма, или способность «живописать словом» понимается нами как такой прием текстопорождения, при котором используются языковые средства и приемы, характерные для изобразительного искусства или отсылающие к нему, что создает эффект визуализации текста. Результатом такой визуализации, основанной на сочетании словесного и визуального мышления, является формирование синкретического (вербально-визуального) образа сознания, способствующего более глубокому пониманию доминантного смысла текста (Козлова, Кремнева 2022).
По аналогии с лингвоживописной техникой письма можно говорить о лингвомузыкальной технике письма, в основе которой лежит взаимодействие словесного и музыкального мышления. Отсылка к другому коду приводит к тому, что в сознании читателя слово и музыка или слово и живописный образ становятся единым целым (Hansen-Löwe 1983: 325). Единство когнитивно-семиотической основы лингвоживописной и лингвомузыкальной техник письма, а именно полимодальность восприятия, взаимодействие словесных и иных образов сознания позволяет расширить понимание экфрасиса и рассматривать его как средство перевода смысла из одной семиотической системы в другую. Так, Л.М. Геллер называет экфрасисом «всякое воспроизведение одного искусства средствами другого» (Геллер 2022: 18).
Таким образом, экфрасис в широком понимании этого термина может рассматриваться как один из приемов интерсемиотичности, т.е. перевода смысла из одной семиотической системы в другую (Леонтович 2019).
Методология анализа и материал исследования
Теоретической основой исследования, как отмечено во введении, послужили работы по когнитивной семиотике (Бразговская 2020, Геллер 2002, Самигуллина 2008, Durst-Andersen 2001, Zlatev 2012 и др.), теории текста (Кубрякова 2001, Лотман 1992, Соснин 2014 и др.), полимодальности восприятия (Ананьев 1982, Гаспаров 1996, Гвишиани 2022, Грегори 1972, и др.), синтезу искусств и интермедиальности (Игнатенко 2022, Петрова 2011, Синельникова 2017, Тимашков 2007, Elleström 2010, Hansen-Löwe 1983, Rajewsky 2005 и др.), основные положения которых составляют методологическую основу нашего исследования. Она включает следующие основные положения: о полимодальности восприятия и о возможности взаимодействия различных модусов восприятия в процессе познания мира; о различных образах сознания, хранящихся в нашей памяти; о необходимости реконструкции когнитивных механизмов, лежащих в основе языковых явлений; об участии различных видов мышления (вербального и невербального) в процессе концептуализации мира, о множестве способов кодирования смысла и сочетании этих кодов в тексте.
Эмпирическим материалом для исследования послужили произведения В. Вулф, Дж. Джойса, Дж. Кэри и А. Торпа, из которых методом целенаправленной выборки были отобраны фрагменты интермедиального характера. При выборе авторов для сбора эмпирического материала мы исходили из того факта, что лингвоживописной и лингвомузыкальной техникой письма, как правило, владеют те писатели, которые имеют в своем творческом багаже музыкальный или живописный опыт. Так, В. Вулф, как узнаем из ее биографии, выросла в художественной среде, получила музыкальное образование, домашнее воспитание, в котором главным учителем были книги и разговоры взрослых об искусстве. Именно атмосфера, в которой она росла, сформировала в ней безупречный художественный вкус к настоящей живописи и музыке, помогла почувствовать тесную связь между словом и живописью, словом и музыкой, что нашло отражение в ее романах. В. Вулф отмечала, что стимулом и первоосновой для ее книг всегда служили музыкальные образы. Описывая роль музыки в ее книгах, исследователи всегда цитируют ее слова: “I always think of my books as music before I write them” (Varga 2014).
Исследователи творчества Дж. Джойса часто описывают его идиостиль в терминах музыкального искусства, сравнивая его произведения то с сонатой, то с фугой (Нестерова, Наугольных 2019), что позволяет говорить о нем как об одном из мастеров лингвомузыкальной техники письма. По словам современников, Джойс обладал абсолютным слухом, как музыкальным, так и словесным. Чем больше он терял зрение, тем яснее он слышал музыку слов. В своем эссе о Дж. Джойсе М. Шишкин пишет, что, отвечая гостю на слова о том, что его текст – это смесь музыки и прозы, Дж. Джойс сказал: «Это чистая музыка» (Шишкин 2019: 98).
Одним из признанных мастеров лингвоживописной техники письма в английской литературе является и Дж. Кэри, который начинал свою жизнь в искусстве как художник, и его опыт живописца во многом определил манеру его письма, в котором находит отражение гармоническое сочетание вербального и визуального мышления.
Методика исследования включает в себя интермедиальный анализ, суть которого состоит в установлении и описании специфики взаимодействия между различными кодами, участвующими в выражении смысла текста, а также когнитивно-семантический и инференциальный анализ, необходимый для экспликации скрытых смыслов в художественном тексте.
Интермедиальность как отражение полимодальности восприятия: анализ эмпирического материала
При восприятии текста интермедиального характера в сознании читателя/исследователя происходит перевод словесного кода в живописный или музыкальный, в результате чего создается визуальный или музыкальный образ прочитанного, позволяющий реконструировать те образы сознания автора, которые сформировались на основе полимодальности восприятия и воплотились в тексте.
Музыкальные образы, служащие первоосновой для творчества В. Вулф, как было отмечено выше, находят свое отражение в ее прозе. Так, композиция и полифонический характер ее романа “Mrs Dalloway”, как отмечают исследователи, создана по образцу т.н. двойной фуги, в которой общая мелодическая линия многоголосного произведения «перебегает» из одного голоса в другой. Двойная фуга – это фуга с двумя темами, в ней разрабатывается одна тема, затем другая, а в результате они объединяются (Влияние музыки на творчество Вирджинии Вулф: URL). В романе, написанном в технике потока сознания, по аналогии с двойной фугой, пересекаются две линии повествования: линия Клариссы Дэллоуэй, жены члена парламента, готовящейся к приему гостей в своем лондонском доме, и ветерана войны Септимуса Уоррена Смита, страдающего от глубокой психологической драмы и в итоге покончившего с собой. Судьбы этих персонажей переплетаются, совпадая во времени, охватывающем события всего одного дня (основную часть романа занимают их воспоминания о прошлом, большое место в которых занимает война), и пространстве – Лондоне, который, как известно, занимал особое место в творчестве В. Вулф (Wilson 1988). Обратимся к анализу фрагмента из романа.
(1) For having lived in Westminster – how many years now? over twenty? – one feels even in the midst of the traffic, or waking at night, Clarissa was positive, a particular hush, or solemnity, an indescribable pause, a suspence (but that might be her heart, affected they said, by influenza) before Big Ben strikes. There! Out it boomed. First a warning, musical, then the hour, irrevocable. The leaden circles dissolved in the air. Such fools we are, she thought, crossing Victoria street. For Heaven only knows why one loves it so, making it up, building it round one, tumbling it, creating it every moment afresh; but the veriest frumps, the most dejected of miseries sitting on doorsteps (drink their downfall) do the same; can’t be dealt with, she felt positive, by Acts of Parliament, for that very reason: they love l In people’s eyes, in the swing, tramp and trudge; in the bellow and uproar; the carriages, motor cars, omnibuses, vans, sandwich men shuffling and swinging; brass bands, barrel organs; in the triumph and the jingle and the strange high singing of some aeroplane overhead was what she loved; life; London; this moment of June (V. Woolf. Mrs Dalloway).
В приведенном выше фрагменте автор передает восприятие Лондона сквозь призму сознания своей героини, которая живет в Лондоне более двадцати лет, и образ этого города запечатлен в ее сознании как зрительными, так и звуковыми образами. Пересекая улицу в самом сердце Лондона и взглянув на знаменитый Биг Бен, Кларисса Дэллоуэй заново переживает свое восприятие боя часов, повторяющееся уже более двадцати лет. Ее состояние, описанное с помощью четырехчленной цепочки существительных hush, solemnity, pause, suspence (тишина, торжественность, пауза, ожидание), похоже на состояние человека в зрительном зале за секунды до начала концерта, и тем самым имплицитно проводится параллель между концертом и боем часов. Далее следуют два коротких предложения: восклицательное There!, которое похоже на взмах дирижерской палочки, и инвертированное Out it boomed, в котором звукоподражательный глагол boom представляет собой иконический знак, напоминающий о звуке музыкального инструмента. В следующем предложении аналогия боя часов с музыкой получает свое эксплицитное выражение с помощью прилагательного musical. Во второй части этого фрагмента автор создает еще один словесно-музыкальный портрет Лондона. Пересекая улицу королевы Виктории, Кларисса в очередной раз признается себе в любви к этому городу и кратко излагает историю Лондона с помощью четырехчленной цепочки причастий making it up, building it round one, tumbling it, creating it every moment afresh (планируя его, строя его, разрушая его и заново создавая вновь). Трехкратное использование аллитерации (drink their downfall, tramp and trudge, brass bands, barrel organs), ономатопеи (boom, tramp, trudge, shuffling, swinging, jingle, uproar) позволяют читателю услышать какофонию звуков Лондона, почувствовать стремительный темп его жизни. При этом звуковой образ дополняется зрительным, создаваемым с помощью цепочки однородных подлежащих (the carriages, motor cars, omnibuses, vans, sandwich men), позволяет читателю увидеть глазами сознания улицы Лондона, заполненные транспортом и людьми, а затем, услышав «высокое пение» (high singing), поднять голову и увидеть пролетающий самолет. Завершается отрывок коротким признанием любви к Лондону, к жизни, к этому мгновению в июне (she loved; life; London; this moment of June), что еще раз подчеркивает импрессионистическую манеру письма В. Вулф.
Интермедиальный анализ текста позволяет увидеть, как в идиостиле В. Вулф, сочетающем в себе приемы лингвомузыкальной и лингвоживописной техники письма, отражается полимодальность художественного мышления автора, находящая свое воплощение в использовании языковых средств и приемов, которые активируют в сознании реципиента музыкальные или визуальные образы, а также их сочетание, в результате чего подобный текст конституирует себя в тесной связи с тем искусством, приемы которого использованы в тексте.
Обратимся к анализу финала рассказа Дж. Джойса “The Dead”, который, по мнению исследователей, может служить образцом лингвомузыкальной техники письма.
(2) Yes, the newspapers were right: snow was general all over Ireland. It was falling on every part of the dark central plain, on the treeless hills, falling softly upon the Bog of Allen, and, farther westward, softly falling into the dark mutinous Shannon waves. It was falling, too, upon every part of the lonely churchyard on the hill where Michael Furey lay buried. It lay thickly drifted on the crooked crosses and headstones, on the spears of the little gate, on the barren thorns. His soul swooned slowly as he heard the snow falling faintly through the universe and faintly falling, like the descent of their last end, upon the living and dead (J. Joyce. The Dead).
Приведенный отрывок обладает значительным фоноэстетическим эффектом, создающимся за счет конвергенции просодических, лексических и синтаксических приемов, участвующих в создании особого мелодического рисунка, который возникает благодаря использованию автором приемов иконического кодирования смысла. Первое предложение служит экспозицией: оно сообщает тему отрывка – снег идет по всей Ирландии. Ощущение повсеместности снегопада создается за счет многократного повтора глагольно-адвербиальной конструкции (falling softly) и глагольно-именной предложной конструкции (on every part of the dark central plain, on the treeless hills). Многократное повторение звуков [s] и [f] активирует ассоциативную связь с лексемой snowflakes и создает звуковой эффект падающего снега, мягко ложащегося на землю. Многократный повтор адвербиальной фразы, в составе которой глагол и наречие меняются местами (falling faintly, fainly falling), способствует созданию особой мелодии, созвучной с перезвоном колоколов по усопшим, тем самым выдвигая на первый план основную тему рассказа в рассказе: воспоминания Греты, жены главного героя, о юноше, который когда-то ее любил и теперь покоится на одиноком кладбище. Ее душа умерла вместе с этим юношей, и снег, который идет по всей Ирландии, становится символом единения живых и мертвых. У. Нэш называет данный отрывок одним из лучших образцов эмотивной прозы, оставляющей впечатление необыкновенно простой, но очень изящной и печальной музыкальной пьесы (Nash 1971: 183). Именно такая музыка, написанная А. Нортом, звучит в финале одноименного фильма, снятого в 1987 году Дж. Хьюстоном по рассказу Дж. Джойса, создавая гармонию между текстом и музыкой.
Роман Дж. Кэри «Из первых рук» (The Horse’s Mouth) содержит яркие образцы лингвоживописной манеры письма. Она включает большое количество цветовой лексики, называющей как монохроматические, так и полихроматические цвета («mother-of-pearl» – ‘переливчатый, серебристо-розовый, напоминающий окраску перламутра’; «carbuncle» – ‘минерал-красный, ярко-красный; «green-blue» – ‘зеленый, с переливами голубого’ и т.п.), многие из которых употреблены в структуре образного сравнения (forests of cabbage; green as the Atlantic (лес капусты, зеленой как Атлантический океан; the water was like frosted glass (вода, похожая на матовое стекло и т.п.).
Помимо колоративов, значительный вклад в создание лингвоживописной техники письма в текстах Дж. Кэри вносит синтаксис, отличительной чертой которого являются короткие номинативные предложения, иконически отражающие восприятие художника, который фиксирует наиболее характерные штрихи и детали внешности или пейзажа, мысленно нанося их на бумагу или холст в виде набросков будущих картин, как в следующем примере.
(3) Voice like a Liverpool dray on a rumbling bridge. Charming manners. Little bow. Beaming smile. Lady tall, slender. Spanish eyes, brown skin, thin nose. Greco Collector’s piece (J. Cary. The Horse’s Mouth).
В примере (3) обращает на себя внимание еще один прием – аллюзия на имя знаменитого художника (Greco hands – руки, как на картинах Эль Греко), что заставляет читателя погрузиться в мир живописи и мысленно представить персонажи полотен Эль Греко.
Приведем еще один пример «словесного наброска» из романа Дж. Кэри.
(4) Nice little wife, two kids, flat and a studio with a tin roof. Watertight all around. North light. Half-finished picture, eight by twelve. The Living God. Cartoons, drawings, studies, two painter’s ladders, two chairs, kettle, fry pan and an oil stove. All you could want (J. Cary. The Horse’s Mouth).
В приведенном примере главный герой вспоминает свою прошлую жизнь, и в его памяти один за другим возникают образы близких людей и окружавших его предметов: жена, двое детей, квартира и студия под железной крышей, незаконченная картина, рисунки, наброски, чайник, сковорода и керосинка. Это скупое, лишенное всяких эмоций перечисление вновь оставляет впечатление набросков рисунка, выполненного по памяти.
Рассмотрим еще один пример лингвоживописной техники письма, в котором находит свое выражение полимодальность восприятия. Представленный ниже фрагмент взят из романа 'Ulverton' современного британского писателя А. Торпа. Торп называет своим учителем в литературе Дж. Джойса, и его тексты, как и тексты его учителя, содержат прекрасные образцы интермедиальности.
(5) Here is a simple cottage roof – or rather, a detail from that structure – to illuminate and (if I may be so bold) impart instruction of a spiritual nature. The original is to be discovered down a muddy track known as Surly Row, at the northern extreme of the village, and presents, to the uninitiated observer, a most dilapidated and unattractive But it is in these areas that the photographic artist wanders with most reward; nothing more profoundly salubrious than an old stone wall, nothing richer than a bedraggled plum-tree, nothing more enticing than a raven’s discarded feather, or a dust-filled barn spread with ancient sacks, or a pond wherein the weeds lie dank and idly swaying! For upon these surfaces lies a cornucopia of satisfying differences, that the lens, with its unavailing sincerity, and its unjudging eye, captures upon the plate with a fidelity of draughtsmanship the great Leonardo might have envied. My own soul is moved, not by the ornate sculpture of a great house, or by the sighing willows of a great garden – but by the winter branch, the puddled track, a white surf of Sheperd’s Purse in a meadow, the silvery plumes of Traveller’s Joy upon a hedgerow, the frayed hem of a cotter’s shawl. And here, dear viewer, note what riches are to be found if only the eye would seek them out! This is no longer the moss grown, decaying, vermin-ridden blanket beneath which poverty strives to keep the chill at bay, but a glittering tapestry of loveliness, a source of meticulous meditation, and an assurance that even the humblest and most wretched of abodes is not neglected by the Almighty’s brush (A. Thorpe. Ulverton).
Этот отрывок написан от лица человека, занимающегося художественной фотографией и снимающего неброский деревенский пейзаж. Автор передает специфику художественного восприятия человека, способного увидеть красоту в том, что обычному человеку кажется обветшалым и непривлекательным (a dilapidated and unattractive prospect), а настоящий художник способен увидеть и опоэтизировать и старую каменную стену (an old stone wall), и обветшалое сливовое дерево (a bedraggled plum-tree), и случайно оброненное воронье перо (a raven’s discarded feather), и покрытый пылью сарай с разбросанными мешками (a dust-filled barn spread with ancient sacks), и пруд с лениво покачивающимися темными водорослями ( a pond where the weeds lie dark and idly swaying). Эта картина трогает душу художника-фотографа, и он передает ее с мастерством, которому может позавидовать сам Леонардо (with a fidelity of draughtsmanship the great Leonardo might have envied). И если глаз художника может отыскать эту красоту, то на его фотографиях предстанет не заплесневелое ветхое покрывало, а сверкающий, полный очарования гобелен, источник размышления и дающий уверенность в том, что даже самое заброшенное и жалкое место достойно кисти Всевышнего (This is no longer the moss grown, decaying, vermin-ridden blanket beneath which poverty strives to keep the chill at bay, but a glittering tapestry of loveliness, a source of meticulous meditation, and an assurance that even the humblest and most wretched of abodes is not neglected by the Almighty’s brush).
В отличие от Дж. Кэри, слог которого иконически воспроизводит технику художника, делающего наброски будущей картины, стиль Адама Торпа своей тщательностью и детализацией напоминает скорее выполненную в масле картину старинного мастера, в которой скрупулезно прописаны все мельчайшие детали. Это достигается в тексте за счет широкого использования определений, выраженных как прилагательными и причастиями (muddy track, ornate sculpture, unjudging eyes, unavailing sincerity, the moss grown, decaying, vermin-ridden blanket), так и придаточными определительными предложениями (vermin-ridden blanket beneath which poverty strives to keep the chill at bay). Автор выстраивает всё описание по принципу антитезы, противопоставляя взгляд равнодушного обывателя и взгляд художника, способного разглядеть красоту в обыденном и отразить ее в своем творчестве, которое затрагивает не только эмоции, но и побуждает к размышлениям. Многочисленные определения, использованные автором в построении антитезы, имеют либо отрицательные, либо положительные коннотации (dilapidated, bedraggled, decaying vs profoundly salubrious, great, silvery, meticulous), а завершается антитеза двумя яркими авторскими метафорами: the moss grown, decaying, vermin-ridden vs glittering tapestry of loveliness (заплесневелое ветхое покрывало vs сверкающий, полный очарования гобелен).
Чтение и анализ отрывка требует от читателя такой же тщательности, с какой этот текст «прописан» автором, что позволяет увидеть глазами сознания картины, которые созданы писателем с помощью языка. При этом нельзя не обратить внимания на то, что, зрительный образ, создаваемый автором с помощью слов, дополняется еще одним, звуковым штрихом – сочетанием the sighing willows of a great garden (вздыхающие ивы большого сада). И хотя картина статична, в ней присутствуют также едва заметные элементы движения – лениво покачивающиеся водоросли в пруду (the weeds lie dank and idly swaying); читатель не видит ворона, но о его полете напоминает нам когда-то оброненное им перо (a raven’s discarded feather). Как видим из отрывка, основными приемами живописного экфрасиса в данном отрывке выступает лексика цвета и света, сложный синтаксис предложений, иконично воспроизводящий манеру работы художника над картиной, а также отсылка к имени великого Леонардо, направляющая читателя в мир живописи.
Обсуждение результатов
Результаты исследования, как нам представляется, позволили подтвердить выдвигаемый в качестве гипотезы тезис о том, что существует органическая связь между между полимодальностью восприятия, закреплением результатов этого восприятия в образах сознания и их отражением в феномене интермедиальности художественнго текста. Использование когнитивносемиотического подхода, в основе которого лежит тезис о возможности выражения смысла с помощью различных семиотических кодов, а также их взаимодействия, позволило показать целесообразность и продуктивность изучения интермедиальных взаимодействий в когнитивно-семиотическом ракурсе. При этом семиотический подход позволяет рассматривать семиотическое пространство культуры как поле взаимодействия различных кодов, а когнитивный подход направлен на то, чтобы реконструировать те процессы сознания, которые лежат в основе такого взаимодействия.
Анализ эмпирического материала позволил показать, как в идиостиле авторов по-разному находит свое выражение полимодальность их художественного восприятия, что обусловлено индивидуальностью авторской картины мира и особенностями образного тезауруса авторов. Так, интермедиальный анализ текста из романа В. Вулф позволяет увидеть, как в в ее идиостиле органически сочетаются линвомузыкальная и лингвоживописная техники письма; отрывок из расказа Дж. Джойса отличается особым фоноэстетическим эффектом и оставляет впечатление мелодии; в тексте Дж. Кэри ведущую роль играет синтаксис, иконически отражающий манеру восприятия художника, словно выполняющего словесный эскиз будущей картины, а стиль Адама Торпа своей тщательностью и детализацией напоминает выполненную в масле картину старинного мастера, в которой прописаны все мельчайшие детали.
Результаты анализа подтверждают мысль о том, что смыслы в поисках своего выражения могут использовать различные семиотические коды, но при этом основным средством выражения смыслов был и остается язык. При этом дискуссионным остается вопрос, может ли слово абсолютно точно передать смысл живописного или музыкального произведения. Как писала В. Вулф, «слово может многое, но не всё», подчеркивая тот факт, что слова могут быть беспомощны в попытке абсолютно точно передать смысл музыкального произведения. Однако именно эта трудность послужила основой для использования ею и другими авторами приемов интермедиальности в своих текстах, в которых находит свое выражение полимодальность их мировосприятия и попытка передать музыкальные и живописные образы сознания в словесной форме.
Заключение
Цель данной статьи заключалась в том, чтобы проследить путь от участия различных модальностей восприятия в процессах взаимодействия с окружающим миром, обработки результатов этого восприятия в сознании, хранения сформированных образов сознания в креативной памяти и вербализации их в художественном тексте. Мы пытались найти ответы на вопросы о том, как происходит взаимодействие между различными модусами восприятия и различными образами сознания, хранящимися в нашей памяти; какие когнитивные механизмы лежат в основе репрезентации образов сознания в художественном тексте; как различные виды мышления (вербального и невербального) находят свою манифестацию в тексте.
Решение поставленной цели потребовало обращения к работам по полимодальности восприятия, синтезу искусств и когнитивной семиотике, анализ которых показывает целесообразность рассмотрения взаимосвязи между полимодальностью восприятия и феноменом интермедиальности с позиций когнитивной семиотики, поскольку эти два вектора исследования органически дополняют друг друга и обладают значительным теоретическим и экспланаторным потенциалом.
Анализ эмпирического материала, представленного фрагментами из художественных текстов В. Вулф, Дж. Джойса, Дж. Кэри и А. Торпа, содержащих примеры лингвоживописной и лингвомузыкальной техник письма как форм интермедиальности, позволил показать, как специфика модаальности восприятия, концептуализированная сознанием и запечатленная в ментальных образах, находит свою репрезентацию в художественном тексте. Результатом использования лингвоживописной и лингвомузыкальной техники письма является визуализация или аудиализация этих образов в сознании реципиента в процессе его восприятия текста. В сознании реципиента/исследователя происходит трансформация вербального кода в живописный или музыкальный образ, дополняемый при этом творческим воображением и личным образным тезаурусом реципиента.
Исследование показало, что в языковом воплощении музыкальных или живописных образов используются все виды семиотических языковых кодов: знаки-символы (номинации цвета, света, звуков музыки), знаки-индексы (отсылка к произведениям искусства или их авторам) и знаки-иконы (использование в тексте приемов и форм, характерных для других видов искусства). Отметим, что этот аспект представлен в данной работе недостаточно полно и требует более детального изучения на большем корпусе фактического материала, что может составлять перспективу дальнейшего изучения заявленной темы.
Об авторах
Любовь Александровна Козлова
Алтайский государственный педагогический университет; Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова
Email: lyubovkozlova@list.ru
ORCID iD: 0000-0002-0247-3843
доктор филологических наук, профессор кафедры английской филологии Алтайского государственного педагогического университета. Сфера научных интересов: когнитивно-культурологическая лингвистика, межкультурная коммуникация, сравнительная типология.
Барнаул, РоссияАнна Валерьевна Кремнева
Алтайский государственный педагогический университет; Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова
Автор, ответственный за переписку.
Email: annakremneva@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-8788-2779
доктор филологических наук, доцент, заведующая кафедрой «Иностранные языки» Алтайского государственного технического университета им И.И. Ползунова. Сфера научных интересов: теория интертекстуальности, теория интермедиальности, когнитивная семантика, переводоведение.
Барнаул, РоссияСписок литературы
- Ананьев Б.Г. Сенсорно-перцептивная организация человека // Познавательные процессы: ощущения, восприятие. Москва: Педагогика, 1982. [Ananyev, Boris G. 1982. Sensorno-pertseptivnaya organizatsiya cheloveka (Sensory Perceptive Organization of an Invividual). Poznavatelniye protsessi: oshchushcheniya, vospriyatiye. Moscow: Pedagogika. (In Russ.)].
- Бразговская Е.Е. Экфрасис как семиотический эксперимент // Критика и семиотика. 2020. № 1. С. 52-72 [Brazgovskaya, Elena E. 2020. Ekphrasis as a semiotic experiment. Critique and Semiotics 1. 52-72. (In Russ.)]. https://doi.org/10.25205/2307-1737-2020-1-52-72
- Буцан А.С. «Русские сезоны» С.П. Дягилева в контексте синтеза искусств // Вестник МГУКИ. 2012. №5 (49). Сентябрь - октябрь. С. 86-89 [Butsan, Anastasiya S. 2012. ‘Russian Ballets’ of S. P. Dyagilev in the context of synthesis of cultures. Vestnik MGUKI. 5 (49). 86-89. (In Russ.)].
- Гаспаров Б.М. Язык. Память. Образ. Лингвистика языкового существования. М.: Новое литературное обозрение, 1996. [Gasparov, Boris M. 1996. Yasik. Pamyat. Obraz. Lingvistika Yasikovogo Sushchestvovaniya (Language. Memory. Image. The Linguistics of Language’s Being). Moscow: Novoye Literaturnoye Obozreniye. (In Russ.)].
- Гвишиани Н.Б. Лингвопрагматические особенности взаимодействия вербального и невербального компонентов мультимодального ‘текста’ в коммуникативном пространстве различных видов дискурса // Вопросы когнитивной лингвистики. 2022. №1. C.5-17 [Gvishiani, Natalia V. 2022. A multimodal ‘Text’: The linguopragmatic peculiarities of verbal and non-verbal components interacting in different communicative types of discourse. Voprosy Kognitivnoy Lingvistiki 1. 5-17. (In Russ.)].
- Гедина М.А. Феномен синестезии в контексте когнитивной лингвистики // Язык. Человек. Общество. II международный сборник научных трудов (к 65-летию профессора В.Т. Малыгина). Санкт-Петербург - Владимир, 2010. С. 15-18 [Gedina, Marina A. 2010. Fenomen sinestezii v kontexte kognitivnoy lingvistiki (The Synaesthesia phenomenon in the context of cognitive linguistics). Yasik. Chelovek. Obshchestvo. II mezhdunarodniy sbornik nauchnich trudov (k 65-letiyu professor V.T. Maligina). St. Petersburg - Vladimir. 15-18. (In Russ.)].
- Геллер Л. Воскрешение понятия, или Слово об экфрасисе // Экфрасис в русской литературе: труды Лозаннского симпозиума / под ред. Л. Геллера. Москва: МИК, 2002. С. 5-22 [Geller, Leonid M. (ed.). 2002. Voskresheniye ponyatiya, ili slovo ob ekfrasise (The resurrection of a concept, or a word for ecphrasis). Ekfrasis v russkoy literature: Trudi lozannskogo simposiuma. 5-22. Moscow: MIK. (In Russ.)].
- Грегори Р.Л. Разумный глаз. Москва: Мир, 1972 [Gregory, Richard L. 1972. Eye and Brain. Moscow: Mir. (In Russ.)].
- Игнатенко А.В. Живопись в прозе А.П. Чехова: Интермедиальный анализ. М., ЛЕНАНД, 2022. [Ignatenko, Alexandr V. 2022. Zhivopis’ v proze A. P. Chekhova: Intermedial’nyi analiz (Painting in Anton Chekhov’s Prose). Moscow: Lenand. (In Russ.)].
- Каркавина О.В. Взаимодействие литературы и музыки в творчестве Тони Моррисон // Вопросы лингвистики и линводидактики. Система. Функционирование. Обучение: Межвузовский тематический сборник научных трудов. Омск: Изд-во Ом. Гос.ун-та, 2009. С. 215-223 [Karkavina, Oksana V. 2009. Vzaimodeistvie literatury i muzyki v tvorchestve Toni Morrison (The interaction of literature and music in the works of Tony Morrison). Voprosy Lingvistiki i Linvodidaktiki. Sistema. Funkcionirovanie. Obuchenie: Mezhvuzovskii Tematicheskii Sbornik Nauchnyh Trudov. 215-223. Omsk: Izd-vo Om. Gos.un-ta. (In Russ.)].
- Козлова Л.А., Кремнева А.В. Лингвоживописная техника письма как один из приемов интермедиальности и ее роль в создании образа художника // Russian Journal of Linguistics. 2022. Vol. 26 No. 3. C. 721-743. [Kozlova, Lyubov & Anna Kremneva. 2022. Lingua-artistic technique of writing and its role in portraying an artist. Russian Journal of Linguistics 26 (3). 721-743. (In Russ.)]. https://doi.org/10.22363/2687-0088-30060
- Колесов И.Ю. Проблемы концептуализации и языковой репрезентации зрительного восприятия (на материале английского и русского языков): монография. Барнаул: БГПУ, 2008 [Kolesov, Igor Yu. 2008. Problemi kontseptualizatsii i ayzikovoy representatsii zritelnogo vospriyatiya (na materiale angliyskogo i russkogo yazikov) (The issues of conceptualization and representation of visual perception (A case study of English and Russian). Barnaul: BGPU (In Russ.)].
- Кремнева А.В. Образ как одна из форм интертекстуальной переклички // Критика и семиотика. 2015. № 2. С. 240-250. [Kremneva, Anna V. 2015. Image as a way of intertexual cross-talk. Critique and Semiotics. 2. 240-250 (In Russ.)].
- Кремнева А.В. Интертекстуальность как одна из форм межтекстового взаимодействия в семиотическом пространстве культуры: монография. Барнаул: АлтГТУ им. И.И. Ползунова, 2017 [Kremneva, Anna V. 2017. Intertekstual`nost` kak odna iz form mezhtekstovogo vzaimodejstviya: V semioticheskom prostranstve kul`tury`: Monografiya (Intertextuality as a form of text interaction in the semiotic space of culture: A monograph). Barnaul: AltGTU im. I. I.Polzunova. (In Russ.)].
- Кубрякова Е.С. О тексте и критериях его определения // Текст. Структура и семантика. Москва: Владос, 2001. Т. 1. С. 72-81 [Kubryakova, Elena S. 2001.O texte i kriteriyah ego opredeleniya (On text and the criteria of its definition) Text. Stuctura i Semantika 1. 72-81. Moscow: Vlados. (In Russ.)].
- Леонтович О.А. «Чувственный образ бесконечности»: интерсемиотический перевод русской классики для зарубежной аудитории // Russian Journal of Linguistics. 2019. Т. 23. №2. C. 399-414. [Leontovich, Olga A. 2019. A sensible image of the infinite: Intersemiotic translation of Russian classics for foreign audiences. Russian Journal of Linguistics 23 (2). 399-414. (In Russ.)]. https://doi.org/10.22363/2312-9182-2019
- Лотман Ю.M. Текст и полиглотизм культуры // Лотман Ю.М. Избранные статьи: в 3 т. Т. 1. Таллин: Александра, 1992а. С. 142-147 [Lotman, Juriy M. 1992a. Tekst i poliglotizm kulturi (Text and poliglottism of culture). In Lotman Yu.M. Izbrannye stat'i: In 3 vols. Vol. 1. 142-147. Tallin: Alexandra Publ. (In Russ.)].
- Лотман Ю.М. Память в культурологическом освещении // Избранные статьи в трех томах. Издание при содействии Открытого Фонда Эстонии. Том 1. Статьи по семиотике и типологии культуры. Таллин: Александра, 1992б. С. 200-203 [Lotman, Yuriy M. 1992b. Pamyat v kulturologicheskom osveshchenii (Memory in the light of cultural studies). Izbranniye statyi v tryoh tomah. Izdaniye pri sodeystvii Otkritogo fonda Estonii. Tom 1. Statyi posemiotike i tipologii kulturi. 200-203.Tallin: Alexandra. (In Russ.)].
- Нестерова Н.М., Наугольных Е.А. Деформация языка в произведениях Дж. Джойса: проблема интерпретации и перевода // Russian Journal of Linguistics. 2019. Т. 23. № 2. С. 460-472. [Nesterova, Natalya M & Evgeniya Naugolnykh A. 2019. The Deformation of language in James Joyce’s literary works: Interpretation and translation challenges. Russian Journal of Linguistics 23 (2). 460-472. (In Russ.)]. https://doi.org/10.22363/2312-9182-2019-23-2-460-472
- Можаева Т.Г. Время и пространство в литературе и живописи: в поисках общего знаменателя // Филология и человек. 2011. № 1. С.67-79. [Mozhaeva, Tatiana G. 2011. Time and space in literature and painting: Looking for the common denominator. Filologiya i Chelovek 1. 67-79. (In Russ.)].
- Пирс Ч. Начала прагматизма. Санкт-Петербург: Лаборатория метафизических исследований философского факультета СПбГУ, Алетейя, 2000 [Pierce, Charles S. 2000. Nachala pragmatizma (Introduction to Pragmatism). St. Petersburg: Laboratoriya metafizicheskih issledovaniy filosofskogo fakulteta SPbGU, Aleteya. (In Russ.)].
- Самигуллина А.С. Метафора в когнитивно-семиотическом освещении. Уфа: РИЦ БашГУ, 2008 [Samigullina, Anna S. 2008. Metafora v kognitivno-semioticheskom osveshchenii (Metaphor in the light of cognitive semiotics). Ufa: BashGU Publ. House (In Russ.)].
- Синельникова Л.Н. Ризома и дискурс интермедиальности // Вестник РУДН. Серия: Лингвистика. 2017. 21 (4). С. 805-821. [Sinelnikova, Lara N. 2017. Rhizome and discourse of intermediality. Russian Journal of Linguistics 21 (4). 805-821. (In Russ.)]. https://doi.org/10.22363/2312-9182-2017-21-1-224-229
- Соснин А.В. Лондонский текст как когнитивно-семиотический конструкт // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. 2014. № 4. С. 53-57 [Sosnin, Alexey V. 2014. Londonskiy text kak kognitivno-semioticheskiy konstrukt (‘London text’ as a cognitive-semiotic modelling construct). Proceedings of Voronezh State University. Series: Linguistics and Intercultural Communication 4. 53-57. (In Russ.)].
- Соссюр Ф. Труды по языкознанию. Переводы с французского языка под редакцией А.А. Холодовича. Москва: Прогресс, 1977. [de Saussure, Ferdinand. 1977. Trudi po yasikoznaniyu (Works on Phylology). Moscow: Progress (In Russ.)].
- Степанов Ю.С. Вводная статья. В мире семиотики // Семиотика: Антология. М.: Академический проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2001. [Stepanov, Juriy S. 2001. Vvodnaya statia. V mire semiotiki. (Introduction. In the world of semiotics) Semiotika. Antologiya. Moscow: Akademicheskiy Proekt Publ.; Ekaterinburg: Delovaya kniga Publ. (In Russ.)].
- Тимашков А.Ю. К истории понятия интермедиальности в российской и зарубежной науке // Žmogus ir žodis. 2007. 11. С. 21-26. [Timashkov, Aleksey J. 2007. K istorii ponyatiya intermedial’nisti v rossiyskoy i zarubezhnoy nauke (To the history of concept of intermediality in the Russian and world science). Man and the Word 11. 21-26 (In Russ.)].
- Хаминова А.А., Зильберман Н.Н. Теория интермедиальности в контексте современной гуманитарной науки // Вестник Томского государственного университета. 2014. 389. С. 38-45. [Haminova, Anastasya A. & Nadezhda Zilberman N. 2014. The theory of intermediality in the context of modern humanities. Tomsk State University Journal 389. 38- 45 (In Russ.)]. https://doi.org/10.17223/15617793/389/5 10/
- Фуко М. Археология знания. Санкт-Петербург: Гуманитарная Академия: Университетская книга, 2004 [Foucault, Michel. 2004. Archeologiya znaniya (The archeology of knowledge). St. Petersburg: Gumanitarnaya Akademiya: Universitetskaya Kniga. (In Russ.)].
- Durst-Andersen, Per. 2011. Linguistic stereotypes: A cognitive-semiotic theory of human communication. Semiotics, Communication and Cognition [SCC]. Berlin & New York: Mouton de Gruyter.
- Elleström, Lars. 2010. Introduction. In Lars Elleström, Jørgen Bruhn, Siglind Bruhn, Claus Clüver, Christina Ljungberg, Silvestra Mariniello, Jürgen E. Müller & Valerie Robillard (eds.), Media borders, multimodality and intermediality, 1-8. London: Palgrave Macmillan.
- Elleström, Lars. 2010. The modalities of media: A model for understanding intermedial relations. In Lars Elleström, Jørgen Bruhn, Siglind Bruhn, Claus Clüver, Christina Ljungberg, Silvestra Mariniello, Jürgen E. Müller & Valerie Robillard (eds.), Media borders, multimodality and intermediality, 11-48. London: Palgrave Macmillan.
- Fusaroli, Riccardo & Simone Morgagni. 2013. Conceptual metaphor theory: Thirty years after. Journal of Cognitive Semiotics 5 (1/2). 1-13.
- Hansen-Löwe, Aage A. 1983. Intermedialität und intertextualität. Probleme der korelation von Wort-und Bildkunst. Am beispiel der russischen moderne. In Wolf Schmid & Wolf-Dieter Stempel (eds.), Dialog der texte. Hamburger kolloquium zur intertextualität, 291-360. Wien: Wiener Slawistischer Almanach.
- Lachmann, Renata. 1997. Memory and Literature: Intertextuality in Russian Modernism. Minneapolis; London : University of Minnesota Press.
- Ljungberg, Christina. 2010. Intermedial Strategies in Multimedia Art. Media Borders, Multimodality and Intermediality. 81-96. London and New York: Palgrave Macmillan.
- Nash, Walter. 1971. Our Experience of Language. New York: St. Martin’s Press.
- Pethő, Ágnes. 2010. Intermediality in film: A historiography of methodologies. Acta univ. Sapientiae, Film and Media Studies 2. 39-72.
- Rajewsky, Irina. 2005. Intermediality, intertextuality, and remediation: A literary perspective on intermediality. Intermédialités 6. 43-64.
- Shlain, Leonard. 2000. The Alphabet versus the Goddess. London : Penguin Arkana.
- Werner, Wolf. 1999. The Musicalization of Fiction: A Study in the Theory and History of Intermediality. Amsterdam: Rodopi.
- Zlatev, Jordan. 2012. Cognitive semiotics: An emerging field for transdisciplinary study of meaning. The Public Journal of Semiotics 4 (1). 2-24.
- Влияние музыки на творчество Вирджинии Вулф [Vliyanie Musiki na Tvorchestvo Virginii Woolf (The impact of Music on Virginia Woolf’s Writings)]: Retrieved from: livelib.ru: vulf[livelib.ru:https://www.livelib.ru/translations/post/95314-vliyanie-muzyki-na-tvorchestvo-virdzhinii-vulf (assessed 20 October 2023). [In Russ.)].
- Синестезия: URL: https://experimental-psychic.ru/sinestezia (Дата обращения: 1.10.2023). Retrieved from: https://experimental-psychic.ru/sinestezia (assessed 01 October 2023).
- Федякин С.Р. Рахманинов. Москва: Молодая гвардия, 2018 [Fedyakin, Sergei R. 2018. Rachmaninov. Moscow: Molodaya Gvardiya (In Russ.)].
- Шишкин М.П. Буква на снегу: три эссе. Москва: АСТ, 2019 [Shishkin, Michail P. 2019. Bukva na snegu: tri esse (A Letter in the Snow: Three Essays). Moscow: AST (In Russ.)].
- Cary Joyce. The Horse’s Mouth. New York: Harper and Brothers, 1994. Retrieved from: https://www.academia.edu/44742705/The_Dead_James_Joyce ( accessed 1 November 2023)
- Joyce James. The Dead // Modern English Short Stories. M.: Foreign Languages Publishing House, 1963. P. 35-77.
- Thorpe Adam. Ulverton. London: Vintage Books, 2012.
- Varga, Adriana L. 2014. Virginia Woolf and Music. Bloomington: Indiana University Press. Retrieved from https://www.litres.ru/adriana-l-varga/virginia-woolf-and-music/chitat-onlayn/ (accessed 20 October 2023). doi: 10.7771/1481-4374.1790
- Wagner, Richard. 1895. The Art-Work of The Future. Retrieved from: http://www.public-library.uk/ebooks/107/74.pdf (accessed 1 September 2023).
- Wilson Jean Moorcroft.1988. Virginia Woolf. Life and London. A Biography of Place. New York, London: W.W. Norton & Company.
- Woolf Virginia. Mrs Dalloway. London: Vintage, 1990.