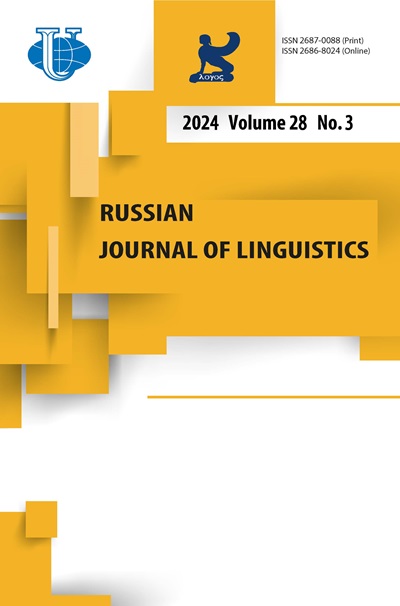Кросскультурная коммуникация и трудности перевода: корпусное исследование
- Авторы: Кононенко И.В.1
-
Учреждения:
- Варшавский университет
- Выпуск: Том 24, № 4 (2020)
- Страницы: 926-944
- Раздел: Статьи
- URL: https://journals.rudn.ru/linguistics/article/view/25310
- DOI: https://doi.org/10.22363/2687-0088-2020-24-4-926-944
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Статья посвящена вопросам кросскультурной коммуникации и ее реализации в переводах произведений русской художественной литературы на польский язык. Актуальным представляется как исследование специфики, проявляемой в картинах мира носителей разных языков, так и анализ отражения национального мировосприятия при переводе. Целью статьи является изучение особенностей межкультурного диалога, отображенного в параллельных художественных текстах. Материалом исследования послужил русско-польский корпус. Исследование показало, что национально ориентированная специфика может проявлять себя на разных уровнях языковой системы - в лексике, фразеологии, словообразовании, морфологии, синтаксисе. Перевод предложений, включающих репрезентативные для русской языковой картины мира единицы, демонстрирует как кросскультурные удачи, так и неудачи, заключающиеся в опущении при переводе знаковых для русской культуры элементов, неадекватной их передаче, замене на единицы, типичные для польского мировосприятия. Существующие печатные и электронные словари, а также онлайн-переводчики не в полной мере отвечают современным требованиям, в том числе связанным с передачей средствами польского языка русских культурно-языковых явлений. Практика перевода литературных произведений с русского языка на польский демонстрирует необходимость дальнейшего изучения картин мира обоих народов.
Ключевые слова
Полный текст
1. Введение. Постановка проблемы
Проблемы кросскультурной коммуникации находятся сегодня в центре исследований в области лингвистики, психологии, культурологии, философии, социологии. Закономерным представляется междисциплинарный характер изучения данного явления, тесно связанного с национально-культурной принадлежностью участников процесса коммуникации (Грушевицкая, Попков, Садохин 2010, Куликова 2011, Татарко, Лебедева 2011, Тер-Минасова 2000, Фрик 2011, Blum-Kulka, House & Gabriel 1989, Gladkova & Larina 2018, Gudykunst 2003, Kusio 2011, Magała 2011). При этом часть лингвистов отождествляет термины «кросс-культурная коммуникация» и «межкультурная коммуникация» (Бацевич, Богданович 2011: 110–111, Недосека 2011, Юрьева 2015), часть языковедов различает данные понятия (Larina 2015, Персикова 2007, Tannen 1990). В представленной статье упомянутые термины употребляются как синонимы. Кросскультурная (межкультурная) коммуникация предполагает устный или письменный диалог представителей разных культур (Guirdham 1999, Guławska-Gawkowska & Zeldowicz 2013, Larina, Ozyumenko, Kurteš 2017, Szopski 2005, Wierzbicka 2003).
Теория межкультурного контакта взаимосвязана с исследованиями в области языковой картины мира. Истоки учения о картине мира восходят к идеям В. фон Гумбольдта, считавшего, что культура народа через посредство языка влияет на формирование мировосприятия индивида (Гумбольдт 1985: 372). В современной лингвистике языковая картина мира рассматривается как «совокупность представлений о мире, заключенных в значении слов и выражений данного языка» (Зализняк, Левонтина, Шмелев 2005: 9). Национальная картина мира реализуется в явлениях языка и речи, в том числе художественной (Кононенко 2006, Корнилов 2003, Снитко, Кулинич 2005, Bartmiński 2012, Wierzbicka 2006). Изучение способов передачи культурно-языковых феноменов при переводе предполагает научно обоснованный отбор исходных единиц – показательных для картины мира (в данном случае – русской) ключевых слов, возникших на национальной почве фразеологических оборотов, единиц со своеобразными морфемными и грамматическими характеристиками, контекстуально обусловленных употреблений.
Представляется актуальным как исследование специфики, проявляемой в картинах мира носителей разных языков, так и анализ отражения национального мировосприятия при переводе. Предлагаемая статья посвящена вопросам кросскультурной коммуникации в переводах произведений русской художественной литературы на польский язык на материале Параллельного русско-польского корпуса (PRRPKR). Такое исследование проведено впервые. При передаче текстов как феноменов культуры переводчик с русского язык на польский сталкивается с двумя противоречащими задачами. С одной стороны, перевод должен отображать специфику русской картины мира, с другой стороны, необходимо адаптировать текст с учетом мировосприятия польского читателя. Таким образом, переводчик выступает в роли посредника в межкультурном диалоге между автором произведения русской литературы и польским адресатом.
Переводы литературных текстов являются важным звеном в налаживании межкультурного диалога (Гарбовский 2004, Емельянова 2010, Оболенская 2016, Сдобников 2019, Munday 2008, Pym 2008, Urbanek 2004). В современной Польше русский язык изучают в средней и высшей школе. В списке произведений в школьной программе литературы – «Преступление и наказание» Ф. Достоевского, «Мастер и Маргарита» М. Булгакова, рассказы А. Чехова. Неоднократно были изданы переводы на польский язык русской классической литературы. Из современных авторов в Польше переводят произведения Б. Акунина, А. Марининой, Л. Петрушевской и др. Вместе с тем переводы многих значимых произведений до сих пор не осуществлены, часть переводов нуждается в обновлении, в том числе с учетом повышения эффективности кросскультурной коммуникации.
Несмотря на многолетнюю традицию создания русско-польских и польско-русских словарей разного типа, лексикографические издания не в полной мере отвечают современным требованиям, в частности, связанным с передачей средствами другого языка культурно-языковых феноменов. Не «справляются» с данными задачами и двуязычные онлайн-переводчики. В представленной статье будет, в частности, рассмотрено, насколько существующие словари разного типа и электронные переводчики помогают или не помогают переводчику литературных произведений в установлении межкультурного контакта.
Предметом данного исследования являются соответствия между русскими языковыми единицами (словами, фразеологизмами, словосочетаниями) и их польскими аналогами в текстах переводов, представленных в русско-польском корпусе. Целью статьи является осуществление сопоставительного анализа русского языкового материала и его отображения в переводах на польский язык с позиций реализации кросскультурной коммуникации.
Изучение перевода предложений из русских художественных произведений на польский язык базируется на материале Параллельного русско-польского корпуса. Данный корпус является электронным собранием текстов русской литературы (классической и современной) и их переводов на польский язык, а также текстов польской литературы и их переводов на русский язык. В системе поиска корпуса можно вписать интересующее слово или словоформу и «получить» предложения с данной единицей на языке оригинала и перевод этих предложений (Łaziński & Kuratczyk 2016). Таким образом, параллельный корпус двух языков может служить источником информации об адекватности или неадекватности в кросскультурной коммуникации. Дополнительным материалом послужили данные Национального корпуса русского языка (НКРЯ), Национального корпуса польского языка (NKJP), русско-польского онлайн-переводчикa (РПОП), электронных и печатных словарей и др. Применяются сопоставительный, описательный, статистический методы исследования, а также метод компонентного анализа.
Национально ориентированная специфика проявляет себя на разных уровнях языковой системы, приоритетными из которых являются лексика и фразеология. Рассмотрим особенности перевода русских единиц, представляющих соответствующие уровни языковой системы, на польский язык в аспекте адекватности межкультурного диалога.
2. Лексический уровень
Как известно, русский и польский языки генетически восходят к одному источнику – праславянскому языку. Особенности славянского языкового мира во многом связаны с длительным этапом одного цивилизационного направления. На уровне лексики ментальные образы проявляются, в частности, в развитии тематических и лексико-семантических групп слов. Одной из наиболее давней в разных языках, в том числе в русском и польском, выступает лексико-семантическая группа «семья». Наименования ближайших родственников в русском и польском языках сближены по звучанию и по основному значению, ср.: мать // matka, отец // ojciec, брат // brat, сестра // siostra, сын // syn, внук // wnuk, внучка // wnuczka, ср.: дочь // córka (Antoniuk, Kononenko, Mytnik, Mela-Cullen, Roguska, Szafernarko-Świrko & Wasiak 2019: 54–61). При этом ментальные наслоения, связанные с данной группой, у русских и поляков во многом различаются. Так, распространенной чертой русского психотипа, в отличие от польского, является подсознательное восприятие представителей окружающего социума (земляков, односельчан, соседей и под.) как членов одной семьи, в связи с чем в разговорной речи возможно использование номинаций ближайших родственников для обращения к знакомым или даже к незнакомым людям (Бурас, Кронгауз 2013: 122–123, Левонтина 2005: 239-240), напр.:
(1) Отец, выходишь на следующей остановке?
В польской среде наблюдается дистанцирование отношений между людьми, что находит отражение в языке и речи. Скажем, употребление составного наименования siostra medyczna ‘медицинская сестра’ вызвало несколько лет тому назад общественную дискуссию. Представительницы этой специальности возражали, чтобы их хотя бы ассоциативно отождествляли с родственницами. В 2011 году была проведена Общепольская акция «Только мой брат обращается ко мне – сестра» («Tylko mój brat mówi do mnie siostro») (Rożko & Pruszyński 2012). В результате наименование siostra medyczna было исключено из списка специальностей и вышло из употребления. Вместо ставшего, таким образом, устаревшим составного сочетания siostra medyczna стало употребляться слово pielęgniarka, хотя pielęgniarka – это не только ‘медицинская сестра’, но и ‘санитарка’, ‘сиделка’, ‘няня’, что создает определенные неудобства в процессе коммуникации.
В польском языке в любой ситуации употребляются официальные обращения pan и pani. Например, принято, чтобы подобным образом преподаватель обращался к ученику старших классов или к студенту:
(2) Panie Janie, proszę odpowiadać.
При этом обращения типа synku, bracie, хотя и ограниченно, употреблялись в польской литературе ХIХ – первой половины ХХ вв., ср.:
(3) – Jedź, bracie, bo nic innego nie dostaniesz – zachęcał go Felek, ale bezskutecznie (J. Korczak).
Это дало возможность включения подобных обращений в тексты переводов классических произведений с русского на польский язык, напр.:
(4) Видали, брат! (Л. Толстой) // Nie nowina, bracie!
Однако при переводе, особенно более современных, произведений русское обращение брат в польском эквивалентном тексте нередко меняется на сочетание mój drogi или вообще опускается (т.наз. нулевой перевод), ср.:
(5) – А я, брат, продолжаю не постигать, – задумчиво заметил генерал… (Ф. Достоевский) // – A ja, mój drogi, wciąż nie mogę tego pojąć – odezwał się zamyślony generał…
(6) Такой кабак и бедлант развели, что чертям, брат, тошно, не разбери-бери что! (Б. Пастернак) // Zrobiliśmy taki bajzel i bałagan, że sam diabeł się nie połapie – a jakże!
Появление тех или иных номинаций в каждом национальном языке зависит от того, какие явления важны для данного социума. Продолжая тему перевода наименований родственников, важно заметить, что в польском языке акцентируется особое внимание на линиях кровного родства; в частности, последовательно разграничиваются члены семьи по линии матери и отца, брата и сестры, напр.: siostrzeniec ‘племянник – сын сестры’, brat cioteczny ‘двоюродный брат со стороны тети’ и др. При этом русским словам теща, свекровь соответствует в польском языке только одно слово – teściowa (слово świekra существовало, но сегодня оно воспринимается как устаревшее) (Кононенко 2015: 436), что необходимо учитывать при переводе. Возникают проблемы перевода и такого, казалось бы, простого русского слова дядя (в том числе во вторичных значениях). В польском языке употребляются слова stryj – ‘брат отца’ и wujek (wuj) – ‘брат матери, реже – отца, муж сестры матери или отца’, временами – это ‘любой далекий родственник’; существуют также уменьшительные формы wujcio, wujaszek. Таким образом, переводчик должен четко ориентироваться в семейных линиях образов художественного произведения, ср.:
(7) Дядя Каренин, важный чиновник и когда-то любимец покойного императора, воспитал их (Л. Толстой) // Stryj, wysoki urzędnik, niegdyś faworyt nieboszczyka cesarza, wychował obu bratanków.
(8) Давеча утром дядя твой застрелился! (Ф. Достоевский) // Dziś rano twój wujaszek popełnił samobójstwo!
Показательно, что традиционным для Польши переводом названия пьесы А.П. Чехова «Дядя Ваня» является «Wujaszek Wania». Удачным примером эквивалента слова дядя с обобщающим значением является лексема krewniak ‘родственник’:
(9) – Пойдем, – гoворили некоторые, – право-слово пойдем: что он нам, дядя, что ли (И. Гончаров) // Chodźmy – mówili niektórzy – dalibóg, chodźmy, co on nam, krewniak czy co?
Проблематичным для переводчика русского произведения на польский язык является подбор идентичного слова к лексеме дядя в значениях ‘знакомый мужчина’ или ‘незнакомый мужчина’. В нейтральном слове pan теряется просторечный характер русского употребления, ср.:
(10) – Работы много, – объяснил дядя Коля (В. Ерофеев) // – Mam dużo pracy – wyjaśnił pan Kola.
Слово wujek в значении ‘знакомый’ эпизодически встречается в современном польском просторечии. И хотя данная лексема редко употребляется при обращении, именно она представляется наиболее адекватной при переводе:
(11) А к вам, дядя Харитоныч, видать, влево, прочь от реки? (Б. Пастернак) // A do was, wujku Charitonyczu, chyba na lewo od rzeki?
Вместе с тем русский и польский языки имеют длинный ряд слов одного происхождения с подобными ментальными ассоциациями (культурные универсалии). Скажем, одинаковые переносные значения имеют такие слова, как баран // baran, свинья // świnia, орел // orzeł, кукушка // kukułka и др. При этом во многом существенно различается, например, использование уменьшительных анималистических номинаций для обращений к детям, любимым, членам семьи. В русском и польском языках, как и в других славянских, с этой целью могут употребляться слова котик // kotek, рыбка // rybka. Но сходства на этом заканчиваются. Как показывают данные Национального корпуса русского языка, интернет-данные, сегодня в русском языке высокочастотной формой обращения такого типа являются производные от слова заяц: зайчик, зайка, зайчишка, заинька, зайчонок, ср. просторечный неологизм зая, причем указанные языковые единицы могут обозначать лиц и мужского, и женского пола, ср., напр., слова песни:
(12) Зайка моя, я твой зайчик (С. Касторский).
Однако в словарях русского языка переносные значения данной группы однокоренных лексем не представлены. Исключение составляет дефиниция слова заинька в словаре Т.Ф. Ефремовой: разг. ‘употр. как ласковое обращение к кому-л. (обычно к ребенку или возлюбленной)’ (НТССРЯЕ). Общей проблемой является то, что в двуязычных словарях недостаточно отражены переносные значения слов. Естественно, эта проблема усугубляется, если такие значения не зафиксированы в толковом словаре. В русско-польских словарях и онлайн-переводчикe как исходные представлены из описанной группы слова зайчик, зайка и зайчонок без указания на возможность переносного употребления. Эквивалентом к данным лексемам в польском языке дается слово zajączek. Но в польской языковой картине мира сложилась своя система обращения к близким людям. В переносных значениях употребляются лексемы żabka ‘лягушечка’, myszka ‘мышка’, robaczek ‘червячок’, реже – króliczek ‘крольчонок’, еще реже, как уже несколько устаревшее, – zajączek ‘зайчик’. При переводе предложения
(13) Поняла, заинька, почему не Маяковский? (В. Ерофеев)
переводчик выбирает как эквивалент к слову заинька króliczek:
(14) Łapiesz, króliczku, czemu Majakowski?
Очевидно, по набору семантических признаков и внутренней форме эта лексема ближе всего к заиньке, однако образ русского мировосприятия при этом теряется; возможно, следовало бы употребить словоформу zajączku, хотя она, как было отмечено, в подобном значении несколько потеряла в польском языке в последние годы свою актуальность.
В составе русского языка выделяются слова, не имеющие в польском однословного аналога. К безэквивалентной лексике относят обычно слова этнографической семантики, обозначающие национальные культурологические реалии. Лексемы такого типа не только выполняют номинативную функцию, но и являются источником лингвокультурных ассоциаций. Трудности передачи подобных единиц средствами другого языка можно продемонстрировать на примере перевода предложения:
(15) Солдат принес чай в подстаканнике, черный хлеб и тарелку пельменей (В. Ерофеев) // Żołnierz przyniosł herbatę, razowiec i talerz pierogów.
При переводе на польский язык слово подстаканник было опущено, составное наименование черный хлеб получило эквивалент razowiec, т.е.‘ржаной хлеб грубого помола’, пельмени было переведено как pierogi ‘вареники’. Таким образом, национальный колорит русского текста при переводе был утерян.
Номинации еды являются одной из наиболее сложных для передачи средствами другого языка групп лексики. Например, популярным блюдом русской кухни являются щи, а польской – капустняк (kapuśniak), и хотя рецепты приготовления этих блюд не совсем идентичны, в двуязычных словарях и в конкретных переводах данные номинации считаются эквивалентами, ср.:
(16) Мне лучше всего щи и каша; но ведь здесь этого нет (Л. Толстой) // Wolałbym kapuśniak i kaszę. Ale oni tego tu nie mają.
Следует отметить, что в польской Википедии существует довольно развернутая статья Szczi, где подчеркивается, что русское блюдо щи лишь напоминает польский kapuśniak (Szczi, https:pl.wikipedia.org). Однако слово szczi в зафиксированных русско-польских литературных переводах пока что не встречается.
Если в тексте иной культуры встречаются единицы, нуждающиеся в интерпретации, это служит сигналом национальной специфики текста (Сорокин, Марковина 1983: 37). Таким образом, отдельного рассмотрения требуют русские лексемы, которым в польском языке отвечают описательные конструкции, часто не передающие в полной мере нюансы семантики исходного слова. Нередко к таким лакунам принадлежат т. наз. сигнификативные слова русского языка – глаголы, прилагательные, наречия, существительные с абстрактным значением и др. Скажем, лишь описательно в двуязычных словарях и в переводах с русского языка на польский передаются такие лексемы, как посмеиваться // trochę śmiać się, напутствие // pożegnalne słowo, pouczenie na drogę, благовест // bicie dzwonów, крючкотворство // drobiazgowa formalistyka и др. В подобных случаях описание представляется единственным эквивалентом русского слова, хотя культурные наслоения при этом теряются.
Сложными для передачи средствами перевода являются многие русские качественные прилагательные. В двуязычных лексикографических источниках нередко встречается несколько аналогов одного русского адъектива, что приводит к «размыванию» семантики русского слова. Например, в „Большом русско-польском словаре” прилагательные прелестный и обаятельный получают практически одинаковые эквиваленты, ср.: обаятельный // uroczy, czarujący (БПРС 2001: 741), прелестный // uroczy, czarujący, prześliczny, cudowny (БПРС 2001: 199), ср. в переводах:
(17) …Он отрабатывает свой угрюмо-обаятельный имидж в бесчисленных интервью… (В. Ерофеев) // … Wypracowuje swój posępnie czarujący image w niezliczonych wywiadach…
(18) Она была в глазах его только прелестный, подающий большие надежды, ребенок (И. Гончаров) // W jego oczach była tylko czarującym dzieckiem, rokującym wielkie nadzieje.
При этом переводчики чувствуют, что семантический объем, скажем, русского слова прелестный шире, чем предложенные лексикографами эквиваленты, и в зависимости от контекста подбирают собственные аналоги, в том числе в форме сравнительной степени или с уточняющим однородным определением, напр.:
(19) – И пойдемте, вечер прелестный! (Ф. Достоевский) // – I pójdziemy, wieczór jest przepiękny!
(20) Ему вообразился прелестный пейзаж… (Ф. Достоевский) // Przed oczyma stanął mu prześliczny, ukwiecony krajobraz…
3. Фразеологический уровень
Особенности национальных традиций, оценочных представлений, психоповеденческих архетипов ярко отображаются во фразеологических оборотах (Chlebda 2007), ср., напр.: пешком под стол ходить // nosić koszulę w zębach, сарафанное радио // poczta pantoflowa, профессор кислых щей // autor od siedmiu boleści. Несмотря на наличие нескольких русско-польских фразеологических словарей, авторы переводов нередко испытывают значительные трудности при передаче русских фразеологических образов на польский язык. Скажем, в «Учебном русско-польском фразеологическом словаре» эквивалентом русского оборота медвежий угол является dziura zabita deskami (дословно: дыра, забитая досками) (Молотков, Цеслиньска 2001: 166), но переводчики стараются хотя бы частично передать образность русского фразеологизмa и используют слова kąt ‘угол’, zakątek ‘уголок’, ср.:
(21) Из Москвы и вдруг в такой медвежий угол (Б. Пастернак) // Z Moskwy nagle do takiego zapadłego kąta.
(22) Потому-то я и приехал сюда, в несказанно прелестный медвежий угол… (В. Ерофеев) // Po to przecież przyjechałem tutaj, do tego ślicznego zakątka…
Встречаются и такие переводы фразеологизмов, в которых прослеживается максимальное, дословное приближение к оригиналу, особенно если в контексте производится своеобразный комментарий оборота, напр.:
(23) Тут нельзя даже скаламбурить «за семь верст киселя хлебать», потому что верст этих, к сожалению, три или четыре тысячи (Б. Пастернак) // Tu nie pasuje nawet porzekadło: „jechać siedem wiorst, żeby siorbnąć kisielu”, bo tych wiorst jest niestety trzy czy cztery tysiące;
ср. эквивалент в словаре: за семь верст киселя хлебать // za siódmą górę po ziarenko maku (дословно: за седьмую гору за зернышком мака) (Молотков, Цеслиньска 2001: 250).
В то же время нередки случаи неадекватного перевода русских фразеологизмов на польский язык. Например, эквивалентом фраземы гусь лапчатый переводчик считает lisek farbowany:
(24) – Нету тут никакого символа! – возопил сын ваш, гусь лапчатый, Ермолай Спиридонович, – нет! (В. Ерофеев) // – Nie ma symbolu! – wrzasnął wasz synek, lisek farbowany, Jermołaj Spiridonowicz. – Nie ma!
Однако, во-первых, данные фразеологизмы не совпадают по своей семантике, в том числе стилистической: гусь лапчатый означает прост. ‘пройдоха, плут; хитрый, пронырливый человек’ (ФСРЛЯ 2008), а farbowany lis (lisek)(дословно: крашеный лис) – ‘фальшивый, неискренний человек; обманщик’ (WSF 2007: 214). Во-вторых, при таком переводе теряется образ русской картины мира.
В последнее время наблюдается своеобразный ренессанс русской фразеологии. Часть фразеологических неологизмов является заимствованиями, причем происходит создание нового европейского и внеевропейского фразеологического конгломерата, ср. интернационализмы два в одном // dwa w jednym, бабочки в животе // motyle w brzuchu, вишенка на торте // wisieńka na torcie и др. Вместе с тем значительная часть фразеологизмов создается на русской национальной основе. Некоторые идиомы приходят из ставших культовыми фильмов и мультфильмов, напр.: картина маслом («Ликвидация»), не смеши мои подковы («Алеша Попович и Тугарин Змей»), шестой подползающий («Влюблен по собственному желанию») и др. Часть новых фразеологических единиц образного характера входит в обращение в процессе активного взаимообмена информацией, в частности, благодаря Интернету, и они быстро становятся популярными. Например, сравнительно недавно в русский язык пришли такие обороты, как настучать по чайнику, началось в колхозе (в деревне) утро, провернуть фарш назад и под. Лексикографическая практика не успевает фиксировать новые единицы. Часть неологических фразеологизмов пока что не вошла не только в русско-польские, но и в одноязычные русские словари. Скажем, популярное выражение египетская сила, пришедшее из сериала «Воронины», широко употребляется и комментируется в интернет-пространстве, однако пока что оно не включено в лексикографические источники. Безусловно, это усложняет процесс перевода и кросскультурную коммуникацию.
4. Морфемно-словообразовательный уровень
Национальная специфика отображается в явлениях морфемики и словообразования. Показательно в этом плане не только наличие в языке тех или иных слов, но и степень продуктивности единиц, развитие словообразовательных гнезд и др. Характерной для каждого языка выступает система создания слов с суффиксами качественной или количественной оценки. Подобные лексемы редко попадают в двуязычные, в том числе в русско-польские словари. При этом часть слов с оценочными суффиксами имеет эквивалент в другом языкe, напр.: скворушка // szpaczek, умишко // rozumek, труселя // majtasy. Часть русских слов, особенно просторечных с коннотацией иронии, не имеет однословных аналогов в польском языке, ср.: танцульки, книженция, утречко, кафешка и др. В любом случае переводчик не получает лексикографической поддержки и руководствуется только собственными знаниями и интуицией. Так, например, в словарях разного типа и в онлайн-переводчике отсутствует польский аналог русского слова воришка, однако при переводе было подобрано соответствующее слово – złodziejaszek, ср.:
(25) Но хуже всего, так это то, что я знал про него, что он мерзавец, негодяй и воришка, и все-таки сел с ним играть… (Ф. Достоевский) // Najgorsze z tego wszystkiego, że wiedziałem, iż to szubrawiec, nikczemnik i złodziejaszek, a jednak siadłem z nim do gry…
Среди слов с аксиологическими суффиксами в русском и польском языках выделяются наименования еды. В основном это деминутивы, которые практически не встречаются в двуязычных словарях. Наиболее давниe образования такого типа в русском и польском языках взаимоэквивaлентны, напр.: молочко // młeczko, маслице // masełko, пряничек // pierniczek, ср. неологизмы вкусняшка // pychotka. Однако в основном наименования еды с оценочными суффиксами редко пересекаются в двух языках по образованию и частоте употребления, ср.: биточек, пельмешек; karkóweczka ← karkówka ‘ошеек’, soczek ← sok ‘сок’, ср. также обобщающее слово jedzonko ← jedzenie ‘еда’.
Создание подобных деминутивов обычно связано с традициями употребления того или иного продукта (блюда). Скажем, насчитывающий не одно столетие культ кофе в Польше привел к появлению целого ряда уменьшительных форм: kawka, kawcia, kawunia, kawusia ← kawa, ср. кофеёк ← кофе. Однако популярность того или иного продукта в современном мире может быть обусловлена не только устоявшимися традициями. Например, утратила свою актуальность старая польская шутка о том, что славяне делятся на три группы – на тех, кто пьет водку, пиво или вино. В последние годы количество аксиологических производных от слова пиво в русском языке значительно возросло и превысило польские производные от слова piwo, ср.: пивко, пивушко, пивцо, пивас, пивасик; piwko, piweczko, piweńko, piwsko. Наличие нескольких синонимичных деминутивов в двух языках должно облегчать процесс перевода, однако часть из приведенных лексем не зафиксирована словарями, что не способствует эффективной работе переводчика. Переводы с данными словами не вошли в русско-польский корпус.
Русский и польский языки нередко существенно расходятся в мотивации создания слова, в так называемой внутренней форме, положенной в основу номинации. Особенно сложны для перевода на польский язык русские слова, имеющие глубинную внутреннюю форму, которая базируется на национальных ассоциациях, напр.: проворонить, устаканиться, раскочегарить, опростоволоситься, отсебятина и др. В подобных случаях полностью сохранить при переводе фоновые знания носителей исходного языка обычно не удается, напр.:
(26) Мне рассказывали в Инсбруке, что русские дают огромные чаевые тем, кто учит их кататься на горных лыжах (В. Ерофеев) // Opowiadano mi w Innsbrucku, że Rosjanie dają ogromne napiwki instruktorom narciarskim;
ср. чаевые ← чай, napiwek (napiwki) ← piwo ‘пиво’, т.е. в польском переводе русские дают инструкторам не на чай, а на пиво, как это принято у поляков.
5. Морфологический уровень
Лингвокультурологические архетипы опосредованно отражаются и в грамматических явлениях, в частности, в определенной мере влияют на формирование морфологических категорий. Например, в русском языке существуют параллельные формы гость/гостья. В польском языке слово женского рода gościa перестало употребляться, словом мужского рода gość называют и мужчину, и женщину. Однако авторы переводов русских литературных произведений на польский язык избегают эквивалента gość по отношению к гостья, предпочитая слова dama, pani и описательные конструкции. Таким образом, с одной стороны, переводчикам удается уйти от употребления устаревшего слова gościa, с другой – они не используют современную, гендерно не обозначенную, лексему gość по отношению к дамам – персонажам русской классической литературы. Так осуществляется кросскультурный коммуникативный компромисс, ср.:
(27) Гостья махнула рукой (Л. Толстой) // Przybyła dama machnęła ręką.
(28) – Это совершенные разбойники, особенно Долохов, – говорила гостья (Л. Толстой) // To prawdziwi zboje, osobliwie Dołochow – mówiła pani Karagin.
(29) Графиня Соцкая, из Петербурга, губернаторши гостья, и Софья Беспалова, как известно стало, приедут наверно с букетами, с белыми (Ф. Достоевский) // Hrabina Socka z Petersburga, przebywająca w gościnie u gubernatorowej, oraz Zofia Bezpałowa miały się zjawić na balu, jak fama głosiła, z bukietami białych kamelii.
Глубинную мотивированность проявляют также формы числа (Мельчук 1997: 253–270). Например, в русском и польском языках категорией числа различаются такие имена существительные, как картофель (ед. ч.) // ziemniaki (мн. ч.); скрипка (ед. ч.) // skrzypce (мн. ч.) и др. При этом разные формы числа могут передавать грамматические значения разного типа. Скажем, в польском языке форма единственного числа makaron передает дополнительную семантику собирательности, отсутствующую в соответствующем русском слове множественного числа макароны, напр.:
(30) У обоих глаза вылезли на лоб, когда в подставленные чехлы от дамских подушечек, называемые думками, и более крупные наволочки им стали сыпать муку, крупу, макароны и сахар… (Б. Пастернак) // Oczy wprost wyszły im na wierzch, gdy magazynier w nastawione poszewki od jaśków i poduszek zaczął im sypać mąkę, kaszę, makaron i cukier...
6. Синтаксический уровень
Специфика языковой картины мира может проявляться и на синтаксическом уровне, в частности, в особенностях сочетаемости компонентов словосочетания и предложения. Скажем, в русском языке прилагательное красивый может входить в coчетания с существительными и женщина, и мужчина. В современном польском языке номинации признака привлекательной внешности женщин и мужчин обычно гендерно обозначены: наименование dziewczyna ‘девушка’, kobieta ‘женщина’ сочетается с адъективом ładna, а młodzieniec ‘юноша’, mężczyzna ‘мужчина’ и под. ˗˗ с прилагательным przystojny, что отражено в переводах:
(31) Она была молодая, румяная, высокая и, кажется, красивая (Ф. Сологуб) // Była młoda, rumiana, wysoka i chyba ładna.
(32) Между ними находился один молодой и очень красивый собой офицер… (Ф. Достоевский) // Wśród nich znajdował się pewien młody i bardzo przystojny oficer…
Освоение польским языком ряда ключевых для русской картины мира слов (samowar, walonki и др.) способствует включению лексем такого типа в определенное синтаксическое окружение. При этом заимствование лексемы не означает дословного заимствования контекстного наполнения, что находит свою реализацию в русско-польском корпусе, напр.:
(33) Мне отворила наконец одна баба, которая в крошечной кухне вздувала самовар… (Ф. Достоевский) // Nareszcie otworzyła mi jakaś baba, która w malutkiej kuchence rozdmuchiwała ogień w samowarze…
(34) – Самовар чтобы согреть! (Л. Толстой) // – Samowar nastawić!
(35) Он важничал в дворне, не давал себе труда ни поставить самовар, ни подмести полов (И. Гончаров) // Puszył się wobec czeladzi, nie zadać sobie trudu, żeby nastawić samowar lub zamieść podłogę.
(36) Хозяйка села за самовар и сняла перчатки (Л. Толстой) // Pani domu usiadła przy samowarze i zdjęła rękawiczki.
Контекстуальные условия употребления слова или выражения могут стать определяющими при выборе нужного эквивалента в процессе перевода. Переводчик должен учитывать, скажем, что в русском языке сочетание на улице может указывать как на место совершения действия, так и на погодные условия. Если в первом случае в польском языке существует эквивалентное сочетание na ulicy, то во втором случае нужен аналог na dworze ‘во дворе’. Данные Параллельного русско-польского корпуса демонстрируют, что описанные особенности сочетаемости обычно отображены в переводах, однако встречаются и ошибочные употребления, ср.:
(37) На улице ни души, сообщение по тротуару прервано (Б. Пастернак) // Na ulicy nie ma żywego ducha, chodniki opustoszały.
(38) Пока митинговали, на улице повалил снег (Б. Пастернак) // W czasie wiecu na dworze zaczął padać śnieg.
(39) Они были так уверены в этом, что когда они заперли дверь, след этой уверенности остался за углом дома на улице… (Б. Пастернак) // Byli tak tego pewni, że kiedy zamknęli drzwi, ślad owej postaci pozostała węgłem domu na dworze…
(в последнем примере аналогом сочетания на улице должно быть na ulicy, а не na dworze).
7. Заключение
Проведенное исследование особенностей кросскультурной коммуникации в тексте перевода литературных произведений на материале русско-польского корпуса, а также национальных корпусов русского и польского языков, лексикографических источников разного типа позволило сделать следующие выводы:
– в русском языке, как и в других языках, на лексическом, фразеологическом, морфемно-словообразовательном, морфологическом, синтаксическом уровнях существуют единицы, показательные в плане отражения в них национальной картины мира;
– перевод обозначенных элементов в составе русских художественных произведений на польский язык представляет значительные трудности;
– перевод предложений, включающих репрезентативные для русской языковой картины мира единицы, демонстрирует как кросскультурные удачи, так и неудачи, заключающиеся в опущении при переводе знаковых для русской культуры элементов, неадекватной их передаче, замене на единицы, типичные для польского мировосприятия;
– существующие одноязычные и двуязычные словари разного типа, онлайн-переводчики не всегда отображают полноту семантики русских слов и фразеологических оборотов, тем более в данных источниках часто не отражены культурные наслоения;
– представляется необходимым дальнейшее выявление единиц национально-культурного кода русского языка в сопоставлении с другими языками, изучение путей кросскультурной коммуникации, в частности, между русскими и поляками, а также создание словарей нового типа, усовершенствование онлайн-переводчиков, пополнение базы больших данных, прежде всего параллельных корпусов двух языков.
Таким образом, в статье были продемонстрированы возможности двуязычного корпуса как материала анализа межкультурного диалога. Показано, что неверный перевод может привести к проблемам в кросскультурной коммуникации. При этом переводчики испытывают значительные трудности из-за отсутствия полной теоретической и лексикографической поддержки. Практика перевода литературных произведений с русского языка на польский демонстрирует необходимость дальнейшего изучения картин мира обоих народов. Становится очевидным, что нужны новые подходы в сопоставительном анализе мировосприятия русских и поляков, в исследовании специфики перевода с русского языка на польский, а также в подготовке новых, во многом принципиально иных по сравнению с существующими, двуязычных словарей разного типа, в которых бы учитывались особенности национального взгляда на мир, что должно способствовать поиску взаимопонимания между представителями разных народов.
Об авторах
Ирина Витальевна Кононенко
Варшавский университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: ikononenko@uw.edu.pl
доктор филологических наук, заведующая лабораторией контрастивного языкознания факультета прикладной лингвистики Варшавского университета. Автор более 100 научных и научно-методических работ - монографий, учебных пособий, двуязычных словарей разного типа и др. Сфера научных интересов - сопоставительная лексикология, фразеология, словообразование и грамматика славянских языков, этнолингвистика, теория и практика перевода, лексикография.
Krakowskie Przedmieście 26/28, Варшава, 00-927, ПольшаСписок литературы
- Бацевич Ф.С., Богданович Г.Ю. Українсько-російський словник термінів міжкультурної комунікації. Сімферополь: Феникс, 2011. [Bacevych, Floriy S. & Galyna J. Bogdanoych. 2011. Ukrayinsko-rosyyskyy slovnyk terminiv mizhkulturnoyy komunikacii (Ukrainian-Russian dictionary of terms of intercultural communication). Simferepol: Feniks].
- Бурас М.М., Кронгауз М.А. Обращения в русском семейном этикете: семантика и прагматика. Вопросы языкознания. 2013. № 2. С. 122-123. [Buras, Mariya M. & Maksim A. Krongauz. 2013. Obrashcheniya v russkom semejnom etikete: semantyka i pragmatyka (Expressions in Russian family etiquette: semantics and pragmatics. Questions of linguistics). Voprosy yazykoznaniya № 2. 122-123].
- Гарбовский Н.К. Теория перевода. М.: МГУ, 2004. [Garbovskiy, Nikolay K. 2004. Teorija perevoda (The theory of translation). Moscow: MGU].
- Грушевицкая Т.Г., Попков В.Д., Садохин А.П. Основы межкультурной коммуникации. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2010. [Grushevitskaya, Tatyana G., Vladimir D. Popkov & Aleksandr P. Sadokhin. 2010. Osnovy mezhkulturnoy kommunikatsii (The essentials of intercultural communication.). Moscow: YNITI-DANA].
- Гумбольдт В. фон. Язык и философия культуры. М.: Прогресс, 1985. [Humboldt, Wilhelm, von. 1985. Jazyk i filosofiya kultury (Language and philosophy of the culture). Moscow: Progress].
- Емельянова Я.Б. Лингвострановедческая компетенция переводчика: теория и практика. Нижний Новгород: ООО «Стимул-СТ», 2010. [Emelyanova, Yana B. 2010. Lingvostranovedcheskaya kompetenciya perevodchika: teoriya i praktika (Linguistics competence of a translator: theory and practice). Nizhniy Novgorod: OOO „Stimul-ST”].
- Зализняк А.А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д. Ключевые идеи русской языковой картины мира. М.: Языки русской культуры, 2005. [Zaliznyak, Anna A., Irina B. Levontina & Aleksey D. Shmel’ov. 2005. Kluchevyje idei russkoy yazykovoy kartiny mira (Key ideas of the Russian language picture of the world). Moscow: Yazyki russkoy kultury].
- Кононенко І. Взаємовпливи в мовних картинах світу українців і поляків // Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze. 2006. T. 21-22. С. 151-165. [Kononenko, Iryna. 2006. Wzaemovplyvy w movnych kartynakh svitu ukrayinciv i polakiv (Mutual influences in the language pictures of the world of Ukrainians and Poles) // Warszawskie Zeszyty Ukrainoznawcze 21-22. 151-165].
- Кононенко И. Система семейных ценностей в языковой картине мира славян // Konstrukcje i destrukcje tożsamości. T. IV. Wartości w świecie słowiańskim / pod red. E. Gołachowskiej, D. Pazio-Wlazłowskiej. Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 2015. С. 429-442. [Kononenko, Irina. 2015. Sistema semeynykh tsennostey v yazykovoy kartin’e mira slaw’an (The system of family values in the language picture of the world of the Slavs) // Konstrukcje i destrukcje tożsamości. T.IV. Wartości w świecie słowiańskim / pod red. E. Gołachowskiej, D. Pazio-Wlazłowskiej. Warszawa: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, 429-442].
- Корнилов О.А. Языковые картины мира как производные национальных менталитетов. М.: ЧеРо. 2003. [Kornilov, Oleg A. 2003. Yazykovye kartiny mira kak proizvodnye natsionalnykh mentalitetov (Language pictures of the world as derivatives of national mentalities.). Moscow: CheRo].
- Куликова Л.В. Коммуникация. Стиль. Интеркультура: прагмалингвистические и культурно-антропологические подходы к межкультурному общению. Красноярск: СФУ, 2011 [Kulikova, Lydmila V. 2011. Kommunikaciya. Stil’. Interkultura: pragmalingvisicheskie i kulturno-antropologicheskie podkhody k mezhkulturnomu obshcheniu (Communication. Style. Interculture: Pragmalinguistic and cultural-anthropological approaches to intercultural communication). Krasnoyarsk: SFU].
- Левонтина И.Б. Милый, дорогой, любимый… // Зализняк А.А., Левонтина И.Б., Шмелев А.Д. Ключевые идеи русской языковой картины мира. М.: Языки русской культуры, 2005. С. 238-246. [Levontina, Irina B. Milyy, gorogoy, lubimyy… // Zaliznyak, Anna A., Irina B. Levontina & Aleksey D. Shmel’ov. 2005. Kluchevyje idei russkoy yazykovoy kartiny mira (Main ideas of the Russian language picture of the world). Moscow: Yazyki russkoy kultury. 238-246].
- Мельчук И.А. Курс общей морфологии. Т. 1. М. - Вена: Языки русской культуры, 1997. [Melchuk, Igor A. 1997. Kurs obshchey morfologii (Course of General morphology). Т. 1. Moscow-Vienna: Yazyki russkoy kultury].
- Недосека О.Н. Понятие «кросс-культурная коммуникация» в современном гуманитарном образовании // Вектор науки ТГУ. 2011, 4 (7). С. 201-203. [Nedoseka, Olga N. 2011. Ponyatie „kross-kulturnaya kommunikatsiya” v sovremennom obrazovanii (The concept of "cross-cultural communication" in modern Humanities education). Vektor nauki TGU 4 (7). 201-203].
- Оболенская Ю.Л. Художественный перевод и межкультурная коммуникация. М.: Высшая школа, 2016. [Obolenskaya, Yuliya L. 2016. Khudozhestvennyy perevod i mezhkulturnaya kommunikatsiya (Artistic translation and intercultural communication). Moscow: Vysshaya sokola].
- Персикова Т.Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура. М.: Логос, 2007. [Persikova, Tamara N. 2007. Mezhkulturnaya kommunikatsiya i korporativnaya kultura (Cross-cultural communication and corporate culture). Moscow: Logos].
- Сдобников В.В. Переводоведение сегодня: вечные проблемы и новые вызовы // Russian Journal of Linguistics, 23 (2), 2019. 295-327. [Sdobnikov, Vadim V. 2019. Perevodovedenie segodnya: vechnye problemy i novye vyzovy (Translation studies today: eternal problems and new challenges). Russian Journal of Linguistics 23 (2). 295-327].
- Снитко Е.С., Кулинич И.А. Русский язык в этнолингвистическом освещении. Киев: Киевский университет, 2005. [Snitko, Elena S. & Irina A. Kulinich. 2005. Russkii yazyk w etnolingwisticheskom osweshchenii (Russian language in the ethnolinguistic lighting). Kiev: Kievskii universitet].
- Сорокин Ю.А., Марковина И.Ю. Опыт семантизации лингвистических и культурологических лакун: Методологические и методические аспекты // Лексические единицы и организация структуры литературного текста. Калинин 1983. С. 35-52. [Sorokin, Yurij A. & Irina J. Markovina. 1983. Opyt semantizacii lingvisticheskikh i kulturologicheskikh lakun. Metodologicheskie i metodicheskie aspekty (Experience semantics of the linguistic and cultural gaps: Methodological and methodical aspects)// Leksicheskie edinicy i organizaciya struktury literaturnogo teksta 35-52. Kalinin].
- Татарко А.Н., Лебедева Н.М. Методы этнической и кросскультурной психологии. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2011. [Tatarko, Aleksandr N. & Nadezhda M. Lebedeva. 2011. Metody etnicheskoj i krosskulturnoj kommunikatsii (Methods of ethnic and cross-cultural communication). Moscow: Izdatelskiy dom Wysshej shkoly ekonomiki].
- Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. М.: Слово, 2000. [Ter-Minasowa, Svetlana G. 2000. Yazyk i mezhkulturnaya kommunikatsiya (Language and intercultural communication). Moscow: Slovo].
- Фрик Т.Б. Основы межкультурной коммуникации. Томск: Томский политехнический университет, 2013. [Frik, Tatyana B. 2013. Osnovy teorii mezhkulturnoy kommunikatsii (Basics of intercultural communication). Tomsk: Tomskij politekhnicheskiy universitet].
- Юрьева Т.В. Проблема кросс-культурных коммуникаций в аспекте практико-ориентированных педагогических технологий // Ярославский педагогический вестник. 2015. 5, С. 104-107. [Yureva, Tatiana V. 2015. Problema kross-kulturnykh kommunikatsiy v aspekte praktyko-orientirovannykh pedagogicheskikh tekhnologiy (The problem of cross-cultural communication in the aspect of practice-oriented pedagogical technologies). Yaroslavskiy pedagogicheskiy vestnik 5. 104-107].
- Bartmiński, Jerzy. 2012. Aspects of Conitive Ethnolinguistics. London: Equinox,
- Blum-Kulka, Shoshana, Juliane House & Kasper Gabriel (eds.). 1989. Cross-cultural pragmatics: Requests and apologies. Norwood NJ Albex.
- Chlebda, Wojciech (eds.). 2007. Frazeologia a językowe obrazy świata przełomu wieków. Opole: Uniwersytet Opolski.
- Gladkova, Anna & Larina Tatiana. 2018. Anna Wierzbicka, Language, Culture and Communication. Russian Journal of Linguistics 22 (4). 717-748. DOI: 22363/2312-9182-2018-22-4-717-748.
- Gudykunst, William B. (eds.). 2003. Cross-cultural and intercultural communication. Fullerton: California State University.
- Guirdham, Maureen. 1999. Communicating Across Cultures. London: MacmiPlan Press.
- Guławska-Gawkowska, Małgorzata & Gennadij Zeldowicz (eds.). 2013. Znaki czy nie znaki? Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
- Kusio, Urszula. 2011. Dialog w komunikacji międzykulturowej. Ideały a rzeczywistość. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej.
- Larina, Tatiana. 2015. Culture-Specific Communicative Styles as a Framework for Interpreting Linguistic and Cultural Idiosyncrases. International Review of Pragmatics 7 (5). Special Issue: Communicative Styles and Genres. 195-215.
- Larina, Tatiana V., Vladimir I. Ozymenko & Svetlana Kurteš. 2017. I-identy vs we-identy in language and discourse: Anglo-Slavonic perspectives. Lodz Papers in Pragmatics 13 (1). 195-215.
- Łaziński, Marek & Magdalena Kuratczyk. 2016. Korpus Polsko-Rosyjski Uniwersytetu Warszawskiego (Polskojęzyczne korpusy równoległe. Polish-language Parallel Corpora). In E. Gruszczyńska & A. Leńko-Szymańska (eds.). Warszawa: Sowa. 83-97.
- Magala, Sławomir. 2011. Kompetencje międzykulturowe. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business.
- Munday, Jeremy. 2008. Introducing Translation Studies. Theories and Applications. London, New York: Routledge.
- Pym, Anthony. 2008. Exploring Translation Theories. London, New York: Routledge.
- Rożko, Katarzyna & Paweł Pruszyński. 2012. “Siostro”, „pani magister”, a może „pani pielęgniarka’? Nie wiesz - po prostu spytaj, rynek zdrowia.pl [accessed 20 January, 2019].
- Szopski, Marek. 2005. Komunikowanie międzykulturowe. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne s.a.
- Szczi, https: pl.wikipedia.org [accessed 25.01.2019]
- Tannen, Deborah. 1990. You Just Don’t Understand. New Jork: Morrow.
- Urbanek, Dorota. 2004. Pęknięte lustro. Tendencje w teorii i praktyce przekładu na tle myśli humanistycznej. Warszawa: Trio.
- Wierzbicka, Anna. 2003. Cross-cultural Pragmatics: The Semantics of Human Interaction. Berlin: Mouton de Gruyter.
- Wierzbicka, Anna. 2006. English Meaning and Culture. Oxford: Oxford University Press.
- НКРЯ: Национальный корпус русского языка, www.ruskorpora.ru [дата обращения: 12.12.2018]. [Natsionalnyy korpus russkogo yazyka (National corpus of the Russian language), www.ruskorpora.ru] [accessed 12 December, 2018]
- РПОП: Русско-польский онлайн-переводчик, russian-polish.translate.ua/ru [дата обращения: 2.01.2019]. [Russko-polskiy onlayn-perevodchik (Russian-Polish online translator), russian-polish.translate.ua/ru] [accessed 2 January, 2019]
- NKJP: Narodowy korpus języka polskiego, nkjp.pl [accessed 14 October, 2018]
- PRRPKR: Polsko-rosyjski i rosyjsko-polski korpus równoległy, pol-ros.polon.uw.edu.pl [accessed 12 December, 2018]
- БПРС: Мирович А., Дулевич И., Грек-Пабис И., Марыняк И. Большой русско-польский словарь. Т. 1, 2. Warszawa: Wiedza Powszechna, 2001. [Mirovich, Anantol, Irena Dulevich, Iryda Grek-Pabis, & Irena Marynyak. 2001. Bolshoy russko-polskyi slovar’ (The big Russian-Polish dictionary). Т. 1, 2. Warszawa: Wiedza Powszechna]
- Молотков А.И. Цеслиньска В. Учебный русско-польский фразеологический словарь. М.: АСТ, 2001. [Molotkov, Aleksandr I. & Wiesława Tselin’ska. 2001. Uchebnyy russko-polskiy frazeologicheskiy slovar’ (Educational Russian-Polish phraseological dictionary). Moscow: AST]
- НТССРЯЕ: Новый толково-словобразовательный словарь русского языка Т.Ф. Ефремовой. М.: Русский язык, 2002, https://slovar.cc/rus/efremova-slovo [дата обращения: 12.12.2018]. [Novyy tolkovo-slovoobrazovatelnyy slovar’ russkogo yazyka T.F. Efremovoy. 2002. Moscow: Russkiy yazyk, https://slovar.cc/rus/efremova-slovo] [accessed 12 December, 2018]
- ФСРЛЯ: Фразеологический словарь русского литературного языка / под ред. А.И. Федорова. М.: Астрель 2008, https://phraseology.academic.ru [дата обращения: 07.11.2018]. [Frazeologicheskiy slovar’ russkogo literatur nogo yazyka. 2008. (Phraseological dictionary of the Russian literary language)/ pod red. A.I. Fedorova. Moscow: Astrel, https://phraseology.academic.ru] [accessed 07 July, 2018]
- Antoniuk, Anna, Iryna Kononenko, Irena Mytnik, Wioletta Mela-Cullen, Julia Roguska, Anna Szafernakier-Świrko & Elżbieta Wasiak. 2019. Słownik tematyczny polsko-rosyjski / pod red. I. Kononenko. Warszawa: Sowa
- WSF: Wielki słownik frazeologiczny PWNzprzysłowiami / oprac. Kłosińska, Anna, Elżbieta Sobol & Anna Stankiewicz. Warszawa: PWN, 2007