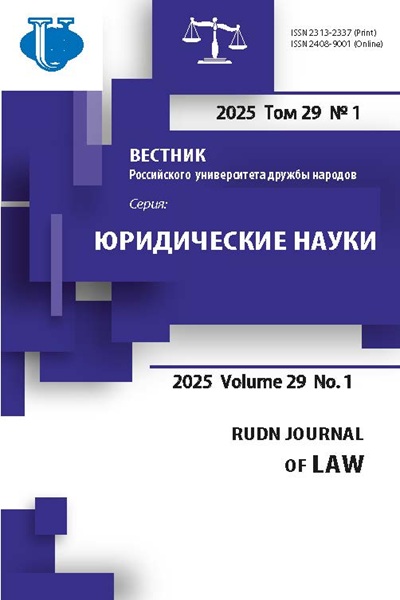Features of the development of the institution of criminal punishment in ancient and medieval Russia from 10th to 17th centuries: A socio-legal perspective
- Authors: Korsakov K.V.1
-
Affiliations:
- Institute of Philosophy and Law of the Ural Branch Russian Academy of Sciences
- Issue: Vol 29, No 1 (2025)
- Pages: 54-67
- Section: HISTORICAL AND LEGAL RESEARC
- URL: https://journals.rudn.ru/law/article/view/43585
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-2337-2025-29-1-54-67
- EDN: https://elibrary.ru/PXRUUN
- ID: 43585
Cite item
Full Text
Abstract
This study is devoted to the specific features and peculiarities of the development of criminal punishment in ancient and medieval Russia during the period of the formation and strengthening of Russian statehood and its legal system. The author aims to acquire new scientific knowledge about the process of formation and evolution of the institution of criminal punishment in these historical periods. This includes examining the genesis and changes in both the social practice of criminal punishment and the legal category of criminal punishment in the legislation of that time. The article provides a detailed analysis of the institution of blood feud, its role within the spectrum of criminal penalties used in ancient Russian criminal law, as well as the reasons and conditions that led to its replacement by a system of material liability (compositions). The research is based on a wide range of literary sources, ancient Russian law, chronicles, and specific scholarly research works related to this period. It employs formal-logical, systemic-structural, historical, and dialectical methods of analysis. The study highlights the unique evolution of criminal law penalties in ancient Russian legislation across different periods. It specifies certain types of criminal punishments (such as “vira” and “flow and looting”) and means of proving guilt (including the “field” judicial duel). Special attention is given to the influence of the Christianization of Kievan Rus on the system of criminal punishment and on the overall criminal law doctrine of the country. The author argues that with the adoption of Christianity as the official religion in Russia, a new system for preventing criminal behavior emerged. The conclusions drawn indicate that as social and legal progress advanced, criminal punishment gradually transformed from a retrospective measure reflecting private to one that serves public interests. The institution of criminal punishment evolved from a means of collective responsibility to individual sanctions for specific criminal acts. Notably, the author concludes that social practices of punishment during the pre-state period aligned with retributivist concepts, while criminal punishment emerging from established state power reflects consequentialist principles.
Full Text
Введение
Изучение вопросов генезиса и развития уголовного наказания на самых ранних этапах российской государственности представляется нам важным, полезным и актуальным ввиду обстоятельств, очень точно и удачно обозначенных в тезисах известного пенолога И.М. Рагимова: «никакое другое понятие не связано так тесно со всеми фазами нравственного развития народа, как понятие наказания. Именно в наказании сказывается индивидуальность народа, его мысли и чувства, его спокойствие и страсти, развитие, то есть отражается, как в зеркале, вся его душа» (Ragimov, 2018:236) и выводах М.В Новак и А.С. Горяиновой о том, что «система наказаний есть значимая составляющая культуры того или иного народа, часть истории, общественная практика, в которой выражается мировоззрение общества. Поэтому историю, антропологию и культуру наказаний изучать необходимо; а культурно-исторический опыт России ...как трагичен, так и удивительно уникален» (Novak, Goryainova, 2019:155). Актуальность данной научной проблематики усиливает то обстоятельство, что в настоящее время институт уголовного наказания переосмысляется исследователями и реформируется законодателями с целью его совершенствования и дальнейшего повышения эффективности, а история, как известно, это великий и беспристрастный учитель, ее постоянное и тщательное изучение помогает не повторять ошибки прошлого.
Уголовное наказание как многогранный и сложный социально-правовой феномен в правовой истории российского народа сформировалось в недрах социальной нормативности, транслируемой посредством древних обычаев (в древнерусских летописных источниках и памятниках права они известны как «правда», «закон», «старина», «преданья» и «покон» (Radin, 1910:3)), причем не только восточных славян, но и, конечно же, тюркских, финно-угорских, иранских и других индоевропейских племен, потомки которых сегодня составляют неотъемлемую часть многонационального народа России. Данные обычаи были схожими с обычным правом германских, италийских, фракийских, кельтских и иных племен, однако они обладали своими особенностями и определенной спецификой, представляющими большой научный интерес. Эти характерные особенности сохранялись на протяжении длительного времени, на что также обратил внимание социолог П.А. Сорокин в работе «Пережитки анимизма у зырян» (Sorokin, 2011:23–24), посвященной обычаям и традициям финно-угорского этноса коми, из которого он происходил по матери.
Подчеркнем, что многие такие обычаи, напрямую относящиеся к реакциям на преступное (несправедливое, незаконное) поведение, сохранились у некоторых российских финно-угорских и тюркских этносов вплоть до настоящего времени: трагические случаи следования обычаю типшар (т.н. «сухая беда» – распространенная в старину среди чувашей, удмуртов, марийцев и в меньшей степени в обычном праве мордвы (кой) традиция мести (реже – подтверждения своей невиновности), когда обиженный человек с целью наказать своего обидчика совершал самоубийство, чаще всего – вешался у него на воротах) в форме самосожжения, самоповешения, самоутопления зафиксированы в первой четверти XXI в. в России.
Специфические черты и особенности уголовного наказания в древнерусском обществе
Важной особенностью мировоззрения восточных славян было отношение к любому преступлению как к акту, не только нарушающему многовековой уклад жизни, охраняемые божествами порядок и гармонию, но и оскверняющему силы природы, что было связано с укорененными в их мышлении анимизмом, натурализмом и антропоморфизмом, которые не только отразились в имевшей отчетливый аграрно-природный характер древнеславянской языческой вере, но и проявились в правовой сфере, включая и уголовное право. Сакральное, трепетное, молитвенное отношение к силам природы, которые наделялись жизнью и считались соучаствующими в поддержании мира, гармонии и равновесия, наглядно и четко прослеживается в практике уголовного наказания, в которой была активно задействована природа, выступающая помощницей в деле восстановления справедливости.
В этом отношении показательны древнеславянские казни путем привязывания преступника к верхушкам согнутых деревьев и разрывания ими его тела на части (согласно византийскому историку Льву Диакону так древляне, которых он ошибочно назвал германским племенем, в 945 г. казнили киевского князя Игоря, пытавшегося повторно собрать с них дань), закапывания заживо в сырую землю (именно его в качестве одного из способов мести древлянам избрала княгиня Ольга, которая, по словам И.Ф.Г. Эверса, «мстя за Игоря, действовала на основании понятий о праве, господствовавших в ее время» (Evers, 1835:58)) и повешения на тех же деревьях (в «Повести временных лет» с комментарием «возмездие получили от Бога по справедливости» летописцем описывается кровная месть, совершенная в 1071 г. белозерцами, которые убийц своих родственников повесили на дубе (Khachatryan, 2010:158)). Примечательно, что разработчик концепции этнологической юриспруденции А.Г. Пост связывал встречающееся, согласно ему, только в Древней Руси и в Корее закапывание в землю по плечи (на Руси так казнили женщин за убийство своих мужей) c верованиями и традициями (Post, 1811:197).
Помимо «Повести временных лет» многие другие исторические источники и юридические документы (содержащие нормы обычного права – Закона Русского – договор Олега 911 г. и договор Игоря 944 г. с Византией и др.) свидетельствуют о распространенности обычая кровной мести у славян. Так как кровная месть, как правило, дольше всего сохраняется в высокогорных районах, жители которых берегут свои традиции и обычаи (албанский канун, северокавказские адаты и пр.), обычай кровной мести в славянской среде дольше всего просуществовал у черногорцев (до XX в.), гуралей и гуцулов (до XIX в.) (о нем рассказывается в основанной на обширном этнографическом материале повести «Тени забытых предков» М.М. Коцюбинского).
Нами не разделяется точка зрения историка М.П. Погодина о перенятии восточными славянами кровной мести от их западных соседей – северных германцев (норманнов, варягов) – свеев, гётов (гаутов), гутов, данов и др. (Pogodin, 1846:319), против которой еще в начале XX в. решительно выступила часть российских ученых-историков и правоведов. Мы считаем, что она противоречит картине социального и духовного быта славян того времени: древние восточнославянские языческие культы предков, родной матери-земли и ригористичный, крайне консервативный кровнородственный тип культуры не позволяли нашим пращурам заимствовать чужие правовые обычаи, тем более связанные с вопросами крови. У кочевых скотоводческих тюркских племен, живших на территории современной Российской Федерации, кровная месть была также повсеместно распространена и получила наименование «карымта». В их среде также появился уникальный юридический обычай – барымта (баранта), который предоставлял право на захват скота с целью мести за какую-либо обиду либо вознаграждения за нанесенный преступным деянием вред (среди нахско-дагестанских этносов существовал схожий обычай, называвшийся «ишкиль»). Этот обычай культивировался вплоть до ХХ в., за него была предусмотрена уголовная ответственность в УК Узбекской ССР 1926 г., а в УК РСФСР 1926 г. баранта относилась к преступлениям, составляющим пережитки родового быта, криминализированным в 1928 г. (в статье 200 она определялась как «самовольное взятие скота или другого имущества, без присвоения его, исключительно с целью принудить потерпевшего или его родичей дать удовлетворение за нанесенную обиду или вознаградить за причиненный имущественный ущерб»[1]).
Относительно рано упраздненный на Руси законодательным путем, обычай кровной мести является элементом системы «круговой поруки» – коллективной (групповой) ответственности, которая, наоборот, в истории уголовного наказания в России отчетливо прослеживается на протяжении долгого времени: пока в XX в. окончательно не исчез поддерживающий такую систему ответственности общинный принцип объединения и не прекратилось преследование родственников изменников Родины в рамках применения норм УК РСФСР 1926 г.[2] (в настоящее время существует мнение о присутствии элементов коллективной ответственности в практике отказов в приеме на службу людям, чьи родственники отбывали уголовное наказание, и в положениях ч. 2 ст. 88 УК РФ, согласно которым «штраф, назначенный несовершеннолетнему осужденному, по решению суда может взыскиваться с его родителей или иных законных представителей с их согласия»). Подчеркнем, что данный подход затрагивал не только крестьянское сословие, объединявшееся в родовые, а позднее в соседские (сельские) общины (верви), но и дворян: к примеру, в 1732 г., комментируя ссылку князя А.Г. Долгорукова вместе с всей семьей своей европейской корреспондентке, супруга английского посла в России леди Рондо писала: «Вас, быть может, удивит ссылка женщин и детей; но тут, когда глава семьи оказывается в немилости, то вся его семья подвергается преследованиям» (Lotman, 1992:14). Обычай кровной мести как продукт больше социального, нежели правового опыта, основывался на логике и идеях ретрибутивизма и был лишен какой-либо утилитарности, тогда как в уголовных наказаниях, закрепляемых государством в позитивном праве по мере государственно-правового строительства, уже на первых этапах их появления и развития присутствуют проявления консеквенциализма, так как они наделяются определенным целеполаганием и преследуют интересы выделившейся из общества публичной власти.
Кровная месть в Киевской Руси начала ограничиваться уже в середине X в., что видно из текстов договоров Руси с Византией; как верно отмечает Д.А. Огорелков, «уже по договору 944 г., в отличие от договора 911 г., возможность ее осуществления сужена в пользу имущественных наказаний» (Ogorelkov, 2024:16). Однако вследствие проникновения на Русь византийского права кровная месть постепенно заменяется не столько композициями, получившими распространение еще при князе Игоре, сколько смертной казнью, которая к этому времени была уже давно закреплена в законодательстве Византийской империи и широко в ней применялась. Полагаем, что предписания и нормативы византийских юридических сборников (Эклоги 726 г., Прохирона («Градского закона») 879 г., Номоканона 883 г. и др.) оказали определенное влияние на уголовно-правовые преобразования великого князя киевского Владимира I Святославича, который вследствие роста преступности заменил денежные штрафы (виры) смертной казнью, а потом, согласно тексту Лаврентьевской летописи XIV в., по совету высшего духовенства вновь вернул штрафные платежи.
Некоторые авторы считают, что в ходе реформ Владимира I была введена не смертная казнь, а телесные (калечащие, членовредительские) наказания, так как в ту пору слово «казнь» означало и то, и другое, то есть уголовное наказание в целом (так, в Уставе князя Ярослава Владимировича о церковных судах (Церковном уставе Ярослава) XI–XII вв. очень часто используется фраза «князь казнит»[3] в значении «князь накажет»), а смертная казнь на официальном, документарном уровне появилась лишь в Двинской уставной грамоте 1397 г. за кражу («татьбу»), совершенную в третий раз, в Псковской судной грамоте 1397–1467 гг. – за поджог, конокрадство, измену, кражу, совершенную в третий раз, и кражу из храма, а за убийство – только в Судебнике Ивана III 1497 г. Возражая им, обратим внимание на то, что древнейший памятник позитивного права на старославянском языке – «Закон судный людем» (Судебник царя Константина) конца IX в. (который действовал на территории Руси наряду с Уставом князя Владимира Святославича о десятинах, судах и людях церковных (Церковным уставом Владимира) X–XI вв. (Kostromin, 2018:4), а впоследствии вошел в состав Кормчей книги и второй части Мерила Праведного), предусматривал смертную казнь и судебный поединок («поле»)[4]. Особенностью «поля» как формы разрешения юридических конфликтов (правовых споров), представляющей в сущности разрешенную обычным либо государственным правом дуэль, являлся его дуализм: с одной стороны оно выступало как способ доказывания вины в условиях неопределенности таковой, с другой же выполняло функцию возмездия, уголовной кары, так как убитый на «поле» считался справедливо наказанным за свою вину. В отношении судебного поединка нельзя не отметить популярность на Руси этой древней правовой традиции, просуществовавшей в своих разнообразных вариантах и модификациях вплоть до эпохи Позднего Средневековья. Этот старорусский обычай разрешения конфликтов и споров красочно представлен в исторической поэме «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», написанной в национальном стиле М.Ю. Лермонтовым в 1837 г., он также часто изображался на страницах русского рисованного лубка – особого элемента русского народного искусства.
Несмотря на свою давность, вопрос о моменте появления в социально-правовой действительности Древней Руси телесных уголовных наказаний также продолжает оставаться дискуссионным: ряд российских ученых считают, что телесные наказания в древнерусском обществе возникли лишь под влиянием монголо-татарского ига (Ф.И. Леонтович, И.А. Максимович, Э.К. Тобин, И.Я. Фойницкий и др.), другие исследователи (П.Д. Калмыков, Н.Д. Сергеевский, С.М. Соловьев, Н.С. Таганцев и др.) – что они существовали ранее. Мы в этом вопросе придерживаемся позиции М.Н. Ступина (ее также разделяли Н.Н. Евреинов и А.Г. Тимофеев в их работах «История телесных наказаний в России» и «История телесных наказаний в русском праве»), аргументировано и убедительно доказавшего существование телесных наказаний в уголовном праве Руси домонгольского периода (Stupin, 1887:12), однако полагаем, что следует признать верным подход, согласно которому область применения такой формы уголовного наказания при явном превалировании системы композиций (штрафов, выкупов) была в то время крайне малой, тогда как ордынское владычество XIII–XV вв. значительным образом способствовало его распространению и ужесточению. Нельзя не обратить внимание, что в XX в. был опубликован ряд работ, в которых ужесточение наказаний связывалось в большей степени с европейским, а не монголо-татарского влиянием (С.С. Аверкиев, Г.В. Вернадский и др.). Полагаем, что такая точка зрения небезосновательна и подтверждается историческими свидетельствами, однако первоначальный, стартовый импульс процессу распространения телесных наказаний на Руси дало, как мы считаем, именно ордынское иго, а европейское влияние впоследствии его укрепило.
Влияние христианизации на институт уголовного наказания
Важный этап в поступательном культурно-историческом развитии уголовного наказания в древнерусском государстве связан с Крещением Руси; принятие в 988 г. православной веры оказало влияние не только на уголовное право того периода, но и на правовую систему страны в целом, в этом плане нельзя не согласиться с Ю.А. Зюбановым, сделавшим вывод о том, что «принятие христианства не только определило всю дальнейшую историю Руси, но и осуществило переворот в области развития права» (Zyubanov, 2007:6).
Этим важным событием ранее господствовавшая в древнерусском социуме этика возмездия, покоившаяся на мифологических верованиях, была лишена своей духовно-религиозной основы, и связанные с ней кровавые – частные, субъективные, стихийные и внесудебные – практики стали замещаться гораздо более цивилизованными и упорядоченными юридическими процедурами и правилами (этому способствовало и то обстоятельство, что христианизация усилила распространение письменности и повышение грамотности древнерусского населения), гарантом и хранителем которых становится монарх, поклоняющийся не свергнутому и сброшенному в Днепр идолу языческого покровителя князя и его дружины – богу Перуну, а действующий уже как помазанный на царствование и властвующий от имени христианского Бога его наместник на Земле (Kozachenko, Korsakov & Leshchenko, 2012:28).
Именно с принятием в качестве официальной религии в Древней Руси православной веры нами связывается возникновение отечественной системы предупреждения (профилактики) преступного поведения. Внимательный научный анализ положений Церковного устава Владимира X–XI вв. позволил нам заключить, что это первый в истории нашего государства законодательный акт в сфере правосудия, который посредством удивительного по тонкости, гибкого и выверенного с точки зрения современной криминологии и пенологии воздействия на разум, волю и совесть своих адресатов, без каких-либо угроз уголовными санкциями преследует цель предупреждения преступлений. В отношении правонарушителей в нем, в частности, сказано: «таковым не иметь прощения от закона божьего и пусть они наследуют себе только горе…», «перед Богом тому же отвечать на страшном суде перед тьмой ангелов, где никаких поступков не скрыть, благих или злых, где уже не поможет никто никому, но только правда избавит от повторной гибели и от вечной муки, от крещения не спасенного, от огня негасимого. …сотворивших зло, при воскрешение ожидает неумолимый суд»[5].
Ограничение и изжитие кровной мести в практике уголовного наказания на Руси
В раннефеодальный период в Русском государстве некоторое время продолжали сохраняться институты родоплеменного строя – пережиточные элементы прежнего социального устройства, которые были труднопреодолимыми ввиду их закрепления на уровне стереотипов общественного и индивидуального сознания, культурных стандартов и психологических пластов. Этим объясняется помещение в самые первые строки Русской Правды XI в. правовой нормы о кровной мести: «Убьет муж мужа, то мстить брату брата, или сыну отца, либо отцу сына, или брату брата, либо сестру сыном…»[6]. Закрепление положений о кровной мести можно проследить и в древнегерманских (варварских) правдах (leges barbarorum) эпохи складывания феодальных отношений в Западной Европе, составители которых также не смогли сразу и бесповоротно отступить от этого укоренившегося в социально-правовом быту юридического обычая.
Немаловажным отличием права Русской Правды от писаного права этих правд, на которое обратил внимание еще Р. Давид, является то, что оно носит не племенной, а территориальный характер (David, 1988:154). Несмотря на это древнерусский законодатель проявил бережное отношение к старым племенным обычаям и не стал отменять кровную месть в одночасье, предпочтя путь постепенного ее ограничения, что мы и видим в тексте первой статьи Русской Правды: кровная месть предусмотрена только за убийство, причем убийство свободного человека («мужа») другим свободным человеком; кровная месть ограничена лишь двумя поколениями родственников, их круг сужен близкой степенью родства с убитым; при отказе от кровной мести закреплена выплата денежного штрафа в пользу князя – вира. Уже в XI в. три сына князя Ярослава Владимировича в утвержденной ими Правде полностью упразднили кровную месть, заменив эту традицию выкупными платежами (откупами). С этого времени они (вира, полувирье, повальная (дикая) вира, продажи, головничество, уроки) полностью вытеснили обычай кровной мести на уровне закона (в это же время на уровне договоров отдельных княжеств с соседними народами (Смоленская торговая правда 1229 г. и др.) также стали использоваться штрафные платежи).
Ввиду того, что кровная месть и ограничивающий ее субъективизм и безмерность закон талиона – это не одно и то же, а отличающиеся друг от друга социально-правовые институты, нельзя признать верным некогда звучавшее в научной литературе мнение о том, что в Русской Правде пока еще сохранялись рудиментарные элементы традиции, связанные с ветхозаветным правилом талиона. Ни в юридической практике и обыкновениях жителей Киевской Руси, ни в тексте Русской Правды (многие положения которой под угрозой штрафа часто прямо запрещают какие-либо физические наказания) и иных нормативных актах периода ее использования (она сохраняла свое значение вплоть до XVI в.) правило талиона не встречается: принцип талиона появляется лишь в крупном российском законодательном сборнике середины XVII в. – в Соборном уложении 1649 г., которое, как справедливо отмечают А.Г. Федотов и Э.В. Никитина, «за телесное повреждение предписывало отплачивать преступнику тем же: „Отсечет руку или ногу, или нос, или ухо, или губы отрежет, или глаз выколет… самому ему то же учинить“» (Fedotov & Nikitina, 2020:158).
Примечательные выводы в отношении ограничения кровной мести Ярославом I Владимировичем и ее полной отмены его сыновьями содержатся в глубоком научном исследовании Русской Правды А.Н. Попова: он называет их первой и, соответственно, второй ступенью перехода «от частных понятий о преступлениях и наказаниях к государственным» (Popov, 1841:122–123). Несомненен тот факт, что зафиксированный этим автором двухступенчатый переход – одно из убедительных доказательств значения ставшего основой русского писаного права первого отечественного систематизированного юридического источника – Русской Правды – в утверждении и укреплении государственных начал в уголовном праве Древней Руси.
В отличие от других древнерусских источников права, в которых упоминается «поле» – судебный поединок (Смоленская торговая правда 1229 г., Псковская судная грамота 1397–1467 гг. и др.), текст Русской Правды не содержит никаких упоминаний об этом институте; думается, что это связано с влиянием на ее составителей не столько византийской правовой традиции, о большой роли которой писали многие ученые, в частности, Д.И. Голенищев-Кутузов (Илимский) (Golenishchev-Kutuzov (Ilimsky), 1913:16–17), сколько с позицией также пришедшей из Византии православной церкви, представители которой выступали против такого способа разрешения общественных конфликтов (одним из примеров этому является послание в Великий Новгород митрополита Киевского и всея Руси Фотия, в котором строго запрещается хоронить убитого на поле и говорится о том, что убийца человека на поле этим поступком губит свою душу[7]).
Следует отметить, что влияние византийского права на древнерусскую правовую доктрину было довольно значимым, однако оно не было настолько важным и определяющим, чтобы имелись веские основания говорить о такой его рецепции, какая произошла с римским правом в ряде государств Западной Европы. В отличие от светского византийского уголовного права, воздействовавшего на древнерусское законодательство при его формировании, изменении и дополнении, церковное право Византии играло гораздо большую роль в общественно-правовой жизни обращенной в православие Руси, так как его источники переводились с греческого и применялись напрямую, без видоизменения и существенной переработки. В данной связи у древнерусских переводчиков и переписчиков возникали определенные трудности, так как в древнерусском языке того периода не существовало как аналогов, так и слов для перевода многих юридических терминов, категорий и конструкций, которыми были наполнены византийские акты правового характера, в частности, Номоканон, первый текст которого считается составленным известным канонистом православной церкви – константинопольским патриархом Иоанном III Схоластиком.
Специфическим уголовным наказанием, вызывавшим разночтения и трудности в понимании и интерпретации у многих российских исследователей (Lange, 1860:125, 195), была такая упоминаемая в Пространной редакции Русской Правды (статьи 7, 35 и 83) и применявшаяся за наиболее тяжкие преступления (поджог, конокрадство, разбой и пр.) мера юридической ответственности, как «поток и разграбление». С.В. Юшков, указывая на комплексный характер этого уголовного наказания, считал, что «поток» представляет собой лишение личных прав, а «разграбление» – имущественных прав преступника (Yushkov, 1949:491). Представляется, что содержание этого вида уголовного наказания в Древней Руси не было постоянным и со временем изменялось: от изгнания либо ссылки преступника с его женой и детьми и «разграбления» его имущества до обращения виновного в рабство (холопство) или его казни и конфискации всего его имущества. Немаловажным, на наш взгляд, является то обстоятельство, что социальное происхождение правонарушителя для назначения такого вида уголовного наказания в большинстве случаев не имело никакого значения: так, в Новгородской Руси потоку и разграблению могла подвергаться собственность бояр и даже посадников, которые избирались на Новгородчине из наиболее знатных боярских семей. Эта разновидность древнерусского уголовного наказания интересна еще и тем, что она по сути выступает предтечей, прообразом таких институтов, как конфискация имущества и поражение в правах.
Социально-политическая динамика, выражавшаяся в усилении процессов феодализации, формировании строгой и иерархической классовой структуры и необходимости правовой защиты новых форм собственности и сословных привилегий, усилила степень репрессивности уголовного наказания, что начинает отчетливо прослеживаться уже в эпоху Удельной Руси (феодальной раздробленности) XII–XVI вв. Несмотря на то, что действовавшая в ставшем независимым в 1348 г. Псковском княжестве Псковская судная грамота 1397–1467 гг. заметно сужала область применения смертной казни, не раскрывала способы ее осуществления и не предусматривала телесные наказания, анализ псковских летописей позволил зафиксировать использование в Псковском господарстве (Псковской феодальной республике) бичевания, избиения и истязания пойманных преступников, смертной казни в форме сожжения заживо, повешения, отсечения головы («усечения») и сделать выводы о довольно активном использовании в пенитенциарной практике Псковской земли квалифицированной смертной казни (сожжения заживо и др.), а на основании глубокого изучения летописных текстов Северо-Западной Руси XI–XIII вв. удалось установить факты применения на ее территории таких видов уголовного наказания, как ослепление и урезание носа (Ospennikov, 2009:116).
Перед заключением
Поступательное общественное развитие в удельный период привело к отходу в русских княжествах от принципа коллективной ответственности в пользу индивидуальной (личной) ответственности при определении формы уголовного наказания за тяжкие преступления, включая убийство: в частности, в отличие от Русской Правды, как в Псковской судной грамоте 1397–1467 гг., так и в Новогородской судной грамоте 1471 г.[8] уже не используется институт дикой (или повальной) виры, в чем Ю.Г. Алексеев небезосновательно видел стремление русского законодателя выделить, отгородить убийцу от общины и не допустить проявления круговой поруки и общинной взаимопомощи (Alekseev, 1980:60). Эти законодательные изменения и новации свидетельствуют не только о постепенном обособлении индивида от общины, но и прогрессивном развитии юридических представлений о личной вине и юридической ответственности личности в древнерусском уголовном праве.
Уголовное наказание к окончанию процесса реинтеграции и объединения разрозненных княжеств вокруг Москвы (собирания русских земель) и создания новой структуры централизованного государственного аппарата в самом Московском государстве преследовало прежде всего цель возмездия, восстановления нарушенного преступлением порядка. Однако в это же время, вследствие изменений (на них влияла и социальная борьба – Восстание Болотникова 1606–1607 гг., Соляной бунт 1648 г., Медный бунт 1662 г. и др.) приоритетов и вектора уголовной политики, диктовавшихся общим социально-политическим курсом на сосредоточение верховной власти в руках одного единовластного правителя, эта цель стала дополняться и отчасти замещаться другой целью – целью устрашения, основным юридическим «маркером» преследования которой выступает намеренное несоответствие уголовного наказания тяжести преступления. Кодификации тех лет – Судебник Ивана III 1497 г., Судебник Ивана IV Грозного 1550 г., Боярский приговор о станичной и сторожевой службе 1571 г., Судебник Федора I Ивановича 1589 г. и др. – были составлены именно на основе такого пенологического подхода, поэтому они, строго запрещая какие-либо внесудебные расправы, часто упоминали как телесные наказания, так и смертную казнь («живота не дати, казнити смертною казнью»), которая приводилась в исполнение путем отсечения головы, повешения и утопления; предусматривали тюремное заключение (ст. 6 Судебника 1550 г.), в том числе пожизненное; нормативно закрепляли применение пыток, причем не только к обвиняемым, но и к свидетелям; устанавливали такие новые виды уголовного наказания, как «торговая казнь», которая заключалась в публичной порке кнутом, причем без фиксации в законе числа ударов, определявшегося судом применительно к каждому конкретному случаю, «опала» и «великая опала» – по сути любая санкция на усмотрение государя.
В этих законодательных актах телеологические основы уголовного наказания меняются вместе с представлениями о преступлении, под которым понимается уже не частная «обида», как в Русской Правде, а общественное «лихое дело», то есть посягательство на правопорядок, охраняемый государем. Среди них особый интерес для пенологов представляют Уставная грамота Переславского уезда Царских подклетных сел крестьянам 29 апреля 1556 г. и Указ Ивана IV Грозного о суде над государственными преступниками 12 марта 1582 г., так как в них впервые в России на законодательном уровне были закреплены такие разновидности изгнания, как высылка (удаление из места жительства с правом выбора места проживания, кроме строго определенных мест) и ссылка (удаление из места жительства без права выбора места проживания, с размещением в определенной местности).
Тенденция увеличения репрессивного заряда уголовного наказания с целью устрашения населения отчетливо прослеживается в систематизированной и объемной кодификации XVII в. – Соборном уложении 1649 г. (Уложении царя Алексея Михайловича), текст которого включал в себя как квалифицированные виды смертной казни, так не встречающееся до этого в России ни в одном официальном документе правило талиона в его классической форме. Принцип талиона использовался при лжесвидетельстве или «навете» (ложном обвинении) – преступники подлежали точно такому же уголовному наказанию, которое грозило ложно оговоренному, а также применялся в его опосредованной форме за убийство знатным человеком чужого крестьянина (убийца должен был отдать хозяину убитого крестьянина своего крестьянина вместе с женой и детьми) и в символическом виде за фальшивомонетничество (залитие в горло расплавленного металла) и поджог (сожжение заживо (через пять лет это наказание было заменено повешением))[9].
Заключение
Несмотря на то, что в тексте Соборного уложения 1649 г. не было закреплено клеймение преступников, следует признать, что задачи данного института в нем ставились и достигались предписанием отрезать уши: так, за первую кражу дополнительным наказанием выступало отрезание левого уха, за вторую – правого уха, а изобличенный вор, у которого уже были отрезаны оба уха, приговаривался к смерти.
Представляется возможным обозначить следующие специфические особенности системы уголовных наказаний по Соборному уложению 1649 г.: примат нацеленности законодательства на генеральную превенцию, который объясняет факультативное, второстепенное значение такого вида наказания, как лишение свободы, различение объема уголовной ответственности за сознательные (умышленные) и неумышленные преступные акты, личный характер наказания (отход от распространенного ранее принципа коллективной ответственности), кумулятивный характер (установление законодателем нескольких (основных и дополнительных) видов уголовного наказания за одно конкретное преступление), наличие абсолютно-неопределенных (т.н. неконкретизированных, безусловно-неопределенных) наказаний в большом числе статей и избирательный в социальном отношении, классовый (сословный) подход при определении конкретного вида и объема наказания. Важность этого нормативного акта применительно к институту уголовного наказания состоит в том, что с принятием Соборного уложения 1649 г. в отечественном уголовном праве окончательно сформировался законодательный контур системы уголовных наказаний, доведенный впоследствии до уровня «лестницы наказаний».
1 Постановление ВЦИК «О дополнении Уголовного кодекса РСФСР главой X «О преступлениях, составляющих пережитки родового быта», примечанием 2 статьи 66 Земельного кодекса РСФСР, примечанием к статье 11 и примечанием 3 к статье 26 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР» от 6 апреля 1928 г.
2 Уголовный кодекс РСФСР от 22 ноября 1926 г. // Уголовный кодекс РСФСР. М., 1957. С. 26.
3 Церковный устав Ярослава XI–XII вв. // Устав князя Ярослава о церковных судах / Древнерусские княжеские уставы XI—XV вв. / отв. ред. Л.В. Черепнин. М., 1976. С. 85-103.
4 Закон судный людем IX в. // Закон Cудный людем краткой редакции / под ред. М.Н. Тихомирова. М., 1961. С. 51.
5 Церковный устав Владимира X–XI вв. // Устав князя Владимира о десятинах, судах и людях церковных / Древнерусские княжеские уставы XI–XV вв. / отв. ред. Л.В. Черепнин. М., 1976. С. 45.
6 Русская Правда // Правда Русская. Том 1: Тексты / под ред. Б.Д. Грекова. М., Л., 1940. С. 28.
7 Послание митрополита Фотия в Новогород о соблюдении законоположений церковных 29 августа 1410 г. // Памятники древнерусского канонического права. Часть 1: Памятники XI–XV вв. / под ред. А.С. Павлова. СПб., 1908. С. 39.
8 Псковская судная грамота 1397–1467 гг. / Псковская Судная грамота // Российское законодательство X–XX веков: в 9 т. Т. 1: Законодательство Древней Руси / под ред. О.И. Чистякова. М., 1984, Новгородская судная грамота 1471 г. / Новгородская Судная грамота // Российское законодательство X–XX веков: в в 9 т. Т. 1: Законодательство Древней Руси / Под ред. О.И. Чистякова. М., 1984.
9 Соборное уложение 1649 г. // Соборное уложение 1649 года: текст, комментарии / рук. авт. колл. А.Г. Маньков. Л., 1987. С. 47.
About the authors
Konstantin V. Korsakov
Institute of Philosophy and Law of the Ural Branch Russian Academy of Sciences
Author for correspondence.
Email: korsakovekb@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0002-2967-9884
SPIN-code: 4007-2009
Candidate of Legal Science, Associate Professor, Senior Researcher of the Department of Law
16 Sofia Kovalevskaya str., Yekaterinburg, 620108, Russian FederationReferences
- Alekseev, Y.G. (1980) Pskov Court Charter and its Time: The Development of Feudal Relations in Russia of the XIV-XV Centuries. Leningrad, Nauka Publ. (in Russian).
- David, R. (1988) Basic Legal Systems of Modernity. Moscow, Progress. (in Russian).
- Evers, I.F.G. (1835) The Most Ancient Russian law in its Historical Disclosure. Saint Petersburg, Headquarters of the Separate Corps of the Internal Guard Publ. (in Russian).
- Fedotov, A.G. & Nikitina, E.V. (2020) The Place and Role of the Talion Principle in the Russian Criminal Law Doctrine. Bulletin of the Russian University of Cooperation. (1), 157-162. (in Russian).
- Golenishchev-Kutuzov (Ilimsky), D.I. (1913) «Russian Law» and Byzantium: The Experience of a Historical and Legal Monograph. Irkutsk, Partnerships M.P. Okunev and Co Publ. (in Russian).
- Khachatryan, A.V. (2010) The Problem of Revenge in Ancient Russian law. Vector of Science of Tolyatti State University. (1), 157-160. (in Russian).
- Kostromin, K.A. (2018) The Legal Application of the «Law of Judgment by People» in Kievan Rus. Christian Reading. (4), 113-123. (in Russian).
- Kozachenko, I.Y., Korsakov, K.V. & Leshchenko, V.G. (2012) Church-Religious Influence on Persons Sentenced to Imprisonment. Hamburg, Lambert Academic Publishing. (in Russian).
- Lange, N.I. (1860) A Study on the Criminal Law of the Russian Law. Saint Petersburg, The Second department of His Imperial Majesty's Own Chancellery. (in Russian).
- Lotman, Y.M. (1992) Selected Articles: in 3 Vols. Vol. 1: Articles on Semiotics and Topology of Culture. Tallinn, Alexandra Publ. (in Russian).
- Novak, M.V. & Goryainova, A. S. (2019) The history of punishment for criminal offenses in Russia. Nauka. Art. Culture. (2), 155-158. (in Russian).
- Ogorelkov, D.A. (2024) Punishments in the Russian-Byzantine Тreaties of 911 and 944. Bulletin of the Ufa Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. (1), 10-18. (in Russian).
- Ospennikov, Y.V. (2009) The Evolution of the Punishment System According to the Russian Chronicles of the XI-XIII Centuries. Law and State: Theory and Practice. (8), 113-116. (in Russian).
- Pogodin, M.P. (1846) Studies, Remarks and Lectures by M. Pogodin on Russian History. Vol. 3: The Norman Period. Moscow, Imperial Moscow Society of Russian History and Antiquities. (in Russian).
- Popov, A.N. (1841) Russian Law in Relation to Criminal Law. Reasoning for a Master’s Degree, Candidate of the Moscow University of Alexander Popov. Moscow, University Printing House. (in Russian).
- Post, A.H. (1811) Bausteine für eine Allgemeine Rechtswissenschaft auf VergleichendEthnologischer Basis. Oldenburg, Schulzesche Hof-Buchhandlung und Hof-Buchdruckerei. C. Berndt & A. Schwartz.
- Radin, I.M. (1910) History of Russian law. Periods: Ancient, Moscow and Imperial: the Manual was Compiled According to the Program of the Imperial Saint Petersburg University. Saint Petersburg, I. Lurie and Co Publ. (in Russian).
- Ragimov, I.M. (2018) The fundamentals of morality of punishment: customs and traditions. Legal Sciences and Education. (56), 231-246. https://doi.org/10.25108/2304-1730-1749.iolr.2018.56.231-261 (in Russian).
- Sorokin, P.A. (2011) Remnants of Animism Among the Zyryans. Heritage. (1). 23-24. (in Russian).
- Stupin, M.N. (1887) The History of Corporal Punishment in Russia from the Judicial Codes to the Present. Vladikavkaz, Tersk Regional Government Publ. (in Russian).
- Yushkov, S.V. (1949) Socio-Political System and Law of the Kievan State. Moscow, Gosyurizdat Publ. (in Russian).
- Zyubanov, Y.A. (2007) Christian foundations of the Criminal Code of the Russian Federation: Comparative Analysis of the Norms of the Criminal Code of the Russian Federation and the Holy Scriptures. Moscow, Justina, Prospekt Publ. (in Russian).
Supplementary files