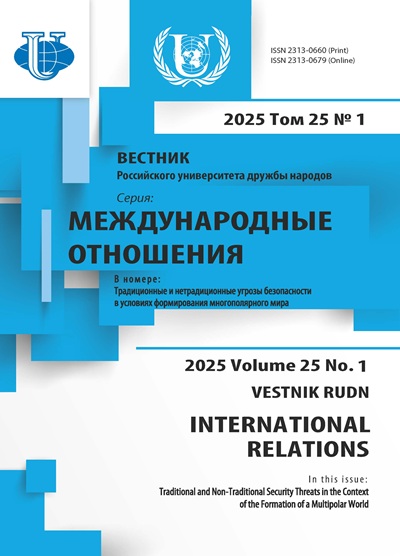США - КНР: «властный транзит» и контуры «конфликтной биполярности»
- Авторы: Дегтерев Д.А.1, Рамич М.С.1, Цвык А.В.2
-
Учреждения:
- Российский университет дружбы народов
- МИД России
- Выпуск: Том 21, № 2 (2021): Нарастающее стратегическое соперничество между США и КНР и трансформация глобального миропорядка
- Страницы: 210-231
- Раздел: ТЕМАТИЧЕСКОЕ ДОСЬЕ
- URL: https://journals.rudn.ru/international-relations/article/view/26772
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-0660-2021-21-2-210-231
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Феномен глобальной конкуренции КНР и США с точки зрения теории «властного транзита» (Power transition theory) обладает научной новизной и актуальностью в свете повышенного внимания к так называемой «ловушке Фукидида», в которой, по мнению ряда экспертов, оказались оба государства. Авторы предлагают свое видение глобальной конкуренции за лидерство в формировании нового мирового порядка. Эта конкуренция уже приняла форму открытого несилового противостояния и проявляется в рамках технологической и торговой войн, соперничества в научной и культурной сферах. Несмотря на несиловой характер противостояния, этот процесс сопровождается наращиванием военной мощи государств, которая в основном проецируется в бассейны Тихого и Индийского океанов (Индо-Тихоокеанский регион, ИТР). Методологической основой работы являются положения теории «властного транзита», которую на протяжении последних 60 лет развивают А.Ф. Органски, Я. Куглер, Д. Лемке, Р. Таммен и другие исследователи, объединенные в «ТрансРисэрч Консорциум». По мнению авторов статьи, аналитическая призма данной школы более релевантна для анализа текущей международной конкуренции, нежели классические неореалистские подходы баланса сил. Через призму теории анализируются вопросы ребалансировки глобальной системы экономического управления. Проводится сравнительный анализ американо-японской и американо-китайской торговых и технологических войн. Исследуется военный, а также совокупный потенциал двух стран в целом и ИТР в частности. Приводятся выводы и комментарии о влиянии конкуренции КНР и США на систему международных отношений.
Полный текст
Введение
Проблема нарастающей конкуренции между США и КНР привлекает все больше внимания как российских, так и зарубежных исследователей. Однако, как правило, речь идет лишь о свертывании сотрудничества (decoupling) в отдельных сферах, что не позволяет увидеть глубинные причины нарастающих противоречий и, по сути, перехода к «новой биполярности» (США — КНР) [Degterev 2019]. В среднесрочной перспективе отношения двух сверхдержав будут носить конфронтационный характер, по-видимому, до перехода к «новой разрядке» [Богатуров 2003].
Среди российских исследователей всю глубину американо-китайских противоречий вскрывает, пожалуй, лишь А.В. Ломанов, затрагивающий макроисторический характер данной проблемы [Ломанов 2021]. По инерции восприятие современной системы продолжается в терминах предыдущей биполярности [Шаклеина 2018] в надежде на новую «перезагрузку»1. Между тем США уже вышли из всех основных соглашений времен холодной войны2, демонтировав «каркас» предыдущей системы стратегической стабильности. Более того, комплексное сопоставление показателей говорит о лидерстве «дуумвирата» США — КНР в большинстве сфер, кроме, пожалуй, военной, дипломатической и мягкосиловой [Дегтерев 2020]. Анализ геополитических изменений в контексте стратегического треугольника Россия — США — КНР, ставший особенно популярным в последние годы [Бадрутдинова, Дегтерев, Степанова 2017; Логика новой мироустроительной архитектоники и стратегии держав 2021: 231—250; Морозов 2020; Худайкулова 2020] лишь отчасти помогает преодолеть проблему релевантности аналитического инструментария.
Методология исследования
Масштаб происходящих изменений требует более активно задействовать весь «арсенал» теорий международных отношений (ТМО). Неслучайно в 2021 г. в России вышло сразу три знаковых монографии по анализу баланса (соотношения) сил на мировой арене [Логика новой мироустроительной архитектоники и стратегии держав 2021; Баланс сил в ключевых регионах мира 2021; Тренин 2021] — это серьезный всплеск интереса к проблематике после публикации еще в 1993 г. монографии Э.А. Позднякова [1993]. Несмотря на подавляющее доминирование реалистского дискурса в российской науке, а также его преобладание в США для анализа конкуренции США — КНР, по мнению авторов, более релевантной аналитической рамкой для изучения данной темы является теория «властного транзита» (Power transition theory).
Сформированная более полувека назад А.Ф.К. Органски [Organski 1958] и продолженная в качестве научной традиции группой авторов (Я. Куглер, Д. Лемке, Р. Таммен и др.), объединенных в «ТрансРисэрч Консорциум»3, теория объясняет механизмы смены глобального лидерства в мировой системе (в данном случае — от США к КНР) и связанные с этим процессы.
Индикатором начала периода «властного транзита» считается достижение претендентом на мировое лидерство около 80 % «силы» доминирующей нации [Organski, Kugler 1980: 44]. Существуют разные подходы к оценке мощи (подробнее об этом ниже), но, например, по абсолютному размеру ВВП по паритету покупательной способности (ППС) КНР обошла США еще в 2014 г. [Логика новой мироустроительной архитектоники и стратегии держав 2021: 173]. По мнению идеолога китайского триумфализма Ху Аньгана, еще в 2013 г. КНР обогнала США и по совокупной мощи [Лукин 2019]. Безусловно, последнее утверждение явно спекулятивно, так как лидерство США, по крайней мере, в технологической и военной сферах еще сохраняется, однако в любом случае в 2010—2020 гг. начался период «властного транзита», который завершится после того, как мощь КНР достигнет 120 % от американской (рис. 1).
Соотношение сил 4:5 или 5:6 между ревизионистом и доминирующей нацией представляет собой наиболее опасный момент для начала войны между ними [Tammen 2000: 31]. При этом, согласно эмпирическим исследованиям создателей теории (на основе анализа 32 кейсов), при паритете мощи между двумя сильнейшими нациями война происходит лишь в 18,8 % случаев, а мир сохраняется в остальных 81,3 % [Organski, Kugler 1980: 50].
Рис. 1. Графическая интерпретация теории «властного транзита»
Источник: составлено авторами на основе [The Oxford Encyclopedia… 2018].
Вероятность конфликта увеличивается, если восходящая держава не удовлетворена существующим порядком дел. Доминирующая нация может начать превентивную войну, не дожидаясь, пока восходящая держава обойдет ее по мощи. Однако при этом следует учитывать «фактор Феникса» — даже лежащая в руинах страна может практически полностью восстановиться за 20 лет, после чего ее сложно будет удержать от реванша [Organski, Kugler 1980: 142—144].
В 2017 г. положения теории «властного транзита» абсолютизировал (из вероятностных превратил в детерминистские) и облек в более простую форму, понятную как для лиц, принимающих решения, так и обывателей, Г. Аллисон в своей работе «Обречены воевать». На примере анализа 16 двусторонних (диадных) противостояний в процессе «властного транзита» он делает вывод о неизбежности «ловушки Фукидида» — исторической аналогии Пелопоннесской войны между усиливающимися Афинами (Делосский союз) и Спартой (Пелопоннесский союз), описанной древнегреческим историком Фукидидом [Allison 2017].
Практически полное отсутствие в российской науке дискурса теории «властного транзита» можно объяснить продолжающейся инерцией «биполярного мышления» времен холодной войны, а также «выборочным заимствованием» положений современной западной ТМО. В наиболее фундированной русскоязычной монографии [Истомин 2021: 103—104], описывающей логику международного поведения государств, теории «властного транзита» уделяется лишь несколько абзацев7. Статическая версия теории — иерархия мировой системы во главе с конкурирующими за лидерство США и КНР (супердержавами, и только одна из них в итоге должна взять верх), вслед за которыми идут великие державы (Россия, Великобритания, Франция, ФРГ и Япония) и остальной мир, — ломает льстящие самолюбию россиян стереотипы «сверхдержавности». Динамическая версия теории — неизбежный переход лидерства к КНР — ставит под вопрос обоснованность «евроатлантического разворота» России в 1990-е гг. Между тем иллюзии во внешнеполитическом восприятии приводят к неверным оценкам (т. н. misperceptions) стратегических альтернатив, цена которых может быть чрезвычайно высокой [Jervis 1976].
В КНР в надежде на продолжение «мирного возвышения» дискурс «властного транзита» и «ловушки Фукидида» максимально нивелируется [Ломанов 2020]. Вопрос меньшей влиятельности интеллектуальной традиции «ТрансРисэрч Консорциума» (западное побережье США) по сравнению с балансом сил — подходом «святой троицы» реалистов (Г. Моргентау — К. Уолтц — Дж. Миршаймер, двое из которых — представители Чикагской школы) — требует отдельного изучения и, по всей видимости, связан с особенностями лоббирования интересов различных групп в политико-академическом сообществе США, приводящем к так называемому «кризису призвания» во внешнеполитической экспертизе [Сушенцов, Павлов 2021].
Авторы исследования не считают, что теория «властного транзита» безупречна. Более того, она изначально носит вероятностный, а не детерминированный характер. Очень подробно основные ее недостатки в своей статье в рамках данного номера «Вестника Российского университета дружбы народов» освещает, пожалуй, самый известный ее критик С. Чан, что избавляет нас от необходимости повторять блестящие аргументы мастера своего дела.
Помимо теории «властного транзита» для анализа соперничества США—КНР в макроперспективе можно использовать и ряд других концепций, например теорию длинных циклов Дж. Модельски и У. Томпсона, теорию неравенства властных предпочтений Р. Пауэлла, работы Дж. Айкенберри и др., однако это предмет отдельного исследования.
Большинство международного академического (а под влиянием статьи Г. Аллисона — и политико-академического) сообщества существует в смысловом поле «властного транзита» и «ловушки Фукидида»8. При этом часть исследователей выражают солидарность с данными подходами, считая, что конфликт между США и Китаем неизбежен или уже начался [Tellis 2013; Bergsten 2018; Johnston 2019; Han, Paul 2020; Wang 2019; Wyne 2020; Mastro 2019; Yoder 2019; Goldstein 2020] и мир может стать еще более анархичным [Xuetong 2020; Wang, Sun 2020; Layne 2020]; другие уверены в том, что «новая биполярность» не приведет к открытому противостоянию [Xuetong, Qi 2012; Wu 2020]. Верна или нет данная теория (склоняемся к первой точке зрения), но она плотно владеет умами лиц, принимающих решения, и поэтому носит характер «самосбывающегося пророчества».
Согласно положениям теории «властного транзита» в статье анализируется неудовлетворенность стран существующим статус-кво, который в экономической сфере структурируют институты Бреттон-Вудса. После этого исследуется конкуренция США и КНР в торговой, технологической и военной сферах.
«Транзит» глобального управления через «аккомодацию»
Ключевым элементом «властного транзита» является недовольство значительной части великих, средних и малых держав сложившимся статусом-кво. Доминирующая нация и ее союзники («коалиция большинства») при этом структурируют международную систему в своих интересах (рис. 2).
Система глобального управления во главе с США при участии западных стран в целом была сформирована после Второй мировой войны и включает Институты Бреттон-Вудса (Международный валютный фонд (МВФ), Группу Всемирного банка, региональные банки развития), Всемирную торговую организацию (ВТО), Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Международное энергетическое агентство (МЭА) [Дегтерев 2016]. Каждая из этих организаций изначально была создана по «эскизам» США и их союзников, и поэтому их доминирование в этих структурах вполне естественно. Это наглядное проявление так называемой «структурной власти», о которой писала основоположница международной политэкономии С. Стрэндж. Данная власть включает в себя контроль над механизмами безопасности, кредитно-финансовой сферой, экономическим производством, а также созданием и распространением знаний [Strange 1988].
Рис. 2. Удовлетворенность статусом-кво в мировой иерархии
Источник: составлено авторами на основе [The Oxford Encyclopedia… 2018].
В рамках стратегии аккомодации и «мирного возвышения» КНР вступила в Институты Бреттон-Вудса в 1980 г., Азиатский банк развития — в 1986 г., Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) — в 2016 г. [Логика новой мироустроительной архитектоники и стратегии держав 2021: 172—173], после 15 лет переговоров — в ВТО (2001 г.), открыв свою экономику для мировых ТНК, встроилась в западную систему распространения знаний (Scopus, WoS), хотя и развивает собственную (CNKI9). Казалось, что КНР — одна из тех великих держав, кто вполне удовлетворен статусом-кво. Еще чуть-чуть, и «социализм превратится в Китае в декоративную вывеску над величественным зданием рыночной экономики», а «выросший в эпоху реформ китайский средний класс спустит обветшалое красное знамя, отказавшись от однопартийной власти КПК в пользу либеральной системы» [Ломанов 2021].
Ряд аналитиков даже выражали робкую надежду на возможность социализации КНР — данный дискурс под влиянием «конструктивистского поворота в ТМО» затронул в середине 1990-х гг. и сторонников теории «властного транзита». Под социализацией понималось воздействие на умы населения восходящей державы, с тем чтобы она искренне считала поддержание статуса-кво в системе исключительно частью собственных интересов. Казалось, обширные американо-китайские гуманитарные связи (обмены студентами, туристами, бизнесменами) этому максимально способствовали [Бадрутдинова, Дегтерев, Степанова 2017: 98—101]. В контексте курса КНР на жесткое обеспечение информационного суверенитета данные размышления выглядят наивными.
Администрация Б. Обамы в рамках стратегии «вовлечения» предприняла, например, попытку сформировать формат G2 для встраивания КНР в американоцентричный мир. Один из сторонников данного подхода, американский экономист К.Ф. Бергстен, отмечал необходимость создания диалогового формата между США, лидером среди развитых стран, и КНР, лидером среди развивающихся стран, для более эффективного управления мировыми экономическими процессами10.
В 2015 г. Исполнительный совет МВФ принял решение о включении юаня в состав корзины валют специальных прав заимствования (СПЗ, или СДР), а Конгресс США наконец ратифицировал 14-й пересмотр квот МВФ [Дегтерев 2016: 83]. Планировалось, что данные меры позволят удержать «коалицию недовольных» из числа развивающихся стран во главе с КНР от попыток ревизии мировой системы, создав для Пекина возможности упрочить свое лидерство в реалиях нового мирового порядка [Bergsten, Freeman, Lardy, Mitchell 2008: 25].
Уже в 2018 г., после неудачи с созданием G2 и начавшейся вскоре торговой войны, Ф. Бергстен признал реалии «ловушки Фукидида» и выдвинул новые сценарии развития мирового порядка:
- G0 — мир, где США уже утратили свое лидерство, а Китай не смог или не захотел взять на себя роль глобального лидера;
- G1 — мир, где рано или поздно единственным лидером останется Китай;
- G2 — мир, где США и КНР договорились о сотрудничестве либо временно приостановили конкуренцию для пролонгации периода транзита власти [Bergsten 2018].
Фактически это стало началом периода «властного транзита».
Со стороны Китая признание формата G2 стало бы открытой претензией на мировое лидерство, что противоречит одному из основных принципов китайской внешней политики, который был заложен еще при Дэн Сяопине: Китай не будет претендовать на гегемонию и стремиться занять место лидера11.
В качестве ответа на идею создания G2 Си Цзиньпин предложил концепцию взаимовыгодных «отношений между великими державами нового типа» для развития сотрудничества и ухода от конфликтных ситуаций12. В то же время Китай не был полностью удовлетворен существующим мировым порядком, поэтому, с одной стороны, он выдвигал взаимовыгодные форматы сотрудничества, такие как «Один пояс, один путь», а с другой — проводил жесткую политику в Южно-Китайском море в отношении спорных территорий [Mastro 2019: 32].
Из страны, безропотно принимающей все международные нормы (rule-taker), к 2010 г. Китай превратился в страну, которая уже оказывает влияние на содержание данных норм (rule-changer) и, более того, к 2020 г. постепенно стал страной, формирующей международные нормы (rule-maker), особенно в ИТ-сфере. Если ранее в рамках своей «мягкой силы» и концепции Ван Хунина Китай продвигал исключительно культуру и образование, то в последние годы он перешел к трансляции своей «дискурсивной силы», то есть новых смыслов, норм и стандартов [Денисов 2020].
Интерес КНР к изменению мирового порядка подтверждается увеличением научных исследований по данной теме. С 2010 г. в китайской наукометрической базе CNKI росло число научных публикаций, содержащих в названии словосочетание «мировой/глобальный порядок», при этом наибольшее количество статей было опубликовано в 2016 г. [Chen, Zhang 2020: 3—4]. Данные статьи исследовали природу понимания мирового порядка на Западе (преимущественно в США) и в КНР, предлагая конкретные варианты развития китайской внешней политики, дипломатии и подходов к глобальному управлению [Chen, Zhang 2020].
Перед китайским руководством и теоретиками внешней политики возникла необходимость обеспечить теоретическую основу для новых понятий, таких как «мирный подъем Китая», «гармоничный мир» и т. д., которые вошли в политический дискурс вместе с возвышением Китая [Грачиков 2021: 73] и концепцией «общего будущего человечества» как новой модели мироустройства [Семенов, Цвык 2019: 72].
В сфере глобального экономического управления примером продвижения китаецентричных международных институтов и правил стало создание в 2013 г. Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) с долей КНР в уставном капитале в размере 30,8 %, а при голосовании — в 26,6 %, штаб-квартирой в Пекине [Логика новой мироустроительной архитектоники и стратегии держав 2021: 181—189]. Фактически АБИИ становится азиецентричной альтернативой институтам Бреттон-Вудса, ведь на региональных членов банка приходится около 75 % капитала в отличие от доминирования США и их европейских союзников в МВФ. К АБИИ присоединились пять из семи членов «Группы семи», 15 из 19 членов «Группы двадцати» (ЮАР — потенциальный член), 26 из 37 членов ОЭСР и 41 из 60 членов Банка международных расчетов (рис. 3). То есть страны, формирующие ядро мировой экономики, уже вошли в состав китаецентричного международного института. Ожидается, что в ближайшее время общее количество членов организации превысит 100, так как к 86 уже вступившим присоединятся еще 17 потенциальных членов13.
Рис. 3. Институты глобального экономического управления во главе с США и КНР
Источник: составлено авторами на основе [Дегтерев 2016: 91].
Пока КНР удается обеспечить максимально гладкий «транзит власти» в системе глобального экономического управления. В будущем возможно «перетекание» компетенций по управлению региональными инвестиционными проектами (вместе с основными сотрудниками) из системы Институтов Бреттон-Вудса в «матрицу» АБИИ по мере того, как доля данного банка в совместных инфраструктурных проектах, реализуемых с Институтами Бреттон-Вудса, будет постепенно возрастать. Данный процесс ускорится после реализации ряда практических шагов по интернационализации цифрового юаня.
Получилось с Японией, получится ли с Китаем?
Ведя мониторинг потенциальных претендентов на роль будущей сверхдержавы-ревизиониста, школа «властного транзита» изначально отдавала предпочтение экономическим и демографическим показателям, таким как численность населения, ВВП и ВВП на душу населения [Organski, Kugler 1980; Kugler, Organski 1989: 191]. Акцент на ВВП представители школы объясняют тем, что, имея необходимый доход, руководители стран сами могут выбрать оптимальную структуру его распределения (на оборону и безопасность, социальные расходы, развитие экономики и инфраструктуры и другие статьи) в зависимости от тех вызовов и угроз, которые стоят перед страной.
Рис. 4а. Доля от номинального ВВП США
в текущих долларах США, в %
Источник: World Development Indicators // World Bank. URL: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators (accessed: 02.02.2021).
Рис. 4б. Доля от номинального подушевого ВВП США в текущих долларах США, %
Источник: World Development Indicators // World Bank. URL: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators (accessed: 02.02.2021).
Рис. 4в. Доля от подушевого ВВП США по ППС в текущих международных долларах, %
Источник: World Development Indicators // World Bank. URL: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators (accessed: 02.02.2021).
Рис. 4г. Доля от ВВП США по ППС в текущих долларах США, %
Источник: World Development Indicators // World Bank. URL: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators (accessed: 02.02.2021).
На рис. 4а—4в показано, что за последние 50 лет из великих держав только Япония максимально приблизилась к показателям ВВП США как в абсолютных значениях, так и по подушевому доходу. Пика показатели подушевого ВВП Японии достигли в середине 1990-х гг., когда мир находился в «одно-полярном моменте» и никто не предполагал возможность «транзита власти». Однако когда в 1985 г. показатели Японии по подушевому ВВП максимально приблизились к критическим 80 %, началась торговая война между Японией и США.
В результате серии мероприятий, в том числе заключения соглашения в отеле «Плаза» в 1985 г., приведшего к ревальвации иены, и торговой войны против японской полупроводниковой сферы14, произошла «мягкая посадка» японской экономики, итогом которой стали несколько «потерянных десятилетий»15. Один из непосредственных участников тех событий, экономист П. Наварро, еще в 2006 г. написал о «китайской угрозе» книгу, которая в 2007 г. уже вышла на русском языке под названием «Грядущие войны Китая» [Наварро 2007]. Однако алармистские призывы П. Наварро сдерживать растущую мощь Китая были услышаны лишь… через 10 лет. В 2016 г. в администрации президента США Д. Трампа он стал идеологом торговой войны с Китаем, возглавил Национальный торговый совет, в 2017 г. преобразованный в Управление торговой и производственной политики.
Аналогичным образом уже к 2010 г. КНР достигла показателя в 81 % ВВП США по ППС (рис. 4г). Начались первые робкие попытки разрыва (decoupling) в отношениях США и КНР. Как отмечает американский исследователь Э. Теллис, в этот период США были вынуждены действовать тонко и аккуратно, чтобы меры по контрбалансированию КНР не сказались на стратегическом партнерстве между странами [Tellis 2013: 111]. Фактически именно администрация Б. Обамы (2009—2017 гг.) упустила время для нанесения по КНР превентивного невоенного удара в экономической и технологических сферах, «закрывая глаза» на всю противоречивость «уютного симбиоза» капиталистического Запада и социализма с китайской спецификой [Ломанов 2021]. То есть Китай по духу оказался для США… ближе Японии, превентивная торговая война с которой была начата just in time (точно в срок)16 в соответствии с положениями школы «властного транзита»!
Лишь после 2017 г. (то есть уже через три года после того, как ВВП КНР по ППС уже превысил ВВП США!) администрация Д. Трампа начала активно противодействовать китайской экспансии, вводя повышенные тарифы на китайский импорт, а также нанесла удар по китайской ИТ-сфере, ужесточив требования к закупкам китайского оборудования для государственного и коммерческого использования, а также ограничила инвестиции в китайские технологические компании [Friedberg, Boustany 2020: 25].
Хоть и с опозданием (уже не позволяющим классифицировать данное действие как превентивная война), но со стороны США была предпринята попытка активного противодействия основному конкуренту в экономической сфере, ранее успешно апробированная в торговой войне с Японией. Однако не связанная с США «крепкими узами» Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности17, а также практически 40-тысячным военным контингентом США [Дегтерев 2020: 96], КНР… вдруг начала отвечать.
Торговая война: Китай отвечает
По проблеме торговой войны США — КНР (2018—2021 гг.) написаны уже сотни статей, нет смысла повторять их основные выводы. Интересен замысел столь резких, хотя и запоздалых, действий США, ранее уже раскрытый в материалах данного издания [Виноградов, Салицкий, Семенова 2019; Suisheng, Guo 2019], в статьях французского исследователя Л. Эсташи [Estachy 2020], а также А.В. Ломанова [2021]. Все они подчеркивают, что это не простой торговый спор, а по сути «неконвенциональная» торговая война, ведущаяся вопреки всем правилам ВТО [Виноградов, Салицкий, Семенова 2019: 43], имеющая стратегическое значение и призванная остановить дальнейшую экспансию Китая как торговой сверхдержавы, подорвать сам источник силы «дракона» [Estachy 2020: 96]. Также отмечается чрезвычайная сложность ведения данной войны в условиях комплексной взаимозависимости между странами [Истомин 2018; Suisheng, Guo 2019].
Далее мы остановимся лишь на одном аспекте торгового противостояния, показав, что за каждым действием США следовала реакция со стороны КНР, что разительно отличает данный кейс от американо-японской торговой войны.
К началу торговой войны основную часть экспорта Китая в США составляли электроника (25 %) и различное оборудование (21,5 %) — продукты высокотехнологичного производства. Импорт из США данных категорий товаров составлял 12,7 и 11,8 % от общего импорта соответственно. В абсолютных значениях китайский экспорт электроники и оборудования значительно превосходил американский: электроника — 119 млрд долл. США против 19,7 млрд долл. США, оборудование — 103 млрд долл. США против 11,8 млрд долл. США18.
Аналогичная ситуация сложилась и в конце XX в. в рамках диады США — Япония. Япония кроме указанных категорий товаров активно экспортировала в США автомобили. Поэтому основной категорией товаров, на которые в 1980-х гг. были объявлены повышенные тарифы, стали именно автомобили. В случае с КНР первые тарифные ограничения были объявлены против солнечных панелей и стиральных машин (рис. 5). Поводом к началу торговой войны в обоих случаях послужили обвинения в нарушении прав в области интеллектуальной собственности.
Торговые войны США с Японией и Китаем были вызваны схожими тенденциями в области двусторонней торговли, а также начаты по единому сценарию, однако получили разное развитие. Япония в 1980-е гг. выбрала путь адаптации (аккомодации) к требованиям США, не принимая ответных мер (в какой-то степени подавив «инстинкт самосохранения»), и начала развивать свое производство в США и Южной Америке [Chong, Li 2019: 192]. В свою очередь, КНР в ответ на начало торговой войны выбрала путь симметричного конфликта, наложив ответные санкции на товары из США — как сельскохозяйственные, так и металлургические (см. рис. 5).
Разные подходы Японии и Китая были обусловлены несколькими факторами (вдобавок к уже обозначенным): в 1980-е гг. Япония уже была лидером в рамках нескольких отраслей высокотехнологичного производства, в то время как бóльшая часть китайского экспорта в настоящий момент — это товары с низкой добавочной стоимостью.
Япония была и остается главным союзником США в Восточной Азии, а КНР стала идеологическим соперником США [Chong, Li 2019]. Поэтому администрация Д. Трампа действовала довольно жестко, чтобы сохранить свое доминирующее положение на рынке товаров с высокой добавочной стоимостью и вынудить Китай продолжить специализироваться на экспорте товаров с низкой добавочной стоимостью [Yu, Zhang 2019], однако Китаю в целом удалось избежать негативных последствий посредством перехода к модели «двойной циркуляции» [Ломанов 2021].
Важным итогом торговой войны США — КНР стало постепенное снижение взаимозависимости посредством очевидного сокращения торгового оборота между двумя странами. В первую очередь, это произошло за счет уменьшения доли импорта товаров из КНР, так как экспорт американских товаров находится примерно на одном уровне уже 10 лет (рис. 6а). Аналогичным образом началось снижение торгового дефицита США за счет сокращения зависимости от китайских товаров (рис. 6б).
Помимо сокращения китайского экспорта в США снижается и доля вложений КНР в государственные облигации США. В 2008 г. Китай стал основным держателем государственных облигаций Соединенных Штатов, к 2015 г. китайский пакет составлял более 1,24 трлн долл. США, а к 2020 г. снизился до 1,06 трлн долл. США19.
Рис. 5. Хронология торговой войны КНР и США в 2018—2021 гг.
Источник: составлено авторами на основе: The US — China Trade War: A Timeline // China Briefing. August 25, 2020. URL: https://www.china-briefing.com/news/the-us-china-trade-war-a-timeline/ (accessed: 02.02.2021).
Примечание: цветом отмечены события, имеющие отношение к технологической сфере.
Рис. 6а. Торговля США — КНР в 2010—2020 гг., млрд долл. США
Источник: U.S. Census Bureau. URL: https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5700.html (accessed: 02.02.2021).
Рис. 6б. Торговый баланс США — КНР в 2010—2020 гг., млрд долл. США
Источник: U.S. Census Bureau. URL: https://www.census.gov/foreign-trade/balance/c5700.html (accessed: 02.02.2021).
Снижение товарооборота и взаимозависимости свидетельствуют о том, что КНР становится все менее уязвимой к санкционному давлению США, у которых остается все меньше рычагов для невоенного сдерживания новой супердержавы. Более того, в последние годы, по мере увеличения экономического потенциала КНР, активно развиваются и навыки китайской санкционной дипломатии [Логика новой мироустроительной архитектоники и стратегии держав 2021: 205—222].
На рис. 5 неслучайно отдельно выделены санкции США в технологической сфере — одном из немногих оставшихся столпов американского лидерства, который в последние годы КНР активно «подтачивает». В данной сфере уже давно речь не идет о рыночной конкуренции: ведущий российский эксперт в инновационной сфере И.Н. Данилин (ИМЭМО РАН) неслучайно характеризует это противостояние как «технологическую войну» [Логика новой мироустроительной архитектоники и стратегии держав 2021: 275—293].
О начале холодной войны в киберпространстве говорят и китайские исследователи [Xu 2021]. Наиболее «ожесточенные сражения» разворачиваются за контроль над производством полупроводников и элементной базы, за то, на каком оборудовании по всему миру будет развернута сеть 5G — европейском (Nokia, Ericsson) или китайском (Huawei, ZTE).
Следует отметить, что в «технологической войне» КНР в целом «держит удар», а «накал борьбы» даже вызывает небывалое воодушевление как в китайских компаниях, так и китайском обществе. В частности, после запрета на продажу Huawei американских компонентов компания достаточно быстро смогла найти альтернативы, презентовав в декабре 2019 г. телефон, в котором не было ни одной детали американского производства20. После запрета на установку операционной системы (ОС) Android от Google Huawei в течение нескольких месяцев презентовала собственную ОС Harmony21.
Продолжая эту тенденцию, китайское правительство поручило к 2022 г. заменить все иностранное компьютерное оборудование в государственных и общественных учреждениях [Wyne 2020: 46], а вместо ОС Windows ускорился переход на альтернативные системы на основе Linuх (Ubuntu, UOS, Kylin и др.), в первую очередь для государственных учреждений22.
Все это стремительно ведет к «технологическому декаплингу», то есть постепенному формированию двух замкнутых ИТ-конту-ров — еще одного признака «холодной войны 2.0».
Военная мощь и Индо-Тихоокеанский регион (ИТР) как будущий театр военных действий
Важным компонентом силы, который, однако, представители школы «властного транзита» призывают не переоценивать, является военная мощь. По самому влиятельному и вместе с тем «таинственному» 23 индексу военной силы Global Firepower Index, который составляется на основе расширенного ряда показателей, ТОП-3 стран мира остается неизменным — США, Россия и Китай. При этом разрыв между этими тремя странами относительно небольшой (США — 0,0721, РФ — 0,0796, КНР — 0,0858) 24.
Попытка объединить экономические, демографические и военные показатели в рамках одного индекса была успешно предпринята Д. Сингером, который разработал Совокупный индекс национального потенциала (CINC) для проекта «Корреляты войны». Он рассчитывается на основе 6 компонентов, представленных в виде отношения показателей страны к общемировым: численность населения (TPR), численность городского населения (UPR), выплавка стали (ISPR), объем потребления первичной энергии (ECR), расходы на оборону (MER) и численность военного персонала (MPR)25. Последние доступные данные датируются 2012 г., однако авторами по методологии «Коррелятов войны» ранее уже были подсчитаны данные за 2018 г. [Баланс сил в ключевых регионах мира 2021: 313—319].
Как показано на рис. 7a, в середине 1990-х гг. КНР уже обошла США по совокупному индексу национального потенциала, а к концу 2010-х гг. преодолела показатели США времен холодной войны, значительно увеличив отрыв от конкурентов. Также, исходя из данных рис. 7б, становится ясно, что, несмотря на доминирование США по показателю военных расходов, КНР лидирует по пяти остальным, что и обеспечивает ей совокупное лидерство.
Рис. 7а. ТОП-5 стран по CINC 1970—2018
Источник: составлено авторами на основе: 1970—2012 гг. — NMC 5.0. URL: https://correlatesofwar.org/data-sets/national-material-capabilities/nmc-v5-1 (accessed: 02.02.2021); 2018 г. — [Баланс сил
в ключевых регионах мира 2021: 313—319].
Рис. 7б. Компоненты CINC 2018
Источник: составлено авторами на основе: 1970—2012 гг. — NMC 5.0. URL: https://correlatesofwar.org/data-sets/national-material-capabilities/nmc-v5-1 (accessed: 02.02.2021); 2018 г. — [Баланс сил
в ключевых регионах мира 2021: 313—319].
На данном этапе потенциал глобального военного развертывания США и КНР несопоставим. США начали планирование глобальной системы военного развертывания в 1943—1945 гг. [Никулин 2020], имея к настоящему времени сотни соглашений о военном сотрудничестве, военные базы и свои контингенты в большинстве стран мира [Дегтерев 2020: 94—97]. В Азии это происходило в рамках Сан-Францисской системы международных отношений26, которую США сформировали в 1950-е гг. на основе серии двусторонних соглашений с региональными партнерами [Богатуров 1997]. В свою очередь, КНР пока находится на начальном этапе глобального военного развертывания. Вместе с тем у КНР несколько иная по сравнению с США стратегическая культура, в рамках которой достижение своих целей военных путем — это крайняя мера. Более эффективным Пекин считает использование экономического инструментария.
В 2014 г. Китай предложил новую концепцию азиатской безопасности, основанную на взаимовыгодном и равноправном сотрудничестве между всеми странами региона27, и начал формирование альтернативной системы безопасности в Азии [Liff 2018]. Активизация политики КНР в этой сфере форсировала реформирование внешнеполитического курса США в АТР. В результате было создано неформальное объединение основных партнеров США в регионе для контрбалансирования КНР — The Quadrilateral Security Dialogue (QUAD) с участием Австралии, Японии и Индии. Это стало проявлением перехода от двустороннего сотрудничества к «мини-сторонности» (mini-lateral), или ограниченной многосторонности со стороны США [Худайкулова, Рамич 2020: 25].
Представляет интерес оценка регионального баланса сил в АТР, которую регулярно проводит Институт Лоуи (Австралия) в рамках проекта «Азиатский индекс силы» (Asia Power Index). Для оценки силы страны в регионе авторы выделили 8 групп показателей, которые, в свою очередь, состоят из 128 отдельных показателей. Каждый из показателей имеет свой относительный вес: так, военные (17,5 %) и экономические (17,5 %) потенциалы оцениваются выше, чем культурное (10 %) или дипломатическое (10 %) влияние. Согласно данному индексу, США являются наиболее сильным и влиятельным государством в регионе (81,6), при этом сокращается разрыв с КНР (76,1), которая располагается на втором месте. При этом лидерство США во многом обеспечено военным превосходством и нематериальными ресурсами, в то время как Китай лидирует по экономическим показателям и занимает первое место по прогнозируемым показателям (future resources) к 2030 г.28
Достаточно высоко оценивают военный потенциал КНР в регионе и американские аналитики из RAND Corporation, которые в 2015 г. провели сценарное прогнозирование различных типов боестолкновений США и КНР по состоянию на 1996, 2003, 2010, 2017 г. на двух театрах военных действий (ТВД): в районе Тайваня и островов Спратли29. Уже на тот момент наблюдалось доминирование КНР в тайваньском сценарии, и к настоящему времени это доминирование лишь усилилось в рамках реализации концепции A2/AD (anti-access / area denial).
Вызывает обеспокоенность милитаризация ИТР с участием союзников США по НАТО, развернувшаяся в 2019—2021 гг. Так, в опубликованном в марте 2021 г. обзоре «Глобальная Британия в эпоху конкуренции» премьер-министр Великобритании Б. Джонсон отмечает, что он «начал самую большую программу инвестиций в оборону после окончания холодной войны»30. В обзоре неоднократно подчеркивается важность ИТР — в самом деле, рекордный рост военных расходов Лондона явно не связан с обеспечением безопасности на берегах Ла-Манша.
В 2019 г. принята Оборонная стратегия Франции в ИТР, а в 2020 г. — Внешне-политическая стратегия Франции в ИТР, в сентябре 2020 г. ФРГ опубликовала политические принципы в отношении ИТР. О принятии Индо-Тихоокеанской политики заявили и Нидерланды31. В апреле 2021 г. была принята Стратегия ЕС для сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе, где особое внимание уделено вопросам безопасности в контексте растущей геополитической напряженности в условиях отсутствия в регионе институционализированных структур безопасности32. ЕС также планирует увеличивать свое военно-морское присутствие в ИТР и более активно работать в рамках Регионального форума АСЕАН. В эпоху новой «конфронтационной» биполярности ИТР становится наиболее важным потенциальным ТВД.
Заключение
Как отмечал более 60 лет назад создатель теории «властного транзита» А.Ф.К. Органски, «вопрос не в том, станет ли Китай самой могущественной державой на земле, а скорее в том, сколько времени потребуется ему, чтобы достичь этого статуса» [Organski 1958: 446]. КНР уже обогнала США по Сводному индексу национального потенциала (1995 г.), абсолютному объему ВВП по ППС (2014 г.), развитию промышленности и инфраструктуры, догоняет по показателю расходов на НИОКР, а также на оборону, подсчитанных по ППС. Фактическое влияние США все еще больше за счет нематериальных ресурсов, таких как дипломатическое влияние, сеть союзов и «мягкосиловые» показатели [Дегтерев 2020]. США также сохраняют лидерство по показателям военной мощи и ее глобального развертывания. Проведенный анализ показывает, что страны уже несколько лет назад вошли в фазу относительного паритета силы, а период «властного транзита» уже начался.
Как представляется, «властный транзит» и есть та самая «великая борьба», которой было обусловлено принятие весной 2018 г. поправки в Конституцию КНР об отмене ограничений срока пребывания на посту председателя КНР [Карнеев 2019: 43]. Со стороны США важным индикатором активной фазы «транзита власти» стало беспрецедентное ограничение свободы слова, формальным поводом для которого послужила внутриполитическая борьба на последних президентских выборах33. В академической сфере США еще бóльшая часть исследований будет сосредоточена на поиске (в том числе эмпирическом) недостатков китайской модели развития и откровенной антикитайской пропаганде в духе «кремленологии» и «советологии» времен предыдущей холодной войны [Логика новой мироустроительной архитектоники и стратегии держав 2021: 223—230]. Соответственно, будет нарастать и китайская дискурсивная сила, формирующая встречные образы и смыслы [Денисов 2020].
После упущенного администрацией Б. Обамы времени для нанесения превентивного удара в экономической и технологической сфере КНР в целом успешно отбила запоздалый трамповский «кавалерийский наскок», сделав ставку на развитие внутреннего рынка, модель «двойной циркуляции», а также ускоренное научно-техническое развитие [Ломанов 2021]. Осознавая в полной мере опасность для собственных интересов китайской модели глобализации, «тараном» которой выступает инициатива «Один пояс, один путь», США находятся на этапе активной проработки новых инициатив по стратегическому сдерживанию [Lew, Roughead 2021]. По-видимому, в их числе будут предложения по формированию новых антикитайских коалиций как за счет «смыкания рядов» традиционных союзников и трансляции их мощи в ИТР, так и укрепления сотрудничества с «колеблющимися» Индией (в том числе в рамках QUAD), Республикой Корея, странами АСЕАН, а также развития Всеобъемлющего и прогрессивного Транстихоокеанского партнерства (TPP-11).
Бескомпромиссный характер противостояния будет только нарастать, на повестке — новая «конфронтационная биполярность». Возможности для невоенного сдерживания Китая со стороны США сужаются…
1 «Мы думали, что победили». Десять лет «перезагрузке» отношений России и США // РИА Новости. 06.03.2019. URL: https://ria.ru/20190306/1551572481.html (дата обращения: 08.02.2021).
2 Как США выходили из международных соглашений при администрации Дональда Трампа // ТАСС. 22.11.2020. URL: https://tass.ru/info/10068059 (дата обращения: 08.02.2021).
3 Transresearch Consortium. URL: https://transresearchconsortium.com/ (accessed: 08.02.2021).
7 Справедливости ради следует отметить, что в русскоязычной научной литературе «упрощенная версия» теории «властного транзита» в виде «ловушки Фукидида» получила некоторое распространение [Ефременко 2020].
8 Примечательно, что в российской медиасфере в 2020 г. был создан Telegram-канал «Ловушка Фукидида» (https://t.me/lovuska), набравший по состоянию на май 2021 г. 1,4 тыс. подписчиков. В описании канала отмечается, что «Ловушка Фукидида — это конфликт между гегемоном и растущими странами за лидирующую роль в мире. Это ловушка, в которую угодил наш мир».
9 CNKI (China National Knowledge Infrastructure, 中国知网). URL: https://oversea.cnki.net/index/ (accessed: 10.01.2021).
10 Bergsten C.F. Two’s Company // Foreign Affairs. September — October 2009. URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/americas/2009-09-01/twos-company (accessed: 10.01.2021).
11 Dengxiaoping xin shiqi de waijiao zhanlue sixiang shu lun // Lingxiu renwu ziliao ku [О дипломатической стратегии Дэн Сяопина в новый период // Архив данных политических лидеров]. URL: http://cpc.people.com.cn/GB/33839/34943/34983/2641962.html (accessed: 10.01.2021). (На кит. яз.).
12 Hong C., Kang D., Chen B. Zongshu: Xi Jinping de Xinxing daguo guanxi waijiao zhanlue shi zheyang lianchengde [Описание: Реализация дипломатической стратегии Си Цзиньпина по формированию «нового типа отношений между великими державами»] // Renmin Ribao. 2016. URL: http://world.people.com.cn/n1/2016/0213/c1002-28120530.html (accessed: 10.01.2021). (На кит. яз.).
13 Members and Prospective Members of the Bank. Asian Infrastructure Investment Bank // The Asian Infrastructure Investment Bank. March 31, 2021. URL: https://www.aiib.org/en/about-aiib/governance/members-of-bank/index.html (accessed: 31.03.2021).
14 Как США вели торговую войну с Японией // КоммерсантЪ. 17.08.2019. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4047539 (дата обращения: 08.02.2021).
15 Хидэо Ц. Потерянное тридцатилетие: вынужденное манипулирование курсом йены // Nippon.com. 22.03.2016. URL: https://www.nippon.com/ru/column/g00350/ (дата обращения: 08.02.2021).
16 Аллюзия на один из принципов бережливого производства в рамках Toyota Production System (Прим. ред.).
17 Япония и США отмечают 60 лет со дня подписания совместного договора о безопасности // ТАСС. 18.01.2020. URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7551681 (дата обращения: 08.02.2021).
18 На основе данных Observatory of Economic Complexity Массачусетского технологического института. URL: https://oec.world (accessed: 02.02.2021).
19 Major foreign holders of treasury securities // Department of the Treasury/Federal Reserve Board. 2000—2019. URL: https://ticdata.treasury.gov/Publish/mfhhis01.txt (accessed: 04.02.2021); Major foreign holders of treasury securities // Department of the Treasury/Federal Reserve Board. 2021. URL: https://ticdata.treasury.gov/Publish/mfh.txt (accessed: 04.02.2021).
20 Huawei начала выпускать смартфоны без американских комплектующих // Ведомости. 03.12.2019. URL: https://www.vedomosti.ru/technology/news/2019/12/03/817774-huawei-nachala-delat-smartfoni-bez (дата обращения: 08.02.2021).
21 Huawei выпустила полноценную замену Android для своих смартфонов // CNews. 16.12.2020. URL: https://www.cnews.ru/news/top/2020-12-16_huawei_vypustila_polnotsennuyu (дата обращения: 08.02.2021).
22 Госсектор Китая меняет Windows на ОС на базе Linux // Astra Linux. 2020. URL: https://astralinux.ru/news/category-news/2020/gossektor-kitaya-menyaet-windows-na-os-na-baze-linux/ (дата обращения: 08.02.2021).
23 Официально не декларируется, кто является создателем индекса, не раскрываются весовые значения отдельных компонент. Подробнее см.: [Дегтерев 2020: 144—147].
24 Чем меньше значение индекса, тем сильнее военный потенциал страны. Cм.: Global Firepower Index 2021. URL: https://www.globalfirepower.com (accessed: 08.02.2021).
25 National Material Capabilities (v 5.0.) // Correlates of War Project. URL: https://correlatesofwar.org/data-sets/national-material-capabilities (accessed: 08.02.2021).
26 В международном дискурсе эта система более известна как “Hub and Spokes”.
27 Xi Jinping New Asian Security Concept for New Progress in Security Cooperation // Remarks at the Fourth Summit of the Conference on Interaction and Confidence Building Measures in Asia. May 21, 2014. URL: https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1159951.shtml (accessed: 08.02.2021).
28 Asia Power Index // Lowy Institute. URL: https://power.lowyinstitute.org/ (accessed: 08.02.2021).
29An Interactive Look at the U.S. — China Military Scorecard // RAND. 2015. URL: https://www.rand.org/paf/projects/us-china-scorecard.html (accessed: 08.02.2021).
30 Global Britain in a Competitive Age: the Integrated Review of Security, Defence, Development and Foreign Policy // UK Government. March 16, 2021. P. 3. URL: https://www.gov.uk/government/publications/global-britain-in-a-competitive-age-the-integrated-review-of-security-defence-development-and-foreign-policy (accessed: 08.02.2021).
31 Cleo P. Indo-Pacific strategies, perceptions and partnerships // Chatham house. March 23, 2021. URL: https://www.chathamhouse.org/2021/03/indo-pacific-strategies-perceptions-and-partnerships/04-france-and-indo-pacific (accessed: 30.03.2021).
32 EU Strategy for Cooperation in the Indo-Pacific // European External Action Service. April 19, 2021. URL: https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/96741/eu-strategy-cooperation-indo-pacific_en (accessed: 07.05.2021).
33 Жукова К. Несвобода слова: как американские соцсети стали участниками политической борьбы // Forbes. 14.01.2021. URL: https://www.forbes.ru/tehnologii/418431-nesvoboda-slova-kak-amerikanskie-socseti-stali-uchastnikami-politicheskoy-borby (дата обращения: 08.02.2021).
Об авторах
Денис Андреевич Дегтерев
Российский университет дружбы народов
Автор, ответственный за переписку.
Email: degterev-da@rudn.ru
ORCID iD: 0000-0001-7426-1383
доктор политических наук, кандидат экономических наук, заведующий кафедрой теории и истории международных отношений Российского университета дружбы народов; профессор кафедры мировой экономики МГИМО МИД России; профессор кафедры европейских исследований СПбГУ
Москва, Российская ФедерацияМирзет Сафетович Рамич
Российский университет дружбы народов
Email: ramich_ms@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-1479-2785
аспирант кафедры теории и истории международных отношений
Москва, Российская ФедерацияАнатолий Владимирович Цвык
МИД России
Email: a.tsvyk91@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-0563-5609
кандидат исторических наук
Москва, Российская ФедерацияСписок литературы
- Бадрутдинова К.Р., Дегтерев Д.А., Степанова А.А. Отношения в треугольнике США - РФ - КНР: соблюдается ли формула лидерства Г. Киссинджера? // Вестник международных организаций. 2017. Т. 12. № 1. С. 81-109. doi: 10.17323/1996-7845-2017-01-81
- Баланс сил в ключевых регионах мира: концептуализация и прикладной анализ / под ред. Д.А. Дегтерева, М.А. Никулина, М.С. Рамича. М.: РУДН, 2021.
- Богатуров А.Д. Великие державы на Тихом океане: история и теория международных отношений в Восточной Азии после Второй мировой войны (1945-1995). М.: Конверт-МОНФ, 1997.
- Богатуров А.Д. Системная история международных отношений. Т. 3: События. 1945-2003. М.: НОФМО, 2003.
- Виноградов А.О., Салицкий А.И., Семенова Н.К. Американо-китайская экономическая конфронтация: идеология, хронология, значение // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. 2019. Т. 19. № 1. C. 35-46. doi: 10.22363/2313-0660-2019-19-1-35-46
- Грачиков Е.Н. Китайская школа международных отношений: на пути к большим теориям. М.: Аспект Пресс, 2021.
- Дегтерев Д.А. Оценка современной расстановки сил на международной арене и формирование многополярного мира. М.: Русайнс, 2020.
- Дегтерев Д.А. Политическое влияние в международной финансовой системе // Вестник международных организаций. 2016. Т. 11. № 4. С.77-105. doi: 10.17323/1996-7845-2016-04-77
- Денисов И.Е. Концепция «дискурсивной силы» и трансформация китайской внешней политики при Си Цзиньпине // Сравнительная политика. 2020. Т. 11. № 4. С. 42-52. doi: 10.24411/2221-3279-2020-10047
- Ефременко Д.В. Двойная ловушка Фукидида. Президентство Дональда Трампа и новая биполярность // Россия в глобальной политике. 2020. № 4. C. 126-147. URL: https://globalaffairs.ru/articles/dvojnaya-lovushka-fukidida/ (дата обращения: 13.01.2021).
- Истомин И.А. Логика поведения государств в мировой политике. М.: Аспект Пресс, 2021.
- Истомин И.А. Особенности междержавной конкуренции в условиях взаимозависимости // Вестник Московского университета. Серия 25: Международные отношения и мировая политика. 2018. Т. 10. № 1. С. 72-101.
- Карнеев А.Н. Тенденции развития идейно-политической сферы: «второй сезон» Си Цзиньпина // Мировая экономика и международные отношения. 2019. Т. 63. № 10. С. 42-50. doi: 10.20542/0131-2227-2019-63-10-42-50
- Логика новой мироустроительной архитектоники и стратегии держав / под ред. А.Д. Воскресенского. М.: Стратегические изыскания, 2021.
- Ломанов А.В. Цзинь и Чу вместо Афин и Спарты // Мировая экономика и международные отношения. 2020. Т. 64. № 8. С. 127-132.
- Ломанов А.В. Циркуляция против изоляции. Китай ответил Западу стратегически // Россия в глобальной политике. 2021. Т. 19. № 3. URL: https://globalaffairs.ru/articles/czirkulyacziya-protiv-izolyaczii/ (дата обращения: 08.02.2021).
- Лукин А.В. Дискуссии о развитии Китая и перспективы его внешней политики // Полис. Политические исследования. 2019. № 1. С. 71-89. doi: 10.17976/jpps/2019.01.06
- Морозов Ю.В. Пути нейтрализации угроз России в рамках стратегического треугольника «РФ - США - КНР». М.: ИДВ РАН, 2020.
- Наварро П. Грядущие войны Китая. Поле битвы и цена победы. М.: Вершина, 2007.
- Никулин М.А. У истоков американской гегемонии: планирование глобального военного развертывания США (1943-1945 гг.) // Власть. 2020. Т. 28. № 2. С. 260-267. doi: 10.31171/vlast.v28i2.7166
- Поздняков Э.А. Баланс сил в мировой политике. Теория и практика. М.: ИМЭМО РАН, 1993.
- Семенов А.В., Цвык А.В. Концепция «общего будущего человечества» во внешнеполитической стратегии Китая // Мировая экономика и международные отношения. 2019. Т. 63. № 8. С. 72-81. doi: 10.20542/0131-2227-2019-63-8-72-81
- Сушенцов А.А., Павлов В.В. «Кризис призвания» в Государственном департаменте: проблемы конвертации внешнеполитического потенциала США во влияние // Полис. Политические исследования. 2021. № 2. С. 76-98. doi: 10.17976/jpps/2021.02.06
- Тренин Д.В. Новый баланс сил: Россия в поисках внешнеполитического равновесия. М.: Альпина Паблишер, 2021.
- Худайкулова А.В. Геополитические треугольники в контексте конкуренции традиционных и восходящих центров силы // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2020. Т. 13. № 4. С. 53-73. doi: 10.23932/2542-0240-2020-13-4-3
- Худайкулова А.В., Рамич М.С. «Квад 2.0»: четырехсторонний диалог для контрбалансирования КНР в Индо-Тихоокеанском регионе // Полис. Политические исследования. 2020. № 3. С. 23-43. doi: 10.17976/jpps/2020.03.03
- Шаклеина Т.А. Россия и США в мировой политике. М.: Аспект Пресс, 2018.
- Allison G. Destined for war: Can America and China escape Thucydides’s trap? Boston: Houghton Mifflin Harcourt, 2017.
- Bergsten C.F. China and the United States: The contest for global economic leadership // China & World Economy. 2018. Vol. 26. No. 5. P. 12-37. doi: 10.1111/cwe.12254
- Bergsten C.F., Freeman C., Lardy N.R., Mitchell D.J. China’s rise: Challenges and opportunities. Washington, DC: Peterson Institute for International Economics, 2008.
- Chen Z., Zhang X. Chinese conception of the world order in a turbulent Trump era // The Pacific Review. 2020. Vol. 33. No. 3-4. P. 438-468. doi: 10.1080/09512748.2020.1728574
- Chong T., Li X. Understanding the China - US trade war: Causes, economic impact, and the worst-case scenario // Economic and Political Studies. 2019. Vol. 7. No. 2. P. 185-202. doi: 10.1080/20954816.2019.1595328
- Degterev D.A. Multipolar World Order: Old Myths and New Realities // Vestnik RUDN. International Relations. 2019. Vol. 19. No. 3. P. 404-419. doi: 10.22363/2313-0660-2019-19-3-404-419
- Estachy L. Power struggle between China and the United States: Lessons of history // MGIMO Review of International Relations. 2020. Vol. 13. No. 1. P. 82-99. doi: 10.24833/2071-8160-2020-1-70-82-99
- Friedberg A.L., Boustany C.W. Partial disengagement: A new US strategy for economic competition with China // The Washington Quarterly. 2020. Vol. 43. No. 1. P. 23-40. doi: 10.1080/0163660X.2020.1736882
- Goldstein A. US - China rivalry in the twenty-first century: Déjà vu and Cold War II // China International Strategy Review. 2020. No. 2. P. 48-62. doi: 10.1007/s42533-020-00036-w
- Han Z., Paul T.V. China’s rise and balance of power politics // The Chinese Journal of International Politics. 2020. Vol. 13. No. 1. P. 1-26. doi: 10.1093/cjip/poz018
- Jervis R. Perception and misperception in international politics. Princeton: Princeton University Press, 1976.
- Johnston A.I. China in a world of orders: Rethinking compliance and challenge in Beijing’s international relations // International Security. 2019. Vol. 44. No. 2. P. 9-60. doi: 10.1162/isec_a_00360
- Kugler J., Organski A.F.K. The power transition: A retrospective and prospective evaluation // Handbook of war studies / ed. by M.I. Midlarsky. Boston: Unwin Hyman, 1989. P. 171-194.
- Layne C. Preventing the China - U.S. Cold War from turning hot // The Chinese Journal of International Politics. 2020. Vol. 13. No. 3. P. 343-385. doi: 10.1093/cjip/poaa012
- Lew J., Roughead G. China’s Belt and Road. Implications for the United State // Council on Foreign Relations. Independent Task Force Report. 2021. No. 79. P. 1-176.
- Liff A.P. China and the US alliance system // The China Quarterly. 2018. Vol. 233. P. 137-65. doi: 10.1017/S0305741017000601
- Mastro O.S. In the shadow of the Thucydides trap: International relations theory and the prospects for peace in U.S. - China relations // Journal of Chinese Political Science. 2019. Vol. 24. No. 1. P. 25-45. doi: 10.1007/s11366-018-9581-4
- Organski A.F.K. World politics. New York: A. Knopf, 1958.
- Organski A.F.K., Kugler J. The war ledger. Chicago: University of Chicago Press, 1980.
- Strange S. States and markets. New York: Bloomsberry, 1988.
- Suisheng Z., Guo D. A New Cold War? Causes and future of the emerging US - China rivalry // Vestnik RUDN. International Relations. 2019. Vol. 19. No. 1. P. 9-21. doi: 10.22363/2313-0660-2019-19-1-9-21
- Tammen R. Power transitions: Strategies for the 21st century. New York: Chatham House, 2000.
- Tellis A.J. Balancing without containment: A U.S. strategy for confronting China’s rise // The Washington Quarterly. 2013. Vol. 36. No. 4. P. 109-124. doi: 10.1080/0163660X.2013.861717
- The Oxford Encyclopedia of empirical international relations theory / ed. by W. Thompson. Oxford: Oxford University Press, 2018. doi: 10.1093/acref/9780190632588.001.0001
- Wang W.Z. Destined for misperception? Status dilemma and the early origin of US - China antagonism // Journal of Chinese Political Science. 2019. Vol. 24. No. 1. P. 49-65. doi: 10.1007/s11366-018-09596-6
- Wang Z, Sun Z. From globalization to regionalization: The United States, China, and the post-COVID-19 world economic order // Journal of Chinese Political Science. 2020. Vol. 26. P. 69-87. doi: 10.1007/s11366-020-09706-3
- Wu C. Ideational differences, perception gaps, and the emerging Sino-US rivalry // The Chinese Journal of International Politics. 2020. Vol. 13. No. 1. P. 27-68. doi: 10.1093/cjip/poz020
- Wyne A. How to think about potentially decoupling from China // The Washington Quarterly. 2020. Vol. 43. No. 1. P. 41-64. doi: 10.1080/0163660X.2020.1735854
- Xu P. 2020 Shuzi Lengzhan Yuan Nian: Wangluo Kongjian Quanqiu Zhili De Liang Zhong Luxian Zhi Zheng [Глобальное управление Интернетом на пути к цифровой холодной войне или цифровому сообществу] // Information Security and Communications Privacy. 2021. Vol. 3. P. 16-23. (На кит. яз.).
- Xuetong Y. Bipolar rivalry in the early digital age // The Chinese Journal of International Politics. 2020. Vol. 13. No. 3. P. 313-341. doi: 10.1093/cjip/poaa007
- Xuetong Y., Qi H. Football game rather than boxing match: China - US intensifying rivalry does not amount to Cold War // The Chinese Journal of International Politics. 2012. Vol. 5. No. 2. P. 105-127. doi: 10.1093/cjip/pos007
- Yoder B.K. Uncertainty, shifting power and credible signals in US - China relations: Why the “Thucydides trap” is real, but limited // Journal of Chinese Political Science. 2019. Vol. 24. No. 1. P. 87-104. doi: 10.1007/s11366-019-09606-1
- Yu M., Zhang R. Understanding the recent Sino-U.S. trade conflict // China Economic Journal. 2019. Vol. 12. No. 2. P. 160-174. doi: 10.1080/17538963.2019.1605678
Дополнительные файлы