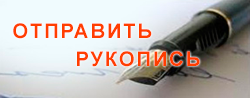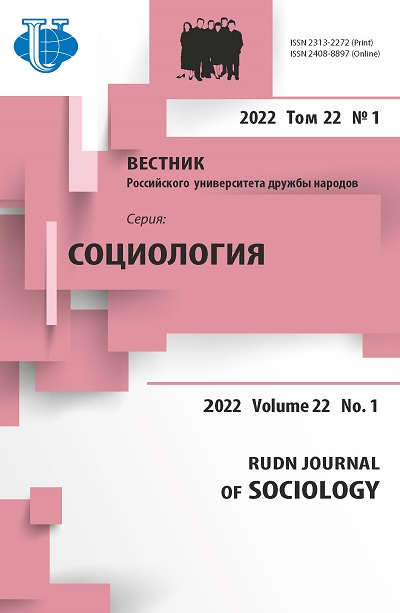«Осторожно, Модерн!», или театр теней современности и его персонажи: инструментальная рациональность - деньги - техника (Часть 2)
- Авторы: Подвойский Д.Г.1,2,3
-
Учреждения:
- Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
- Российский университет дружбы народов
- Институт социологии ФНИСЦ РАН
- Выпуск: Том 22, № 1 (2022)
- Страницы: 40-57
- Раздел: Вопросы истории, теории и методологии
- URL: https://journals.rudn.ru/sociology/article/view/30386
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-2272-2022-22-1-40-57
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Вниманию читателя предлагается вторая часть авторского очерка, посвященного анализу феномена отчуждения и форм его бытования в обществах модерна (первая часть опубликована в № 4 за 2021 год). В фокусе рассмотрения - техника как «фетишизируемая» современным мышлением и различные проявления отчуждения в области трудовой деятельности, выступающие не только (и не столько) следствием частной собственности на «средства производства» (в трактовке К. Маркса), но и побочным продуктом объективных тенденций усугубляющейся в ходе исторического развития социальной дифференциации (разделение труда), а также подчинения большинства сфер социального опыта человека эпохи модерна логике инструментальной рациональности. Избыточная специализация, стандартизация, алгоритмизация, рутинизация деятельности, технологическая и функциональная операционализация рабочего процесса и профессиональных ролей, доминирование средств над целями, административно-бюрократическая регламентация и контроль становятся «приметами времени» и отличительными особенностями «ритма активности» не только на промышленных предприятиях, но и в сферах нефизического труда. Важным аспектом (и фоновым обстоятельством) в диагнозе современности становится тот факт, что общества модерна формировались в последние столетия по преимуществу в урбанистической социально-экологической среде. Формат и стиль городской жизни, характеризующейся ролевой фрагментацией и специфической деперсонификацией (и ростом анонимности), также породили спектр последствий, делающих отчуждение ощутимой проблемой современных обществ. В статье используется концептуальный арсенал классической социологической теории как ключевой инструмент анализа и описания «вселенной модерна»; по ходу изложения автор обращается к идеям М. Вебера, Г. Зиммеля, Л. Вирта, Г.М. Маклюэна, Г. Маркузе, Ж. Фридмана, К. Лефора и др.
Полный текст
Машина — «священная корова» современности
К. Лефор в очерке «Отчуждение как социологическое понятие» [8] использует оригинальный аргументационный прием, рассчитанный на силу аналогии. Рассуждения о феномене отчуждения иллюстрируются этнографическим примером нуэров (1) — полукочевого пастушеского народа (группы племен) Восточной Африки. Лефор опирается на классическое исследование Э. Эванс-Причарда [16]. Вся культура нуэров держится на коровах. Они занимаются не только скотоводством, но именно отношение к скоту определяет их порядки, классификации и миропонимание, статусные отношения и т.д. Рассказывая про нуэров, Лефор постоянно намекает на сходства с современностью, проводит параллели с западным индустриальным технологическим обществом (не упуская возможности высмеять модерновый технократизм и свойственный ему фетишизм). Их ментальность похожа «на ментальность европейца, …в индустриальной культуре, к которой он принадлежит, он видит признак своего превосходства» [8. С. 53]. Для нуэров корова, как для людей индустриальной эпохи машина, — оплот и основа мироздания и всего комплекса социальных отношений. О коровах не просто заботятся и используют как основной ресурс хозяйственной деятельности — по имени (в честь) быков людям дают имена. Большое значение имеет не только число голов крупного рогатого скота в чьей-то собственности, но и красота и иные отличительные признаки отдельных особей. Через коров и при их посредстве выстраиваются ритуалы инициации и смена статуса, ведутся наследственные и имущественные дела, из-за них развязываются внешние войны (с соседними племенами) и вспыхивают внутренние конфликты, распадаются семьи (коровы — основная ставка в людской борьбе, соперничестве и конкуренции). Социальные отношения нуэров строятся на базе отношений с коровами и к коровам; переходят и отражаются в них.
Картина вырисовывается почти как у Маркса — отношения между людьми при капитализме предстают как товарные-денежные и как отношения между вещами (товарный фетишизм). Культура нуэров в сходном смысле фундируется «коровьим» фетишизмом. Выражаясь языком школы Дюркгейма‑Мосса, можно сказать, что корова для нуэров, их коллективного сознания и институциональной организации, предстает как «тотальный социальный факт». Эванс-Причард отмечает, что любой разговор с нуэром, с чего бы он ни начался, быстро перейдет на разговор о быках и коровах, которые определяют всю его социально детерминированную терминологию и мировосприятие. «Для нуэра существует коровья вселенная, как для других существует вселенная машин…, человек стремится здесь унизить себя перед коровой, так же как в других случаях он [человек модерна] стремится унизить себя перед машиной» [8. С. 55].
Причем же тут отчуждение? Лефор хочет сказать, что нуэры отчуждают, объективируют коровью вселенную, помещают себя в нее, подчиняются ей (приблизительно так же, как у Фейербаха люди создают богов и ставят себя в зависимость от них). Образовавшийся в результате подобного проецирования коллективных представлений «коровий универсум» иллюзорен и реален одновременно — реален по своим последствиям и властно управляет жизнью народа. Лучше всего эта двойственность, иллюзорность, переходящая в реальность, видна со стороны, например, наблюдателю-этнологу. Отчужденный мир нуэра — это бычье-коровий мир, где коровы и быки более реальны, чем люди, вписанные культурой и институтами в структуры социально сконструированного рогато-копытного космоса. Оборотной стороной царства рогов и копыт в культуре нуэров оказывается «оппозиционный» критический миф, что корова на самом деле тайный враг человека, «сеющий зло и раздоры», и в конце концов способна уничтожить людей, «гибнущих за коров» (как за металл, под аккомпанемент куплетов Мефистофеля). Из-за этого люди становятся врагами (в сходном смысле техника и деньги губят и подчиняют людей модерна, лишая их человеческих качеств). Иначе говоря, нуэры отчасти осознают свою пагубную зависимость от коров, ее трагический характер. Корова в культуре нуэров более реальна и ценна, чем человек — он выражает себя через отчужденную коровью реальность. Наподобие этого машинная цивилизация современности относится к технике почти как к священной корове.
Только сторонний наблюдатель может рассматривать «интерес к животному как навязчивое состояние и отличать реальное от воображаемого… [Для нуэров] элементы, принадлежащие, очевидно, к порядку воображаемого, являются более реальными в том смысле, что именно они предоставляют людям устойчивую систему координат» [8. С. 58]. Задача исследователя заключается в том, чтобы принять трансцендирующую установку, посмотреть со стороны на эту навязчивость (к корове, технике, деньгам и иным фетишизируемым объектам/социальным конструктам).
Зацикленность человека модерна на технике, техническом прогрессе и достижениях похожа на привязанность нуэров к коровам. Источником техницистского фетишизма современности является фундаментальный процесс, наблюдаемый в разных сферах индивидуального и коллективного опыта, — реификация, кристаллизация продуктов и способов деятельности людей и превращение их в самодовлеющие формы. Средство, процедура ставятся выше цели, «как» оказывается важнее «что». Формально-инструментальная рациональность апеллирует к набору средств действия, а не к ценностно определенному содержанию целей (цели могут быть какими угодно и с легкостью выносятся за скобки разговора о «рациональности» институтов и структур).
Сторонники технооптимизма обычно постулируют принципиальную «нейтральность» техники, и если техника начинает двигаться катком по живым людям, они отвечают — значит были неправильно определены цели, а техника не виновата (2). Техника в известном смысле упрощает жизнь, открывая множество новых возможностей. Она создается человеком для решения специфически человеческих задач, но далее, вернее — параллельно — происходит отрыв средства от цели, формы от содержания, продукт деятельности автономизируется и начинает жить своей жизнью. Неслучайно Шпенглер сравнивал современную технику с взбесившейся упряжью, способной загнать манипулирующего ей всадника в могилу [15. С. 486–487]. Техника освобождает и закрепощает одновременно, преодоление одних трудностей оборачивается возникновением новых.
Зависимость человека от техники как следствие парадоксального характера технического прогресса подмечается постоянно и становится не только предметом философской рефлексии, но и темой повседневных разговоров, сетований и шуток. Каждая эпоха подмечает что-то свое. Странствующий циркач дядюшка Мокус из мультфильма про поросенка Фунтика при поломке пыхтящего средства передвижения изрекает житейскую мудрость: «Вот с ними всегда так, сначала ты на них ездишь, а потом они на тебе». В одной из популярных эстрадных песен поры уходящего социализма звучали слова: «Для нас автомобили были созданы, но вот пришли иные времена… и день и ночь мы под машиной ползаем, мы служим ей, чтоб ездила она». Разумеется, содержащаяся в этих фразах ирония отсылает нас не только к оценке сомнительных достоинств продукции советского автопрома и воспоминаниям о нелегких буднях отечественных автолюбителей 1980-х годов. Про сегодняшние компьютеры, обеспечивающие всевозможные удобства и удовлетворяющие потребности миллиардов людей на планете, можно сказать то же самое.
Дело не только в том, что любая машина или техническое устройство может сломаться или выйти из строя, что машина привязывает к себе ее обладателя или пользователя через ту актуализированную у него потребность, которую она призвана удовлетворять (в случае поломки без нее он оказывается как без рук). Власть техники над человеком, если понимать ее в широком смысле, не является специфически модерновым феноменом — эта власть универсальна и имманентно характеризует культурную жизнь в целом. Рассуждая в стиле М. Маклюэна, можно говорить о технике как о «медиа» — совокупности способов и средств, используемых людьми в процессе установления физических и ментальных контактов, осуществления коммуникации с миром и друг с другом. Техника включает орудия, аппарат и модели такой коммуникации. Развертывая свой главный тезис — The Medium is the Message, Маклюэн стремится показать, что средства и способы коммуникации как «внешние расширения или продолжения человека» влияют на характер коммуникации, формируют психотип ее участников и конфигурации складывающихся между ними социальных отношений.
Техническое средство фактически задает правила и способы работы с информацией, ее восприятия, считывания и потребления, оперирования данными. Например, формы представления и бытования информации в компьютерах при наличии доступа в Интернет в эпоху смартфонов и мобильной связи обрекают человека без электронной коробочки на беспомощность, приводят к частичной деградации памяти, мышления, воображения и т.п. Новоявленный хозяин цифровой эпохи, лишенный канала выхода в глобальную сеть, имеет все основания почувствовать себя ничтожеством, не способным сделать ни шагу в опасном и незнакомом мире (когда нет возможности «погуглить»). Это было бы очень похоже на ситуацию полного отказа систем навигации и управления на космическом корабле, самолете или судне — когда под тобой или над тобой лишь облака или черная мгла, звезды погасли, мачты поломались, компас не работает, мотор не заводится, кнопки не нажимаются, штурвал не крутится, паруса порвались, карты и судовые журналы сгорели. Техника самим своим устройством и способом функционирования навязывает модель общения с людьми и вещами, и если я в рамках конкретной культуры не владею определенным набором навыков, она меня оставляет за бортом, репрессирует. И если техника перестраивается (а в новейшую эпоху она делает это очень быстро), я должен перестраиваться вслед за ней.
Обычно культура всему этому учит своих членов, а влияние техник жизни является подспудным. Способ использования чего-то, форма подачи, инструмент, метод не менее важны, чем содержание деятельности. И все это более или менее навязано обществом, принудительно, даже если и не осознается в таком ключе. Особого выбора у индивида нет — он должен приспосабливаться к явным и латентным требованиям технокоммуникационной среды своего времени и физически (на уровне «техник тела»), и ментально (думать, говорить и запоминать так-то). Разные гаджеты и культурно-технические артефакты требуют выработки и освоения разных навыков: написание текстов пером или шариковой ручкой, работа с кнопочными устройствами или нажатие на панели сенсорного экрана, ношение римской тоги или азиатского халата, лаптей или сапог, еда ложкой, вилкой, руками или палочками, разговоры по мобильному или стационарному телефону, обработка земли и дробление грунта при помощи лопаты, тяпки, мотыги или кирки, техники убийства при посредстве холодного или огнестрельного оружия, чтение коротких рассказов или длинных романов, просмотр многочасовых театральных представлений или клипов и т.д. — все это надо уметь делать, и переходить с одного формата на другой порой бывает достаточно сложно. Так осуществляется давление зиммелевских культурных форм на жизнь.
Чтобы осознать характер и меру воздействия технически-коммуникационного медиума на социальные практики, оценить его конституирующую, формообразующую роль для человеческой активности, желательно «посмотреть со стороны», так как влияние технически-коммуникационных арсеналов в повседневном опыте бывает глубоко интернализовано. Говоря словами Маклюэна, «когда мы хотим обрести точку опоры в собственной культуре и нуждаемся в принятии отстраненной позиции по отношению к принуждению и давлению, которое оказывает на нас любая техническая форма человеческого самовыражения, нам нужно просто наведаться в общество, в котором эта конкретная форма никогда не ощущалась, или обратиться к какому-нибудь историческому периоду, когда она была неизвестна» [9. С. 23–24]. Например, сегодня достаточно спросить у мам и пап, бабушек и дедушек: каково это было — жить без Интернета?
В последние десятилетия технологические трансформации становятся столь стремительными, что целые поколения оказываются заложниками навязчивой тотальной новизны, не имея шанса воспрепятствовать врывающемуся в жизнь всех и каждого ветру перемен. Когда конкретные технологические уклады перманентно изменяются, не успевая толком утвердиться, люди испытывают шок. Одновременно они имеют возможность сравнивать — что было утрачено, а что приобретено в результате раскручивания очередного витка технологической революции, происходящей на их глазах; они еще помнят, как было вчера, до «ухода общества в цифру», и видят, как стало сегодня — когда этот уход большей частью свершился.
Модерн XIX–ХХ столетий вышагивал по земле уверенно, ступал твердой поступью. «Текучий модерн» XXI века мчится на всех парах, с бешеной скоростью, в неопределенном направлении, по ломаной траектории [1]. Еще недавно «среднему» человеку, не хватающему звезд с неба, был навязан монотонный труд и потогонная система на производстве или в офисе (сегодня их никто не отменял). Теперь ему навязаны вдобавок к этому (в известных комбинациях с сохраняющимися «прелестями» индустриального модерна) не прекращающиеся принудительные изменения, жизненная и карьерная гонка как нормализованный биографический паттерн, ожидания постоянного роста и успеха, стремление к ускользающим целям, вездесущие инновации и наращивающее обороты принудительное потребление. Все это сопровождается всеобщим стрессом, провоцирует боязнь отстать, выпасть из обоймы и т.п. Компьютерное рабство не лучше рабства бумажного, конторского или фабрично-заводского. В итоге к пленникам стального мира присоединяется новая армия невольников — обитателей силиконовой, микропроцессорной, электронно-виртуальной вселенной.
Логика «казенного века»: жизнь и работа в «ритме вещей»
Отчуждение человека в обществах модерна (в том числе отчуждение труда) могло приобретать разные формы и видоизменяться по мере того, как эти общества эволюционировали. Так, Маркс в XIX веке имел перед глазами вполне определенную картину: фабричного рабочего, занятого изнурительным физическим трудом на предприятии, находящемся в чьих-то частных руках и управляемом собственником средств производства. За это рабочему полагалось «несправедливое» вознаграждение (от вопиюще несправедливого до терпимого), и источниками отчуждения работника были два основных фактора: собственность (предметы, средства, орудия, продукты и результаты труда работнику не принадлежат) и оплата труда (мало платят). Труд является фактически подневольным и объективно навязан человеку его положением, поскольку он не способен прокормить себя иначе, даже если утверждается формально-юридическое равенство участников хозяйственных отношений, а институты внеэкономического принуждения (рабство, крепостничество) перекочевали на страницы учебников истории.
Параметр «мало платят» оказался, вероятно, самым нестойким фактором отчуждения, поскольку ситуация с размерами оплаты труда во многих странах (прежде всего, в экономически развитых) постепенно начала исправляться, хотя об окончательном решении вопроса справедливой оплаты труда в мировых масштабах говорить не приходится. Гораздо сложнее и печальнее обстояло дело с фактором собственности. Весомой причиной отчуждения оказалась не столько капиталистическая частная собственность как таковая, сколько специфическое для зрелого модерна отделение работника от средств производства. Вебер во многих произведениях не уставал повторять (в том числе полемизируя с социалистами) [4. С. 309–312]: отделение работника от средств производства, т.е. то, в чем социалисты любят упрекать капиталистическую систему, не следует считать исключительным «пороком и изъяном» частно-хозяйственной экономической системы, оно является особенностью современных обществ в самых разных сферах — не только на фабрике, но и в университетах, армии, государственном и муниципальном управлении, и т.д. И сегодня почти любая (3) профессиональная деятельность — физическая и умственная — отделена от «средств производства», и в этом смысле не автономна, подчинена корпорации, государству, университету, армии, т.е. бюрократическому аппарату, который господствует в этих иерархизированных структурах.
В былые времена (традиционных обществах) ремесленник, феодал любого уровня, военный в самоэкипирующейся армии, владелец доходной должности, в том числе чиновник, поставленный патримониальным сеньором для сбора налогов, был в большей или меньшей степени «хозяином своего дела», действовал по своему усмотрению и на свой страх и риск, приобретал все, что нужно для работы, издержки оплачивал из своего кармана. Сегодня человек — просто винтик «рациональной» машинерии, где все кругом — казенное (оборудование, помещение, расходные материалы и т.д.), и подчинен он не личности, а структуре. К представителям бюрократического корпуса это тоже относится — все служат. Типичный работник больше себе не хозяин, он пролетаризирован, выступает как слуга аппарата и организации [7; 14; 19; 20]. И весь опыт строительства государственного социализма как альтернативного (капиталистическому) проекта модерна лишь подтвердил справедливость диагноза Вебера. Господство человека над человеком сменяется господством анонимной и деперсонифицированной технобюрократической структуры, хотя управленческие и исполнительские функции в ней продолжают выполнять вполне конкретные люди.
В ХХ веке организация промышленного производства менялась вместе с профессиональной структурой общества, чему способствовали и технико-экономические нововведения. Появился конвейер, на многих, прежде всего крупных, предприятиях был внедрен тейлоризм. Вместе с тем рабочий, выполняющий тяжелые мускульные операции, перестал восприниматься как единственный объект эксплуатации в индустриальном обществе. Стало понятно, что бюро (со столами и стульями) и заводской цех (со станками) по логике функционирования не так уж отличаются друг от друга, а белых и синих воротничков при всех их социально-стратификационных («классовых») и культурно-индентификационных отличиях можно считать «товарищами по несчастью» с некоторыми второстепенными «цветовыми» вариациями (например, белые воротнички надо чаще стирать). Специфическое отчуждение служащего, клерка, чиновника, офисно-конторского работника стало излюбленным сюжетом критически ориентированных социальных исследований, рефлексии в философии и публицистике, изобразительном искусстве, литературе и кинематографе.
В реалиях ХХ века стало понятно, что между логикой и механизмами технической и бюрократической рациональности присутствует «избирательное сродство» — обе выступают лишь разновидностями инструментальной рациональности, работающей с элементами природного и человеческого миров в сходной манере — оперирующей и манипулирующей людьми как средствами, как если бы они были вещами, выполняющими в оптимизируемом технобюрократией процессе целедостижения определенные функции. В этом смысле организационный космос современности может быть представлен как многоуровневая технобюрократическая структура, осуществляющая управление, регламентацию и контроль в отношении любых объектов и явлений, как только те попадают в ее «заботливые руки». Поэтому образ человека как придатка машины описывает не только ситуацию в области промышленного производства; сама метафора работника, ощущающего себя безликим винтиком гигантского механизма, применима и к профессиональным средам за пределами заводов и фабрик.
Наряду с экономическими предпосылками отчуждения работника (отделение от средств производства, заработная плата) дегуманизирующий эффект могут оказывать условия, содержание и характер труда, которые по сравнению с эпохой раннего индустриализма существенно изменились. Классики социальных наук от Спенсера до Парсонса учат нас, что одной из важнейших тенденций общественно-исторической эволюции выступает социальная дифференциация. Разделение труда и специализация деятельности положены в основание функциональной организации большинства современных институциональных структур. Специализация профессиональных ролей оборачивается фрагментацией деятельностных репертуаров социальных акторов (в век специализации, по Веберу [3] нас ожидает «ледяная полярная ночь» и много мелкой, частной работы). Возвышенно-поэтические эпохи, почитавшие универсальное и разностороннее, остались в прошлом, а нас ожидает много мелкой работы.
Параллельно с этими изменениями и под влиянием общей рационализации социальных отношений все более обнаруживают себя стандартизация и алгоритмизация как доминирующие паттерны поведения, особенно в профессиональной сфере. Техника и ее массовое внедрение в производственный процесс стандартизируют деятельность человека, призванного ее обслуживать. Ритм и логика рабочих операций — телесно-двигательных и рассудочно-интеллектуальных — задаются машиной и программой ее функционирования. Человек вынужден подстраиваться, вписываться в этот ритм.
О характере механизации физического и умственного труда в организациях и на предприятиях передовых в экономическом отношении стран (середины ХХ века) жестко высказывался Г. Маркузе: «Внутри технологического целого механизированный труд, большую часть которого… составляют автоматические и полуавтоматические реакции, остается в качестве пожизненной профессии изнурительным, отупляющим, бесчеловечным рабством — причем даже более истощительным вследствие увеличения скорости, усиления контроля над машинными операторами (в большей степени, чем над продуктом) и изоляции рабочих друг от друга. Такая форма монотонной работы характерна, конечно, для частичной автоматизации с одновременным существованием автоматизированных, полуавтоматизированных и неавтоматизированных секций в пределах одного предприятия, но даже в этих условиях „технология заменила мускульную усталость напряжением и/или умственным усилием“… Не слишком существенно отличается от этого вида порабощения труд машинистки, банковского кассира, назойливого продавца и теледиктора. Стандартизация и рутина сравнивают продуктивные и непродуктивные профессии. На предшествующих этапах развития капитализма пролетарий выполнял роль вьючной скотины, трудом своего тела зарабатывая предметы первой необходимости и роскоши и продолжая при этом жить в грязи и бедности. Он был живым приговором своему обществу. Напротив, в жизни современного рабочего в развитых странах технологического общества это отрицание гораздо менее заметно; как и другие живые объекты общественного разделения труда, он втянут в технологическое сообщество управляемого населения. Более того, в районах наиболее успешной автоматизации биологическая сторона человека, кажется, становится частью технологического целого. Машина как бы по капле вливает отравляющий ритм в операторов… „Вообще говоря, мы живем в ритме вещей“ [Маркузе приводит суждение одного рабочего]. Эта фраза прекрасно выражает перемену в механическом порабощении: вещи скорее задают ритм, чем угнетают, ритм человеку как инструменту, т.е. не только его телу, но также его уму и даже душе» [10. С. 34–36].
Прекраснодушная мифологема о творческом работнике, свободно, виртуозно и по своему усмотрению управляющем машинами и механизмами разной степени сложности, продолжает будоражить воображение технооптимистов. Согласно их взглядам, на могучие плечи послушной техники ее мудрым создателем перекладывается все самое неприятное в труде, он освобождается не только от физически тяжелого труда, но и от утомительных и обременительных рутин любого производственного процесса. В действительности же оказывается, что творец не так уж мудр (и предусмотрителен в плане оценки непредвиденных последствий своих изобретений), а творение — не столь уж послушно. В танце человека и машины импровизировать в непринужденном ритме вальса, легко переходящем по желанию танцующих в танго или фокстрот, не всегда получается, потому что «партнер» настроен находить более мелодичными монотонно-циклические звуки вращающихся шестеренок, рев двигателей, гул турбин, стрекотание компьютера и т.п. Техническое устройство может иметь несколько режимов работы, но каждый из них диктует человеку определенный способ действий и движений (умственных и физических), представимых в виде ряда типовых повторяющихся операций.
Если труд стандартизирован, то человеку скучно, потому что все время приходится делать одно и то же, притом одинаковым образом. Если выполняются стандартизированные операции, то люди принципиально заменимы в труде, не уникальны (что может быть хорошо и удобно для организации, но не для работника). Если труд фрагментирован, то не реализуется разносторонняя природа человека (если, конечно, мы верим в таковую). Возможно, работник также не понимает, зачем и кому нужно то, чем ему приходится заниматься (если его не удовлетворяет аргумент, что ему за это платят деньги). Вероятно, он даже считает свою работу бессмысленной, или «бредовой» (по Д. Греберу). Если труд слишком интенсивен, то человек устает (в отличие от техники, которая ломается). Работающий в интенсивном ритме человек рано или поздно выдыхается, выбивается из сил (даже если работа не требует серьезных затрат физической энергии). К однообразию, рутине и фрагментации могут прибавляться и навязанные извне изменения, на которые надо должным образом реагировать. Работа может казаться содержательно неинтересной, трудовые будни могут протекать в условиях строгой дисциплины и под постоянным контролем начальства или специальных служб, осуществляющих функции надзора и наказания, что скорее всего будет порождать боязнь проштрафиться, спровоцировать нарекания коллег или руководства. Действие упомянутых факторов способствует формированию того субъективного состояния (как закономерной реакции на отчуждение), которое сегодня называют «выгоранием».
Все эти стороны комплексного феномена отчуждения труда неоднократно становились предметом научного анализа, в том числе эмпирического. Особый интерес представляют послевоенные исследования по индустриальной социологии, следующие традиции критической теории (например, работы Ф. Поллока и Ж. Фридмана [13; 17; 18]). У ученых не было сомнения в том, что автоматизация производственных процессов является социальным благом в той мере, в какой частично освобождает человека и дает ему досуг (4). Однако наряду с этим фиксировались такие качества трудовой деятельности в условиях автоматизации, как избыточное разделение функций, требование предельного напряжения внимания, неспособность человека мысленно охватить производственный процесс в его целостности и «бессмысленность» для конкретного работника, жесткая регламентация, координация, интенсивность, высокие скорости, стандартизация, бесперебойный ритм, повышенная ответственность в случае срыва работы автоматизированной системы производства и т.п. Автоматика, может быть, и требует от работника более серьезных знаний и сложных навыков, делает труд отчасти более интеллектуальным, но все равно неизбежно диктует свои программно-аппаратные принципы функционирования, привязывает к себе, ставит в зависимость от себя.
Здесь в очередной раз воспроизводится типичный для критики индустриальной эпохи сюжет: эстетизирующая романтизация творческого (с высокой долей импровизации) виртуозного ручного, штучно-кустарного труда ремесленника (техническое мастерство граничит с искусством, уникальный продукт создается для индивидуального заказчика) в противоположность механическому, стандартизированному, узкоспециализированному, поточно-серийному труду фабричного рабочего, обслуживающего машины и станки на современных предприятиях. Этот мотив можно найти у ряда авторов еще в XIX веке, например, у Дж. Рескина — ровесника Маркса, имевшего возможность наблюдать у себя на родине в Британии за развитием капитализма в его наиболее чистых, классических формах. Отчасти идеализируемый работник премодерновой эпохи, например, средневековый ремесленник, реализовывал себя в труде, был разносторонним универсалом, мастером на все руки (как и виртуозы умственного труда — ученые и философы «старого стиля», интересовавшиеся буквально всем на свете). В индустриальную эпоху работник — узкий специалист, выполняющий пусть сложные и требующие особой профессиональной подготовки, но все же стандартные операции, отчужденный, вырванный из естественного течения жизни, нетворческий. И если эта сопоставительная оценка образов человека труда разных эпох имеет под собой хоть какую-то эмпирическую почву, то приходится констатировать, как это делает Ж. Фридман, усугубляющееся противоречие между ценностно легитимированным в европейской культуре представлением о человеке как субъекте, активном, творческом, реализующем себя в труде, и его действительной, фактической, часто неявной скованностью узами технической цивилизации [13. С. 190].
Анонимность и фрагментация: человек модерна в большом городе
Неудивительно, что восстание цифр, как и восстание машин, в эпоху модерна разворачивается, прежде всего, на улицах больших городов. Урбанизация является одним из важнейших объективных измерений процесса модернизации. Мегаполис становится наиболее благоприятной социально-экологической средой для выращивания институтов и практик современности из духа инструментальной рациональности. Тема взаимосвязи особенностей городской жизни, с одной стороны, и культуры модерна — с другой, была еще на рубеже XIX–XX веков нащупана Зиммелем [6], а впоследствии стала одной из центральных в интеллектуальной традиции Чикагской социологической школы. В каком-то смысле становление обществ модерна может быть объяснено как специфическое следствие укрупнения социальных агрегатов, запускающего процессы социальной дифференциации. Говоря языком Г. Спенсера, социальный организм растет, наращивает массу, а за этим следует структурная и функциональная дифференциация его частей. Люди живут все кучнее, и этот экологический факт выступает предпосылкой усиливающейся специализации ролей и разделения труда. Плотные и тесные социальные связи гемайншафтного типа эффективно работают в малых (и обычно четко территориально локализованных) коллективах, а в городах постепенно разлагаются. Классическая Чикагская дефиниция: «город есть относительно крупная, плотно сконцентрированная агрегация гетерогенных индивидов, живущих в условиях анонимности, безличных отношений и косвенного контроля» [5. С. 120]. Потому что «большая численность населения предполагает индивидуальную изменчивость, относительное отсутствие близкого личного знакомства, сегментацию человеческих связей и их анонимный, поверхностный, безличный, мимолетный и утилитарный характер» [5. С. 136].
Жизнь горожанина — негомогенная, мозаичная, похожая на калейдоскоп, в котором постоянно перещелкиваются, сменяя друг друга, мелкодробные, коллажированные картинки (не обязательно симметричные и визуально гармонические). В городе мы ежедневно вступаем во взаимодействие с десятками или даже сотнями людей, но при этом можем не знать собственных соседей. Наши социальные связи множественные, но слабые. Результатом фрагментации ролей человека в большом городе может быть «раскол» личности: человек почти нигде не выступает как целостная индивидуальность, представая в разных социальных ситуациях как «осколок» остающегося в тени, выносимого за скобки интеракции личностного единства. Из этих осколков склеивается, собирается механический ролевой конгломерат.
Л. Вирт в программном очерке «Урбанизм как образ жизни» разбирает социологическую головоломку феномена города и его культурных импликаций: «Увеличение числа лиц, находящихся в состоянии взаимодействия в условиях, делающих контакт между ними как полными личностями невозможным, вызывает… сегментацию человеческих отношений… Как правило, горожане встречаются друг с другом в очень частных ролях. В удовлетворении жизненных потребностей они, разумеется, зависят от большего числа людей, чем сельские жители, и, следовательно, связаны с большим числом организованных групп; но они меньше зависят от конкретных лиц, и их зависимость от других ограничивается крайне узким аспектом круга деятельности другого… Контакты в городе, даже если происходят лицом-к-лицу, являются безличными, поверхностными, мимолетными… Поверхностность, анонимность и мимолетность городских социальных связей позволяют понять ту умственную изощренность и ту рациональность, которые обычно приписывают обитателям городов. Наши знакомые обычно связаны с нами отношениями полезности, в том смысле, что роль, играемая каждым из них в нашей жизни, рассматривается нами всецело как средство для достижения наших целей… Хотя город, рекрутируя для выполнения своих разных задач разные типы людей, выпячивая посредством конкуренции их уникальность, превознося эксцентричность, новизну, эффективность и изобретательность, создает крайне дифференцированное население, он оказывает на людей и нивелирующее влияние. Везде, где скапливается большое количество по-разному устроенных индивидов, начинается также и процесс деперсонализации. Эта нивелирующая тенденция коренится отчасти в экономическом базисе города... Развитие фабрики сделало возможным массовое производство товаров для безличного рынка. Однако максимально полное использование возможностей, заложенных в разделении труда и массовом производстве, немыслимо без стандартизации процессов и продуктов. Рука об руку с такой системой производства идет денежная система. По мере того как на базе этой системы производства шло развитие городов, личные отношения как основа прежней ассоциации вытеснялись денежными связями, предполагающими продажность услуг и вещей. В этих условиях индивидуальность неизбежно должна быть вытеснена категориями» [5. С. 105, 110–111] (5).
Используя терминологию парсонсианской концепции «типовых переменных действия», можно сказать, что доминирующий тип отношений жителей мегаполисов характеризуется специфичностью, универсализмом и аффективной нейтральностью, образуя разительный контраст с «настройкой» социальных связей гемайншафтного мира сел и маленьких городков, где более релевантными параметрами действия являются, наоборот, диффузность, партикуляризм и аффективность. Это значит, что «в норме» в отношениях с произвольно взятым другим (не близким), включая и ожидаемую от него ответную реакцию, (1) все должно быть строго по делу; все, что к данному делу не относится, в расчет не принимается; не нужно смешивать разные ролевые и ситуационные контексты; (2) при решении конкретных дел следует держаться неких общих правил и принципов, предписывающих определенный способ действия в определенных ситуациях; поступать, «невзирая на лица», «не делая ни для кого исключений»; (3) любые чувства рекомендуется держать при себе, они никого не касаются кроме индивида.
Отсюда и основные черты городской жизни, особенности соответствующего ей ментально-психологического склада и доминирующего стиля социальных интеракций: равнодушие, холодность, отстраненность, трезвый расчет, анонимность, формальность, абстрактность, стандартизированность, деперсонализация и деиндивидуализация (в сочетании с обостренным индивидуализмом и стремлением личности к утверждению и охране границ своего Я), отсутствие близости, дистанцированность, чувства одиночества, оставленности, заброшенности, социальная и психологическая атомизация и т.д. Снова повторяется сюжет: другой для меня — лишь «вещь», причем заменимая, средство, как и я для него. В больших человеческих агрегациях такое положение, как «норма» публичной жизни, почти неизбежно (6). Невозможно (и психологически крайне затратно) находиться в тесной эмоциональной связи со множеством людей. Невозможно (чисто технически и из-за ограниченности времени) знать их близко и относиться к ним ко всем как к уникальным личностям. В таких условиях расставляемые людьми межличностные дистанции и границы играют роль предохранителей от психологического перенапряжения и гарантий невмешательства в сферу приватной жизни.
С другой стороны, деньги в городе выступают удобным (и незаменимым) посредником социальных трансакций, способным не только разрушать и разделять, но и сближать, наводить мосты в совместных делах. Большинство интеракций городских жителей предстают как фрагментарные контакты носителей фрагментарных ролей, а не как глубинные взаимосвязи целостных индивидуальностей, полные драматизма душевного притяжения или отталкивания. Потому что до вашей особости и уникальности, как бы вы с ней ни носились и активно ни демонстрировали, окружающим незнакомым или малознакомым людям нет никакого дела. Ведь они даже со своей неповторимостью и инаковостью толком справиться не могут. Воздух города частично освобождает, но ценой эмансипации оказываются рост отчуждения и структурно обусловленное ослабление «социального магнетизма» любви, а глобально (по Зиммелю) — опустошение «сосуда» социального формообразования и выхолащивание его специфически человеческого содержания.
***
Историческая эволюция обществ модернового типа длилась несколько столетий и не завершена сегодня. Нет достаточных оснований отказываться от известной формулы Ю. Хабермаса: модерн все еще остается незавершенным проектом. Не следует и приуменьшать значительность и фундаментальный характер тех изменений, которые наблюдались в большинстве точек земного шара в последние 30–70 лет. Постиндустриальное, пост- или уже постпостмодернистское общество [11], общество потребления, информационное общество, цифровое общество, текучая современность и т.д. — эти и многие другие номинации имеют право на существование и описывают специфику текущего момента в судьбах разных поколений, живущих (и живших) после окончания Второй мировой войны.
Гипердинамичное, почти сверхзвуковое общество наших дней по ряду существенных параметров отличается от грохочущей индустриальной цивилизации первой половины минувшего века. К примеру, историк-медиевист мог бы указать на десятки принципиальных несходств между эпохой Меровингов и эпохой Крестовых походов, хотя и ту, и другую привык вписывать в исторический идеальный тип «Средневековья» (осознавая условность любых периодизаций). И у такой общей номинации (Средневековья — долгого или короткого, включающего или не включающего Ренессанс, отличного от Античности или Нового времени) имеются свои резоны. Приблизительно так же дело обстоит и с современностью. Капитализм во времена А. Смита отличался от капитализма, который довелось наблюдать и анализировать К. Марксу. М. Вебер, Г. Зиммель, В. Зомбарт, Ф. Теннис, О. Шпенглер, В. Ратенау и др. диагностировали новую фазу модерна. Р. Парк, Л. Вирт, Х. Ортега-и-Гассет, К. Ясперс, А. Грамши, Д. Лукач, М. Хоркхаймер, Т. Адорно, З. Кракауэр, Г. Маркузе, Э. Фромм, Д. Рисмен, Ч.Р. Миллс, У.Х. Уайт, Л. Мамфорд, Ж. Эллюль, Ж. Фридман, Ж. Бодрийяр, И. Валлерстайн, З. Бауман, Э. Гидденс, Дж. Ритцер, Р. Сеннет и др. портретировали то общество, современниками которого являлись, не переставая оглядываться в прошлое (поскольку модерн признан глобальным социальным фактом, имеющим глобальную историческую генеалогию).
Общество модерна все время перевоплощается — раньше оно делало это медленнее, теперь быстрее. Вдобавок уже несколько десятилетий — с легкой руки и под влиянием авторитета исторических социологов — принято говорить о современности во множественном числе (multiple modernities). Однако при этом модерн продолжает оставаться самим собой, т.е. может быть выявлен ряд его черт (точнее — обществ такого типа), которые сохраняют условную инвариантность при изменении географических координат и времени наблюдения. Обнаружение черт постоянства в изменчивом, выявление компонента единообразия в многообразном, непреходящего в преходящем — одна из задач философии и социальной теории, поэтому, перечитывая Маркса, Зиммеля, Вебера и др. сегодня, мы узнаем что-то о нашем настоящем.
Примечания
- В русскоязычном переводе работы Лефора используется написание «нуеры». Также переводчики книги употребляют русифицированную форму его фамилии — Лефорт.
- Вполне показательна резкая реакция М. Маклюэна на суждения подобного типа (даже если с ней не во всем стоит соглашаться, особенно в части художественных аналогий): «Несколько лет назад генерал Давид Сарнофф, принимая почетную степень от Нотр-Дамского университета, произнес такие слова: „Мы слишком предрасположены делать технологические инструменты козлами отпущения за грехи тех, кто ими орудует. Продукты современной науки сами по себе ни хороши, ни плохи; их ценность определяется тем, как они используются“. Это глас современного сомнамбулизма. Представьте, что мы сказали бы: „Яблочный пирог сам по себе не хорош и не плох; его ценность определяется тем, как его используют“. Или: „Вирус оспы сам по себе не хорош и не плох; его ценность определяется тем, как его используют“. Или, опять же: „Огнестрельное оружие само по себе не хорошее и не плохое; его ценность определяется тем, какое ему дают применение“. Иначе говоря, если пули попадают в тех, в кого надо, огнестрельное оружие становится хорошим. Если телевизионный экран обстреливает нужными боеприпасами нужных людей, то он хорош. И тут я нисколько не передергиваю. Просто в утверждении Сарноффа нет ничего, что выдержало бы проверку, ибо оно игнорирует природу средств коммуникации» [9. С. 13–14]. И далее следует категоричный вывод: «Наша обычная реакция на все средства коммуникации, состоящая в том, что якобы значение имеет только то, как они используются, — это оцепенелая позиция технологического идиота» [9. С. 22].
- Конечно, имеются многочисленные исключения, особенно среди самозанятых и в мелком частном бизнесе, но они все же не определяют «лицо эпохи».
- Хотя неясно, как именно он образовавшимся досугом воспользуется. Этот вопрос подводит нас вплотную к проблематике концепций общества потребления. Модификации и трансформации феномена отчуждения в эпоху «высокого консьюмеризма» заслуживают специального рассмотрения и представляют собой особую тему, требующую анализа иных источников (например, работ Ж. Бодрийяра [2], Дж. Ритцера [12] и др.). Отчуждение досуга и отчуждение труда в развитых индустриальных и постиндустриальных обществах (второй половины ХХ — первых десятилетий XXI века) соседствуют, подпитывая и взаимообусловливая друг друга.
- Носитель фрагментарной роли легко вписывается в системы социальной категоризации, работающие на уровне повседневности и помогающие людям прагматически каталогизировать многоцветие общественной жизни. Другой определяется как тип, т.е. представитель определенного класса (принятие во внимание большого количества не имеющих отношения к делу индивидуальных особенностей обычно обременительно и усложняет процедуру каталогизации). Вот здесь и сейчас передо мной: полицейский, врач, продавец, таксист, аниматор, развлекающий моих детей, работник бюро ритуальных услуг, организующий похороны моей тещи и т.п. Взаимодействие с каждым из типов выстраивается на основании адресации к определенному шаблону или образцу поведения: с продавцом в магазине расплачиваемся — независимо от не релевантных ситуации (покупки товара) особенностей продавца (цвета его/ее глаз, размера обуви, семейного положения, этнической принадлежности, возраста и т.п.).
- Что, разумеется, не отменяет возможности поддержания отношений иного типа и на иных основаниях (семейных, дружеских и т.п.).
Об авторах
Денис Глебович Подвойский
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова; Российский университет дружбы народов; Институт социологии ФНИСЦ РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: dpodvoiski@yandex.ru
кандидат философских наук, доцент кафедры социальной философии и философии истории Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова; доцент кафедры социологии Российского университета дружбы народов; ведущий научный сотрудник отдела теории и истории социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук
Ломоносовский просп., 27, к. 4, ГСП-1, Москва, 119991, Россия; ул. Миклухо-Маклая, 6, Москва, 117198, Россия; ул. Кржижановского, 24/35, к. 5, Москва, 117218, РоссияСписок литературы
- Бауман З. Текучая современность. СПб., 2008.
- Бодрийяр Ж. Общество потребления: Его мифы и структуры. М., 2006.
- Вебер М. Наука как призвание и профессия // Вебер М. Избранные произведения. М., 1990.
- Вебер М. Социализм // Вебер М. Политические работы. М., 2003.
- Вирт Л. Избранные работы по социологии. М., 2005.
- Зиммель Г. Большие города и духовная жизнь // Логос. 2002. № 3.
- Кракауэр З. Служащие: из жизни современной Германии. Екатеринбург-М., 2015.
- Лефорт К. Отчуждение как социологическое понятие // Лефорт К. Формы истории: очерки политической антропологии. СПб., 2007.
- Маклюэн Г.M. Понимание Медиа: Внешние расширения человека. М., 2007.
- Маркузе Г. Одномерный человек. М., 1994.
- Павлов А.В. Постпостмодернизм: как социальная и культурная теории объясняют наше время. М., 2019.
- Ритцер Дж. Макдональдизация общества 5. М., 2011.
- Тавризян Г.М. Философы ХХ века о технике и «технической цивилизации». М., 2009.
- Уайт У.Х. Организационный человек // Личность. Культура. Общество. 2002. Вып. 13-14; 2003. Вып. 15-16, 17-18; 2005. Вып. 25.
- Шпенглер О. Человек и техника // Культурология. ХХ век. М., 1995.
- Эванс-Причард Э.Э. Нуэры. М., 1985.
- Friedmann G. Le travail en miettes: spécialisation et loisirs. Paris, 1976.
- Pollock F. Automation. Materialien zur Beurteilung der ökonomischen und sozialen Folgen. Frankfurt a. M., 1964.
- Whyte W.H. The Organization Man. Philadelphia, 2002.
- Wright Mills С. White Collar: The American Middle Classes. N.Y., 2002.