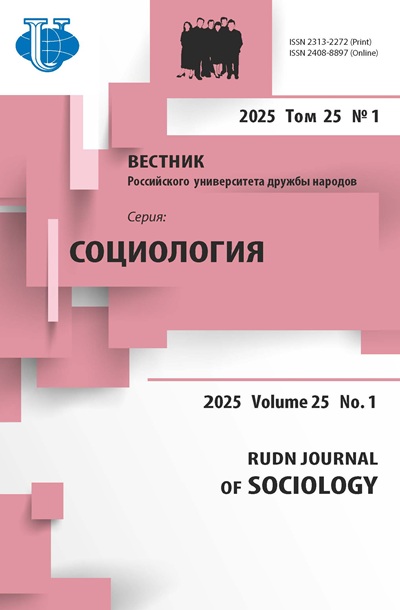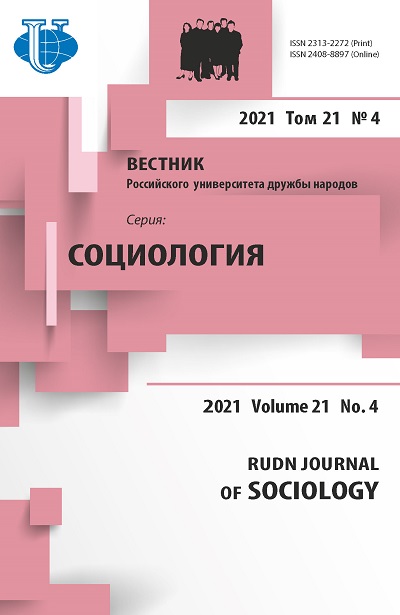Классовая идентичность рабочей молодежи современной России
- Авторы: Гаврилюк В.В.1, Гаврилюк Т.В.1
-
Учреждения:
- Тюменский индустриальный университет
- Выпуск: Том 21, № 4 (2021)
- Страницы: 839-854
- Раздел: Современное общество: актуальные проблемы и перспективы развития
- URL: https://journals.rudn.ru/sociology/article/view/29622
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-2272-2021-21-4-839-854
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Статья посвящена анализу социального самоопределения российской рабочей молодежи, выявлению ее классовой идентичности. Актуальность темы обусловлена необходимостью поиска базовых признаков идентичности рабочего класса постиндустриальной эпохи в связи с принципиальными отличиями наемного труда в отраслях сферы услуг от труда рабочих промышленных предприятий. В статье представлен обзор современных концепций множественной и фрагментарной идентичности, обозначены основные векторы полемики о специфике идентификационных процессов и политике идентичности в современных обществах. Обозначены базовые признаки идентификации представителей рабочего класса постиндустриальной эпохи: характер и содержание труда; владение собственностью и участие в управлении предприятием. Современный рабочий класс определяется как негомогенное образование, внутренняя дифференциация которого вызвана такими факторами, как форма найма, сфера занятости, уровень доходов, стиль жизни и культурный капитал. Эмпирическая часть исследования реализована в Уральском федеральном округе в 2018 году с помощью массового и экспертного опросов. Результаты исследования свидетельствуют, что в российском обществе активно идет процесс формирования классов, следовательно, целесообразно возрождение классового подхода к описанию социальной структуры. Более 50% молодых людей, принадлежащих к традиционному промышленному рабочему классу, по-прежнему идентифицируют себя с данной социальной группой. Среди работников рутинизированного сервиса с рабочим классом отождествляют себя чуть более 30%. Идентификация со средним классом теряет популярность. Эмпирические данные говорят о парадоксальности мышления рабочей молодежи, неустойчивости ее базовых ориентиров. Противоречивые оценки и высказывания респондентов подтверждают размытость классового сознания и неустойчивость классовой идентичности.
Ключевые слова
Полный текст
Фундаментальные изменения в социальной структуре развитых стран во второй половине ХХ века, обусловленные глобальными трансформациями мировой экономики, изменили и статус рабочего класса. Принципиальные отличия наемного труда на высокотехнологичных предприятиях и в отраслях сферы услуг от предшествующих форм труда рабочих стали основанием для поиска базовых признаков идентичности рабочего класса постиндустриальной эпохи. Очевидно, что основные параметры классообразования — характер и содержание труда, владение собственностью и участие в управлении предприятием — могут выступать индикаторами идентичности больших социальных групп. Безусловным дифференцирующим фактором является уровень доходов, а степень рутинизации труда, различия в стиле жизни и культурном капитале — менее очевидные факторы неоднородности современного рабочего класса [14. C. 354].
Условия труда, формы гражданской активности, идентичность и стили жизни представителей современного рабочего класса кардинально отличаются от аналогичных характеристик рабочего класса индустриальной эпохи. Традиционный промышленный рабочий класс сегодня представляет собой лишь одну из подгрупп и более не способен формировать смысловые основания коллективной идентичности данного сообщества в условиях неолиберальной экономики и идеологии. Большая часть рабочего класса постиндустриальных обществ представлена работниками рутинизированного (далеко не всегда физического) труда, занятыми в сервисном секторе. Работники промышленности, транспорта, строительства и технического обслуживания, традиционно относимые к рабочему классу, составляют сегодня менее трети его представителей в развитых странах [38]. В России сервисный сектор как наиболее динамично развивающийся также стал сферой оттока трудовых ресурсов из рабочего класса [5].
Значимой проблемой рассматриваемой социальной группы стало отсутствие устойчивых форм солидаризации и классовой идентификации. Дискурс индивидуализма, беспрецедентное развитие технологий наблюдения и контроля породили новые формы эксплуатации в цифровом капитализме. Самоопределение в классовых терминах утратило доминирующую роль и в России, и за рубежом, отмечается глубокое чувство невозможности изменить свою жизнь и условия труда, т.е. отсутствие «классового сознания» [27; 32]. Фрагментация социальных групп и кризис идентичности приводят к деформации прежних форм консолидации и институционализации классовых интересов. Традиционно интересы рабочего класса преобразовывались в коллективное действие посредством партий и профсоюзов, а сегодня групповые конфликты и интересы все чаще переносятся в область потребления [34]. Повсеместно наблюдаемый рост социального неравенства ухудшает социально-экономические условия труда и жизни рабочего класса в глобальном масштабе [41]. Наиболее уязвимой группой является рабочая молодежь, чьи жизненные шансы изначально ограничены, а в современных структурных условиях становятся еще ниже. Эти проблемы особенно актуальны для молодых работников сервисного сектора, не имеющих традиций формирования классовой идентичности и солидарности. Интересы данной группы наемных работников не артикулированы в государственном, общественном и научном дискурсе.
В российском контексте консервация транзитных форм общественной жизни, тенденции возрождения консервативных ценностей под видом стабилизации приводят к дезадаптации новых поколений рабочей молодежи, нарушению их социальной идентификации, выражающейся в разных формах — от падения престижа профессионального мастерства до принципиального отрицания своей групповой принадлежности. Особую остроту эти проблемы имеют в российских регионах, где проблемы социального неравенства усугубляются региональным неравенством и оказывают прямое влияние на социальную мобильность молодежи.
Для проверки ряда гипотез о процессах классовой идентификации рабочей молодежи было проведено эмпирическое исследование, включающее массовый опрос, опрос экспертов и биографическое интервью. В рамках статьи, для выявления наиболее общих параметров классовой идентификации, мы будем опираться только на количественные данные. В качестве объекта массового опроса была выбрана рабочая молодежь в возрасте 15–29 лет, проживающая на территории Уральского федерального округа. Для исследования были отобраны три города (Екатеринбург, Тюмень, Курган) и типичные сельские поселения в этих областях. Было опрошено 1534 респондента, использована целевая многоступенчатая выборка по четырем критериям: возраст; пол; место жительства — город и сельская местность; сфера занятости — промышленность и техническое обслуживание, а также клиентский сервис.
Так как объектом выступила только трудоустроенная часть молодежи нового рабочего класса, исследование проводилось преимущественно на рабочих местах по предварительной договоренности с менеджментом компаний. Самая молодая когорта респондентов в возрасте 15–19 лет была опрошена по месту учебы (учреждения среднего профессионального образования), но отобрана была лишь трудоустроенная часть учащихся. Опрос проводился методом анкетирования. В качестве экспертов (100 человек) выступили руководители рабочей молодежи на обследуемых предприятиях. Выбор в качестве объекта эмпирического исследования наемных работников из числа молодежи, занятой в разных секторах экономики, определяется авторской позицией, согласно которой классообразующими признаками являются содержание труда, владение собственностью и властные полномочия в организации. Мы придерживаемся подхода зарубежной социологии, согласно которому к рабочему классу относятся как производители товаров, так и работники сферы рутинизированного обслуживания [7; 14; 29; 37; 42]. Эмпирическая часть проекта также опиралась на анализ статистических данных о занятости молодежи [22] (структура и характер занятости, соотношение формальной и неформальной занятости).
Эволюция представлений о классовой идентичности
Феномен идентичности со времен античности рассматривался как становление и самопознание индивида в качестве социального субъекта. В классической марксистской традиции данное понятие трактуется как осознание и воплощение человеком родовой сущности, его противоположность — категория отчуждения как разрыв с подлинными основаниями самосознания. В подобной трактовке потеря идентичности при капитализме распространяется на все общество, субъективное становление личности заменяется логикой капитала, личность идентифицируется по признаку владения им [12. C. 68]. Сегодня терминология основоположников марксизма используется редко, но глобальное общество потребления демонстрирует действенность идеи К. Маркса о товарном фетишизме как о персонализации товаров, вещей и деперсонализации индивидов, утрате субъектности, потере родовой идентичности.
Идеология общества потребления породила в социальном знании тезис о множественной или фрагментарной идентичности. В современных реалиях интересы людей, потребительские паттерны, стилистические предпочтения и субкультурные принадлежности плюралистичны. Культурные основания идентичности, наряду с классом, описываются с помощью таких категорий, как возраст, гендер, раса, этничность, сексуальная ориентация, поколение, пространственная локализация, религиозная принадлежность, семейный статус. Распространенность тезиса привела в 1990-е годы к дебатам о «политике идентичности» [24]. Ее ключевой задачей было формирование солидарных сообществ с четко обозначенными границами на основе коллективно разделяемого опыта и единства взглядов. Такие гомогенные объединения с прочными внутригрупповыми связями долгое время позиционировались как ключевой субъект демократического общественно-политического пространства. Членство в сообществах, идентификация с ними и принятие коллективной точки зрения на основе общего опыта позиционировались как необходимое условие полноценного гражданского участия [31. C. 65]. Акцентирование текучести идентификации и индивидуализация постмодерна обернулись новым этапом группового эссенциализма к концу 1990-х годов.
Отрицание классического подхода к идентичности как осознанию родовой сущности и самоопределению индивида посредством включения в большие социальные группы привело к проблематизации социальной структуры постиндустриального общества. Последствия деиндустриализации, распад культурных иерархий, растущая индивидуализация потребительских практик и диверсификация жизненных стилей позволили ряду исследователей декларировать распад классовой структуры обществ позднего модерна или постмодерна [28; 35]. Дискурс индивидуализации вместе с неолиберальной политикой и неоменеджментом в западных странах сформировал иллюзорную картину — будто ответственность за жизненные успехи и неудачи лежит исключительно на человеке-работнике. Эта идеология привела, прежде всего, к дезинтеграции рабочих сообществ, разоружению коллективных протестных движений и, как следствие, распаду устойчивых форм классовой идентичности [3]. Реальные коллективные идентичности, обретшие фрагментарный и «текучий» характер, невозможно описывать в классовых терминах, что превратило класс в «зомби-концепт» социальной теории [2. C. 112]. Марксистская категория эксплуатации сменилась нейтральным понятием «социальное исключение», позволившим уйти от обвинительного дискурса и переопределить классовые отношения, сосредоточившись на нехватке определенных ресурсов у «исключенных» групп — компетенций, жизненных шансов или социально приемлемых форм классового габитуса.
Таким образом, в конце ХХ века в западной социальной мысли и политике не отрицались возможности классобразования, но классовые идентичности лишались центральной позиции, располагались в одной плоскости с другими формами идентификации [26. C. 150] и социальной дифференциации [30. C. 7–8]. В социологических исследованиях начала ХХI века частично подтверждается амбивалентность оценки людьми собственной классовой позиции и фрагментация классовой идентичности. Исследования начала 2000-х годов показывают, что многие представители рабочего класса неохотно определяли себя в классовых терминах [36; 40]. Современная культура активно дистанцируется от образа жизни рабочего класса, новые поколения среднего класса не способны обнаружить привлекательных черт в ценностях и специфике жизненного пути рабочих, учиться у них и заимствовать определенные культурные элементы, как это было в эпоху послевоенного индустриального подъема [33. C. 26]. Риторика общества потребления и трансформация корпоративной политики в идеологии неоменеджеризма привели к озабоченности рабочего класса атрибутами жизненного стиля, фокусированием на поведенческих практиках среднего класса, при этом структурные факторы, препятствующие реальному изменению классовой позиции, игнорировались [39].
Однако и сегодня ряд теоретиков рассматривают классовую идентичность как индивидуализированную и имплицитную, закодированную в человеческом восприятии собственную ценность в соотношении с представителями других социальных общностей [39. C. 8]. Несмотря на продолжающееся воспроизводство схожего жизненного опыта внутри класса, данный вид дифференциации не осознается акторами, что препятствует формированию классовой идентичности. «Деидентификация» рассматривается как новые реалии классовой дифференциации [25]. Тем самым виртуально провозглашенная теоретиками культуральных исследований «смерть класса» не опиралась на эмпирические исследования, а временная классовая деидентификация ошибочно была интерпретирована как распад классовой структуры в целом.
Несмотря на широкий контекст современной трактовки идентичности, в российской социологии и сегодня преобладает представление об этом феномене как способе и результате соотнесения индивида с социальными общностями [1. C. 170]. Доминирование ценностей потребления в западных обществах и, как следствие, фрагментация классовой идентичности (особенно среди представителей рабочего класса, переориентированных на ценности среднего класса) совпало с аналогичными процессами в российском обществе, хотя причины здесь разные. Социальные трансформации постсоветской России, скрытая идеология ускоренного формирования класса собственников не просто ослабили общественную рефлексию по поводу новой классовой структуры, но сделали ее практически невозможной. Поэтому в отечественной социологии особое внимание уделялось разработке теории среднего класса, где можно было опереться на методологический аппарат западных теорий, сохраняя идеологическую нейтральность как основу научной объективности. Критерии отнесения к среднему классу в исследовательских подходах различаются, но никто не отрицает, что базовым индикатором остается уровень доходов. Парадоксальность классовой идентичности отмечена российскими социологами в исследованиях самоидентификации населения, значительно различающего по объективному критерию — уровня дохода [9. C. 71], хотя достаток не является единственным критерием, раскрывающим сущность класса как субъекта общественных отношений [17. C. 71–72].
Влияние конвенциального зарубежного дискурса особенно заметно в исследовании отечественными социологами среднего класса. Что касается вопросов классообразования и идентичности «новых–старых» классов — рабочих и капиталистов, то здесь разработок пока недостаточно. Устойчивость представлений об идентичности как соотнесенности индивида с социальной общностью, осознания своей принадлежности к ней осложняется неопределенностью социальной структуры российского общества. Это выражается даже в отсутствии названий макросоциальных общностей, причем не только в социологической науке, но и массовом сознании. Однако при отсутствии ярко выраженной классовой идентификации российское общество демонстрирует устойчивое формирование социально-классовых сред [10]. Процесс классообразования имеет объективный характер, что связано, прежде всего, с реальной дифференциацией населения по уровню дохода, имущественному положению. Этот очевидный критерий является предметом обсуждения в обществе и науке, но другие, не столь явные признаки классов часто либо остаются в тени, либо замалчиваются. Одним из таких критериев является распределение властных полномочий в трудовых и социальных отношениях — здесь скрывается корень классового неравенства макросоциальных групп.
Эмпирический анализ классовой идентификации рабочей молодежи
Классовая идентичность рабочей молодежи измерялась через набор индикаторов: классовая самоидентификация; профессиональная самоидентификация; отношение к другим социальным классам, группам (антагонизм/кооперация); оценка отношений внутри группы (индивидуализм, атомизация/
солидарность, кооперация); оценка социального положения нового рабочего класса и своего социального статуса (престиж рабочих профессий, статус класса, социальное исключение/инклюзия; позитивные и негативные коннотации принадлежности к классу; значимость данного членства); фрагментация идентичности (гомогенность, устойчивость/контингентность, мобильность). Возможность объединения рабочей молодежи в сравнительно однородную группу (по выделенным признакам) подтверждается объективным критерием — уровнем дохода. Рисунок 1 показывает, что женщины гораздо чаще заняты на низкооплачиваемых рабочих должностях, чем мужчины. Большинство респондентов имеют доход на уровне, достаточном лишь для удовлетворения базовых потребностей (до 30 тысяч рублей в месяц) и не позволяющим делать
накопления.
Рис. 1. Уровень доходов рабочей молодежи (в %)
Различие секторов экономики, места жительства, профессиональной принадлежности, казалось бы, не предполагают наличия макросоциальной общности, однако эмпирические данные свидетельствуют об обратном. Первый, наиболее простой и очевидный «срез» идентичности молодых наемных работников выявляется через их отношение к разным социальным и профессиональным общностям, способным выступить в качестве референтных или исключенных групп (Рис. 2).
Важно не только отношение молодежи к социальным и профессиональным группам, но и оценка собственных жизненных перспектив. Позиция «с уважением, сам хотел бы стать» не просто демонстрирует идентичность молодого работника, но и может служить характеристикой его жизненной стратегии. Доминирующий образ позитивных жизненных перемен молодежь связывает с предпринимательством: 37% выбрали создание собственного бизнеса как оптимальный путь к успеху. В ответах на вопрос о референтных группах, формирующих потенциал социальной мобильности молодежи, бизнесмены заняли первую позицию в рейтинге желаемых идентификаций. К другим группам, маркируемым в качестве перспективной идентичности, относятся военнослужащие (13%) и представители креативных профессий — артисты и дизайнеры (по 10%). Наряду с традиционно высоким рейтингом профессий учителей, врачей, ученых и уважением к военным (от 68% до 81%, причем от 8% до 13% не исключают возможность стать кем-то из них) обращает на себя внимание разброс оценок статуса «рабочий». Почти 80% отметили, что относятся к рабочим «с уважением», но как собственную жизненную перспективу их отметили только 9% из них. Интересно, что вариант «менеджеры» (одна из наиболее вероятных карьерных возможностей для молодых представителей рабочего класса) не был выбран в качестве референтной группы, и в целом отношение к этой альтернативе скорее безразличное. Причина кроется в изменившихся коннотациях данного понятия, ассоциирующегося в массовом сознании с утомительной и рутинной сервисной
работой, а не с управленческими функциями.
Рис. 2. Отношение рабочей молодежи к другим группам (в %)
Итак, наиболее вероятный способ повышения социального статуса молодые рабочие усматривают в предпринимательской деятельности. Идея «собственного дела» все больше проникает в массовое сознание молодежи, она не считает классовые границы неподвижными, верит в меритократический характер общества. Идеология капитализма, ценности свободного предпринимательства и социальной мобильности стали массовыми в новом поколении. Правда, среди молодежи наблюдаются различия по возрастным группам, месту проживания, гендерным характеристикам — эти различия, как и совпадение позиций, являются основанием для анализа возможной макросоциальной идентичности на уровне классового деления общества.
В массовом сознании и в научной литературе до сих пор под рабочим классом, как правило, понимают наемных работников, занятых в сфере промышленного производства. Положение и структура традиционного (промышленного) рабочего класса в современной России претерпели значительные изменения за последние три десятилетия. Произошло существенное снижение его численности, размывание границ с другими классами и внутренняя дифференциация — как следствие, наблюдается утрата классового сознания, самоидентификации и снижение протестной активности. Уменьшение численности традиционного рабочего класса — общемировая тенденция, но на западных предприятиях вследствие технологического развития, а «в нашей стране на фоне сокращения объемов и размеров производства, отсталости индустриальной базы промышленности и незавершенности технологической модернизации» [13. C. 81].
Тенденции дифференциации рабочего класса и утраты классового сознания вполне реальны, но означают ли они неизбежное разрушение этой большой социальной группы, превращение ее, например, в прекариат [4. C. 50–56; 8; 19; 21]. В российской социологии наблюдается разброс методологических подходов к этому вопросу: от признания прекариата новым классом до полного отрицания его классового характера. Первую позицию отстаивает Ж.Т. Тощенко, определяя прекариат через признаки нестабильного социального положения с неопределенной, гибкой занятостью, неустойчивыми формами распределения прибавочного продукта и произвольной оплатой труда [21. C. 81]. Действительно, прекаризация распространяется сегодня практически на все слои наемных работников, независимо от характера труда, уровня образования и сферы занятости, но, в отличие от мировых тенденций, в России прекариат больше всего распространен в сфере услуг и ручного труда [18. C. 103–106]. Основная масса российского прекариата — это сервисная часть рабочего класса. Несмотря на широчайшее распространение нестабильных форм трудовых отношений, мы не считаем прекариат новым социальным классом вследствие его неустойчивости, нестабильности и депривации.
В условиях неопределенности и незавершенности классовой идентичности больших социальных групп важно рассматривать таковую в динамике, поэтому эмпирические исследования в регионах играют важнейшую роль в накоплении и обобщении эмпирической информации. Мы сопоставили позиции наемных работников, занятых в традиционных отраслях промышленного производства (традиционный рабочий класс), и представителей молодежи, входящих в группу сервисных работников (Рис. 3).
Для более половины представителей традиционного рабочего класса идентификация с ним по-прежнему значима, а среди сервисных работников с рабочим классом отождествляет себя каждый третий, т.е. процесс классообразования сегодня не связан со сферой занятости, а отражает особенности социального положения наемного работника. Идентификация со средним классом теряет популярность, но наблюдаются гендерные различия. Женщины, составляющие большую часть сервисной части наемных работников в России, более склонны идентифицировать себя со средним классом. Идентичность с группой «наемный работник» можно трактовать как незавершенную классовую: с одной стороны, мы наблюдаем признание принадлежности к рабочему классу, а, с другой — либо ее временный характер, либо стремление дистанцироваться от него в силу непрестижности группы. Вполне ожидаемо позиция «креативный класс» оказалась наименее представлена в самооценках традиционного рабочего класса, но и среди сервисных работников ее отметили
менее 5%.
Рис. 3. Социальная идентичность молодежи (в %)
Наблюдаются и значимые возрастные различия классовой идентификации (Рис. 4). Идентификация с рабочим классом усиливается по мере взросления: старшая возрастная группа достаточно четко идентифицирует себя с большой социальной группой — рабочим классом, подтверждая сохраняющуюся значимость идентификации с рабочим классом для значительной части рабочей молодежи.
Коллективное самоопределение в качестве класса — ментальная конструкция, и если она отсутствует в массовом сознании, из общественного дискурса понятие «рабочий класс» исчезает. Российские ученые одним из важнейших критериев определения границ рабочего класса считают субъективные оценки [11; 20; 23]. «В США и Великобритании численность “субъективного” рабочего класса превышает долю “объективного”. В Германии численное соотношение “субъективного” и “объективного” рабочего класса примерно одинаково… В США и Великобритании, где доля материального производства меньше, чем в Германии, степень идентификации опрошенных с рабочим классом выше, чем в Германии» [6. C. 40–41]. В России соотношение объективного и субъективного рабочего класса пока не выявлена.
Рис. 4. Социальная идентичность молодежи разных когорт (в %)
Субъективная идентификация молодежи измерялась в нашем исследовании через оценки разных сторон и качеств положения рабочего класса в обществе. Оценки молодежи можно сравнить с оценками их руководителей — экспертов (Рис. 5). Признаки неустойчивой, фрагментарной классовой идентичности наглядно демонстрирует отношение молодежи к собственному классу и представителям других социальных общностей. Подавляющее большинство молодежи демонстрирует уважительное отношение к промышленным рабочим (78%), что является косвенным свидетельством позитивной идентификации с собственным классом.
Таким образом, у российской рабочей молодежи постепенно формируется классовая идентичность, и в ближайшем будущем она может занять важное место в структуре базовых социальных идентичностей. Процесс классообразования сегодня не завершен, и классовая идентичность остается проблемной зоной в выборе жизненной стратегии. Незавершенность макроидентичности молодых рабочих промышленности и сервиса связана, в первую очередь, с отсутствием четких представлений о социальной структуре российского общества и отказом от употребления в общественном дискурсе понятия «класс». Дальнейшие исследования по проблемам классообразования и классовой идентичности позволят дать адекватные ответы на вызовы, связанные с ростом социальной неопределенности и неравенства, усилением классового антагонизма, а также помогут спрогнозировать негативные сценарии самореализации новых поколений и предотвратить маргинализацию социальных групп.
Рис. 5. Распределение ответов на вопрос «Выразите согласие или несогласие с приведенными ниже утверждениями», вариант ответа «согласен» (в %)
Об авторах
Вера Владимировна Гаврилюк
Тюменский индустриальный университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: gavriliuk@list.ru
доктор социологических наук, профессор кафедры маркетинга и муниципального управления
ул. Володарского, 38, Тюмень, 625000, РоссияТатьяна Владимировна Гаврилюк
Тюменский индустриальный университет
Email: tv_gavrilyuk@mail.ru
кандидат социологических наук, ведущий научный сотрудник Центра перспективных исследований и инновационных разработок
ул. Володарского, 38, Тюмень, 625000, РоссияСписок литературы
- Барышникова И.В. Понятие идентичности в социологическом дискурсе // Вестник ВГУ. Серия 7: Философия. 2020. № 2.
- Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М., 2000.
- Болтански Л., Кьяпелло Э. Новый дух капитализма. М., 2011.
- Голенкова З.Т., Игитханян Е.Д. Статусные характеристики рабочих России // Социологические исследования. 2012. № 12.
- Демидова Л. Сфера услуг России: трудный путь модернизации // Мировая экономика и международные отношения. 2008. № 2.
- Жвитиашвили А.Ш. Рабочий класс в постиндустриальном обществе // Социологические исследования. 2013. № 2.
- Жизненные стратегии молодежи нового рабочего класса / Под. ред. Т.В. Гаврилюк. М., 2020.
- Кастель Р. Метаморфозы социального вопроса. Хроника наемного труда. СПб., 2009.
- Коба С.М. Проблема идентификации макросоциальных групп российского общества // Идеи и идеалы. 2013. Т. 2. № 1.
- Козырева П.М. Современная конфигурация идентификаций и роль доверия в ее формировании // Социологические исследования. 2008. № 8.
- Максимов Б.И. Рабочие в реформируемой России: 1990-е - начало 2000-х годов. СПб., 2004.
- Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 42. М., 1974.
- Митягина Е.В. Классовая структура общества и рабочий класс: доводы в защиту и против // Вестник Нижегородского университета им. Е.И. Лобачевского. Серия: Социальные науки. 2014. № 1.
- Молодежь нового рабочего класса современной России / Под. ред. Т.В. Гаврилюк. М., 2019.
- Нарбут Н.П., Троцук И.В. Жизненные планы российских студентов: ожидания и опасения в профессиональной сфере // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2014. № 2.
- Нарбут Н.П., Троцук И.В. Ожидания и опасения российского студенчества в профессиональной сфере: результаты эмпирического проекта // Поиск. 2014. № 4.
- Россия - новая социальная реальность: Богатые. Бедные. Средний класс / Под ред. М.К. Горшкова, Н.Е. Тихоновой. М., 2004.
- Социальное пространство российских регионов / Под. ред. З.Т. Голенковой. М., 2017.
- Стэндинг Г. Прекариат: новый опасный класс. М., 2014.
- Темницкий А.Л. Рабочие реформируемой России как объект социологических исследований // Мир России. 2006. № 2.
- Тощенко Ж.Т. Прекариат: от протокласса к новому классу. М., 2018.
- Трудовые ресурсы // URL: http://old.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/ statistics/wages/labour_force/#
- Трушков В.В. Современный рабочий класс в зеркале статистики // Социологические исследования. 2002. № 2.
- Bondi L. Locating identity politics // Place and the Politics of Identity. Ed. by M. Keith, S. Pile. L.-N.Y., 1993.
- Bottero W. Class identities and the identity of class // Sociology. 2004. Vol. 38. No. 5.
- Brunt R. The politics of identity // New Times. The Changing Face of Politics in the 1990s. Ed by S. Hall, M. Jacques. L., 1990.
- Charlesworth S. Phenomenology of Working Class Experience. Cambridge, 2000.
- Clark T.N., Lipset S.M. Are social classes dying? // International Sociology. 1991. Vol. 6. No. 4.
- Draut T. Understanding the working class. URL: https://www.demos.org/research/ understanding-working-class.
- Fiske J. Power Plays. Power Works. L.-N.Y., 1993.
- Hancock A.-M. When multiplication doesn’t equal quick addition: Examining intersectionality as a research paradigm // Perspectives on Politics. 2007. Vol. 5. No. 1.
- Jensen B. Reading Classes: On Culture and Classism in America. Cornell University Press, 2012.
- Metzgar J. Nostalgia for the 30-year ‘Century of the Common Man’ // Journal of Working-Class Studies. 2016. Vol. 1. No. 1.
- Otis E. Beyond the industrial paradigm: Market-embedded labor and the gender organization of global service work in China // American Sociological Review. 2008. No. 73.
- Pakulski J., Walters M. The Death of Class. L., 1996.
- Payne G., Grew C. Unpacking ‘Class Ambivalence’: Some conceptual and methodological issues in accessing class cultures // Sociology. 2005. Vol. 39. No. 5.
- Resnick S., Wolff R. The diversity of class analyses: A critique of Erik Olin Wright and beyond // Critical Sociology. 2003. Vol. 29. No. 7.
- Rowell A. Who Makes Up the Working Class? A State-by-State Look at America’s Diverse Working Class // URL: https://www.americanprogressaction.org/issues/economy/news/ 2018/07/06/170670/makes-working-class.
- Savage M. Class Analysis and Social Transformation. Buckingham, 2000.
- Savage M., Bagnall G., Longhurst B. Ordinary, ambivalent and defensive: Class identities in the Northwest of England // Sociology. 2001. Vol. 35. No. 4.
- The Global Wealth Report 2018 // URL: https://www.credit-suisse.com/corporate/en/ research/research-institute/global-wealth-report.html.
- Zweig M. The Working Class Majority: America’s Best Kept Secret. Ithaca, 2000.
Дополнительные файлы