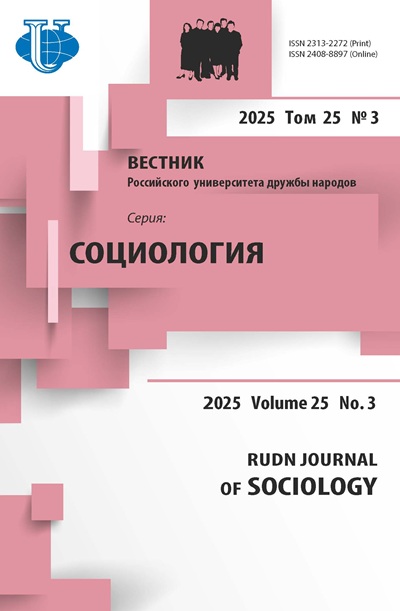«Осторожно, модерн!», или театр теней современности и его персонажи: инструментальная рациональность - деньги - техника (часть 1)
- Авторы: Подвойский Д.Г.1,2,3
-
Учреждения:
- Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
- Российский университет дружбы народов
- Институт социологии ФНИСЦ РАН
- Выпуск: Том 21, № 4 (2021)
- Страницы: 670-696
- Раздел: Вопросы истории, теории и методологии
- URL: https://journals.rudn.ru/sociology/article/view/29612
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-2272-2021-21-4-670-696
- ID: 29612
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Статья представляет собой очерк, посвященный критическому анализу одного из фундаментальных вопросов социальной теории XIX-ХХ веков - отчуждения и его проявлений в обществах современного типа. Феномен и концепт отчуждения трактуется не в специальном значении (например, отчуждение труда и т.п.), а в предельно широком - как превращение продуктов индивидуальной и коллективной деятельности в самостоятельную силу, подчиняющую человека и переводящую его из положения субъекта в положение объекта общественных отношений. Используя подобную дефиницию, можно с уверенностью утверждать, что указанный процесс выступает «универсальным» свойством социальной жизни. Между тем в разных обществах, в разные исторические периоды отчуждение может представать в несходных, вариативных конкретных формах. Объяснить возникновение исторически специфических проявлений отчуждения применительно к обществам модерна можно, обратившись к классической теме их генезиса. Своеобразие их институциональной организации в значительной степени связано со своеобразием культуры и особенностями духовной жизни (в частности, с радикально проведенным в эпоху Нового времени размежеванием между человеком и природой, субъектом и объектом). Многосторонний феномен научно-технической рациональности как продукт постренессансной западноевропейской культуры выступает источником социальных реалий и практик, «чреватых отчуждением». В статье это иллюстрируется рядом примеров, в том числе логики и механизмов функционирования капиталистического денежного хозяйства. Автор обращается к наследию мировой философии и общественной мысли, проблематизировавших и концептуализировавших различными способами обозначенный круг вопросов. Предметом рецепции и обсуждения становятся воззрения представителей Франкфуртской школы, философов-экзистенциалистов и «столпов» теоретической социологии - К. Маркса и Г. Зиммеля.
Полный текст
Тени модерна / лики отчуждения: современный человек и его «рукотворные боги»
Современный человек живет в «рациональном» мире и гордится этим. Само понимание «рациональности» у него может быть разное, но обычно он не сомневается, что его взгляд на вещи превосходит по мере адекватности и обоснованности воззрения людей минувших эпох. Он является оптимистом par excellence и верит в будущее цивилизации, покорившей воздушное и земное пространство, освоившей недра, научившейся передавать огромные массивы информации, преодолевая пространство и время. Он преклоняется перед достижениями науки и особенно техники. Он считает технический прогресс великим благом и не любит, когда его пытаются в этом разубедить или указывают на оборотную сторону медали (а таковая имеется у всех вещей и явлений).
Специфическая версия рациональности, наиболее востребованная в жизни современного человека, — особого рода. Окружающая его вселенная — это вселенная чисел и количеств, поэтому он привык вращаться в денежном мире, порой открыто проклинает деньги, но без них не может и не устает повторять избитую истину, что «счастье не деньгах.., а в их количестве». Сказанное, конечно, не распространяется на всех людей, живших в обществах последних столетий, и их потомков, доживших до дня сегодняшнего, но таково доминирующее умонастроение.
Рациональность, деньги, техника — заметные фигуры в культурно-аксиологическом пантеоне современной цивилизации, но ими список привязанностей человека в ней не ограничивается. Таковыми могут выступать многочисленные социальные институты — государство, партии, церкви и секты, общественные движения и организации, персонифицируемые конкретными фигурами (вождя, лидера, монарха и т.п.) или не персонифицируемые; системы религиозных, политических или иных воззрений, комплексы символических средств выражения, запечатления и материализации идей и ценностей, и т.д.
Метафора человека и/или общества как машин боготворения — в разных интерпретациях, от Л. Фейербаха до П. Бергера и С. Московичи [2; 17; 20] — кажется весьма эвристичной, поэтому попробуем оттолкнуться от нее, сделать ее стартовой. Действительно, люди испокон веков (порой поодиночке, но чаще сообща) упражнялись в искусстве создания рукотворных богов и осваивали практики «раболепствования перед своими творениями», которое часто оказывалось усердным или даже иступленным, — так устроена социальная жизнь. Люди любой эпохи были и остаются склонными к фетишизму (это не является отличительной чертой эпохи модерна): они любят создавать объекты для поклонения и наделять их определенными свойствами, как будто эти объекты обладают этими качествами «сами по себе». Согласно Г. Зиммелю, таким образом «утверждает себя фундаментальная способность духа: одновременно противопоставлять себя содержаниям, которые он в себе представляет, представлять их так, словно бы они были независимы от того, что они представляемы» [8. C. 329].
Современность, или эпоха модерна, обладает рядом особенностей, однако и в ней обнаруживаются проявления неукротимой страсти человека к «объективированию своей сущности вовне», овнешнению/экстернализации и овеществлению/реификации себя в чувствах, мыслях, словах и поступках, индивидуальных и коллективных. Иначе этот процесс может быть описан при помощи традиционного для социальной теории термина «отчуждение», под которым в широком смысле понимается превращение продуктов индивидуальной и коллективной деятельности в самостоятельную силу, подчиняющую себе человека и переводящую его из положения субъекта в положение объекта. Отчуждение, будучи универсальным социальным процессом, в современных обществах приобретает выраженную специфику. Само своеобразие современности как особого социокультурного проекта — отчасти сознательно выстраиваемого конкретными людьми и странами, но все же в значительной степени специфически непреднамеренного и стихийного, — является предметом напряженно-многостороннего анализа и дискуссий в мировой (прежде всего западноевропейской) мысли.
Поставить диагноз модерну и проследить пути его исторического формирования пытались многие авторы на протяжении столетий, и вклад некоторых из них можно считать исключительным. Проницательность концептуально оснащенного взгляда на модерн отдельных социальных теоретиков была поистине впечатляющей. Поэтому обращение к ряду предложенных в прошлом объяснительных моделей выглядит обоснованным, и далее мы будем использовать заимствуемый из классического наследия (более или менее хрестоматийный) теоретический материал, несмотря на риск спровоцировать читательское порицание полуневольным превращением авторского текста в подобие цитатного коллажа.
Девчонки Тиллера и конвейер Форда: эстетические приметы индустриализма
З. Кракауэр без малого сто лет назад в эссе «Орнамент массы» [9. С. 41–50] сравнил механизм функционирования капиталистической экономики с логикой телодвижений «девчонок Тиллера». В этих модных, особенно в межвоенное время, танцевальных шоу исполнялись коллективные хореографические композиции с упором на создание геометрического эффекта, узора, образуемого синхронными движениями кажущихся одинаковыми тел. Дисциплина женских ног уподобляется дисциплине рук промышленных рабочих на конвейере — масса в орнаменте капитализма «родом из контор и фабрик» [9. С. 44]. Но сходство не только внешнее: девушки, умелые движения которых рисуют в восприятии зрителя орнамент массы — это образ, удобная визуальная аллегория для перехода к разговору об обществе в целом.
«Структура орнамента массы отражает общую ситуацию, так сказать, злобу дня. Поскольку принцип капиталистического процесса производства не есть чистое порождение природы, он невольно подрывает живые организмы... Национальная общность и личность угасают, когда спрос есть только на то, что поддается счету; единственно как частица массы человек способен запросто подняться до верхних граф в учетных таблицах и обслуживать машины. Равнодушная к формальным различиям система сама размывает национальные особенности и ведет к выпуску трудящихся масс, которые можно с одинаковым успехом использовать в любой точке земного шара. Как и орнамент массы, капиталистический процесс производства есть самоцель. Товары, им порождаемые, произведены, собственно, не затем, чтобы ими обладали, но ради прибыли, которая не знает меры… Возможно, раньше работа до известной степени и имела отношение к созиданию ценностей и их потреблению, теперь же они превратились в побочный продукт, служащий исключительно производству. Включенные в этот процесс виды деятельности лишились своего сущностного содержания… Подобно сотканному из тел узору на стадионе, над массой стоит структура, этакая монструозная фигура… Она зиждется на рациональных принципах, но системой Тейлора берется на вооружение только конечный результат. Ножки девчонок Тиллера — все равно что руки рабочих на фабрике. Помимо мануальной отдачи, идет проверка и на психотехническую профпригодность душевных качеств. Орнамент массы — это эстетическое отражение рациональности, какую исповедует господствующая экономическая система» [9. С. 43–44].
Все это написано после Маркса, Вебера и Зиммеля, хотя они здесь «сквозят» (1), но до «Диалектики Просвещения» и «Одномерного человека». Кракауэр диагностирует демифологизацию и демистификацию [9. С. 45] всего и вся как основную линию духовного развития, т.е. ровно то, что Вебер называл расколдованием мира. Физический и социальный универсум десакрализованы, природа теперь — инструмент для манипуляций. Но торжествующий Разум эпохи модерна, выпущенный на волю Просвещением, попадается в собственные сети. «Рациональная сторона капиталистической экономики — это не просто разум, но разум замутненный… Этот разум не включает в себя человека» [9. С. 46]. Вернее, инструментальный разум обходится с человеком, как со всем остальным в природе, — как с ресурсом, он берет его в оборот, оприходует, использует и подчиняет. В доминирующей модели рациональности модерна, проводимой в жизнь капиталистической экономикой и воплощенной в технократическом стиле мышления, конкретное приносится в жертву абстрактному. «Задействованная в орнаменте массы человеческая фигура изымается из пышной органичности природы и порывает с индивидуальным ради полной анонимности» [9. С. 48]. На месте этой девушки в ячейке изображаемой коллективной телесной фигуры могла бы быть любая другая, в купальнике как униформе и с той же стройностью ног, на месте этого рабочего или офисного служащего — всякий подходящий по заданным производственным или организационным параметрам. Кракауэр, чуть лукавя, заявляет, что в разговоре об орнаменте массы остается как бы на поверхности вещей. М. Хоркхаймер и Т. Адорно впоследствии «копнут глубже» [23], попытаются ответить на вопросы: какова генеральная установка сознания, положенная в основание современного мира, и как она работает.
Диалектика Просвещения: инструментальный разум пленяет хозяина
Критический пафос Просвещения XVIII века, поставившего под сомнение консервативные институты и представления традиционных обществ, уже в XIX столетии выродился в апологетический позитивизм, отказывающийся от рефлексивной мыслительной работы в пользу «констатации фактов» и «расчета вероятностей» [23. С. 9–10]. «Свобода в обществе неотделима от просвещающего мышления» [23. С. 10], утверждают франкфуртцы, но диалектика Просвещения состоит в том, что параллельно разворачиваются процессы саморазрушения этого грандиозного культурного проекта, дискредитирующие его.
Каков лейтмотив Просвещения? Гордый человек восстает против сакрализуемой мифом природы, как атлант, расправляет плечи, низвергает богов с пьедесталов. Разрыв между субъектом и объектом превращается в бездну. Человек отныне «не тварь дрожащая», но Субъект. Природа лежит у его ног — он слабее ее, но умнее и хитрее (как хитро/умный Одиссей); он зрячий, а она слепая, и она должна покориться ему. Природа для Просвещения — это не «объективный порядок», а всего лишь «масса материи».
Просвещение первоначально стремилось «избавить людей от страха», сделать их хозяевами природы и своей судьбы. Оно было направлено на «расколдование мира», противостояло мифологическому мышлению — так возникает и самолегитимируется наука Нового времени. Бэконовский сциентизм провозглашает: «рассудку, побеждающему суеверия, надлежит повелевать расколдованной природой». Знания демократичны, они служат в качестве инструмента как королю, так и лавочнику, и могут быть направлены на любые цели — как благие, так и утверждающие господство и разрушающие жизнь. Люди хотят научиться властвовать над природой (но человек не перестает быть ее частью). «Власть и познание — синонимы. Бесплодное счастье познания для Бэкона так же непристойно, как и для Лютера. Не об удовлетворении, которое доставляет человеку истина, идет тут речь, но об “operation”, об эффективном методе» [23. С. 18]. Главная задача науки — способствовать «оснащению жизни».
В реальности Просвещение видит лишь материал для преобразования, а не то, что имеет автономный смысл, значение и ценность: «Путь человека к науке Нового времени пролегает через отречение от смысла. Понятие заменяется тут формулой, причина — правилом и вероятностью… Давать современную дефиницию субстанции и качеств, деятельности и страдания, бытия и существования — это со времен Бэкона было делом философии, наука же обходилась уже без подобного рода категорий. В качестве Idola Theatri они были оставлены прежней метафизике и уже к тому времени превратились в памятники сущностям и силам давно прошедших времен… Отныне материя должна была быть порабощаема, наконец, без иллюзий относительно всяких там правящих или внутренне присущих сил, а также скрытых качеств. То, что не желает соответствовать мерилу исчислимости и выгоды, считается Просвещением подозрительным» [23. С. 18–19].
Люди в магическую эпоху, в мире, еще радикально не расколдованном наукой и технологиями, тоже влияли на природу. Но то была особого рода игра, полная тайн и загадок, рождавшая страх и трепет. Тогда люди еще боялись природы (максимум — пытались у нее что-нибудь «урвать по случаю»), не планировали ее покорить целиком и полностью, были участниками общего процесса взаимодействия космических сил — не главными, не единственными, не зазнавались. Теперь же человеческий разум не знает субординации — хочет тотально господствовать над миром. «Ритуалы шамана были обращены к ветру, к дождю, к змее снаружи или к демону внутри больного, но не к веществам и экземплярам… Лишенная качеств природа становится хаотическим материалом для всего лишь классификации…» [23. С. 23] (отношение колдуна к заклинаемым им силам — сакрализующее, схожее с искусством; отношение Просвещения к миру — профанирующее, деловое, трудовое).
Но палка освобождения бьет другим концом по хозяину: «порабощение всего природного самовластным субъектом в конце концов достигает своего апогея именно в господстве слепо объективного» [23. С. 14]. Субъект, противопоставляющий себя объекту, сам в большинстве случаев становится объектом, испытывающим (осознанно или нет) репрессивное воздействие системных фактов общества, в том числе рукотворных — техники, организации, экономики, индустрии, культуры.
Просвещение упрекает мифологическое сознание в антропоморфизации природы. Миф проецирует человеческое на природные силы (сходным образом Л. Фейербах объяснял возникновение религиозных феноменов). Новое время, модерн и Просвещение, напротив, деантропоморфизируют природу, тем самым «убивая» ее. Есть только человек как хозяин мира, но и он постоянно попадает в расставленные им самим капканы «объективизации», тотального опредмечивания и реификации. «Анимизм одушевил вещь, индустриализм овеществляет души» [23. С. 44]. «Усиление своей власти люди оплачивают ценой отчуждения от всего того, на что их власть распространяется. Просвещение относится к вещам точно так же, как диктатор к людям. Они известны ему в той степени, в какой он способен манипулировать ими… Сущность вещей — субстрат властвования» [23. С. 22–23].
Последовательное разделение объекта и субъекта проводится на жестких условиях: первый подчиняется второму как мертвая и податливая масса. Но люди нередко записываются в теории и практике модерновых обществ в разряд объектов (ничто не мешает им быть причисленными к этой «дискриминирующей» их категории). Субъект отстраняется, дистанцируется от объектов, относится к ним в логике и оптике абстрактного мышления как к экземплярам, членам классов и множеств, исчислимым величинам. Для науки не существует индивидуального и уникального. Качества вещей (и людей) растворяются в количествах. Торжествует математический стиль обхождения с реальностью, а холодный взгляд «чистого разума» легко переключается с элементов физически-механического универсума на элементы психического и социального миров.
«Число стало каноном Просвещения... Буржуазное общество… делает разноименное сопоставимым тем, что редуцирует его к абстрактным величинам. То, что не поглощается числами, в конечном итоге единицей, становится для Просвещения видимостью, иллюзией; современным позитивизмом оно изгоняется в поэзию… Главным остается истребление богов и качеств… Природа как до, так и после квантовой теории является тем, чему надлежит быть постигнутым математическим образом; что тому противится, все неразложимое и иррациональное подвергается травле со стороны математических теорем. Путем предупреждающей идентификации до конца промысленного математизированного мира с истиной Просвещение надеется обезопасить себя от рецидива мифа. Им учреждается единство мышления и математики. Тем самым последняя… спускается с цепи, превращается в абсолютную инстанцию… Мышление опредмечивается в самодеятельно протекающий, автоматический процесс, подражающий машине, им самим порождаемой лишь для того, чтобы она в конечном итоге смогла его заменить… Математический метод становится как бы ритуалом мысли. Несмотря на свою аксиоматическую самоограниченность, он учреждает себя в качестве необходимого и объективного: им мышление превращается в вещь, инструмент… Позитивизмом, выступающим в роли судебной инстанции просвещенческого разума, на всякого рода распутничанье в интеллигибельных мирах теперь не просто налагается запрет, оно расценивается уже в качестве бессмысленной болтовни» [23. С. 21, 40–41].
Вариации общего диагноза, поставленного Франкфуртской школой обществу модерна (и питающим его ментальным установкам), мы находим у Г. Маркузе, в «Одномерном человеке» [16]. В инструменталистской и операционалистской парадигме современных обществ человек и объекты природы рассматриваются как «вещи» или ансамбли «вещей», объекты манипулирования или «функции», т.е. десубстанциализируются. «Систему» интересует не суть человека, но исключительно какой от него прок, как его можно использовать, его внешние действия, поведение, или, выражаясь по-парсонсовски, она видит и ценит в нем, прежде всего, performance, а не quality.
«Хотя рабы развитой индустриальной цивилизации превратились в сублимированных рабов, они по-прежнему остаются рабами, ибо рабство определяется “не мерой покорности и не тяжестью труда, а статусом бытия как простого инструмента и сведением человека к состоянию вещи”. Это и есть чистая форма рабства: существование в качестве инструмента, вещи. И то, что вещь одушевлена и сама выбирает свою материальную и интеллектуальную пищу, то, что она не чувствует себя вещью, то, что она привлекательна и подвижна, не отменяет сути такого способа существования. И наоборот, по мере того как овеществление стремится стать тоталитарным в силу своей технологической формы, сами организаторы и администраторы обнаруживают все большую зависимость от механизмов, которые они организуют и которыми управляют. В этой взаимной зависимости уже не осталось ничего от диалектического отношения между Господином и Слугой, …это скорее порочный круг, в котором заперты и Господин, и Слуга» [16. С. 43–44].
Механизм технобюрократического господства обрабатывает любой человеческий материал, элементы организационной иерархии сверху донизу — всех, кто оказывается задействован или востребован как часть и звено многоступенчатых процедур «рационального» оперирования, объектами для которых становятся элементы природной и социальной вселенной (включая людей — управленцев и управляемых): «Мир обнаруживает тенденцию к превращению в материал для тотального администрирования, которое поглощает даже администраторов. Паутина господства стала паутиной самого Разума, и …общество роковым образом в ней запуталось» [16. С. 222]. Универсальная логика веберовской «железной клетки» распространяется на всех…
Рождение модерна, Декарт и Рейнская ГЭС
То, что Хоркхаймер и Адорно называют Просвещением (особого рода мировоззренческая установка), появилось раньше и формировалось веками. Неслучайно на страницах «Диалектики Просвещения» всплывает фигура Одиссея — модернового персонажа, действовавшего в домодерновых обстоятельствах, умевшего ловко обвести вокруг пальца существ (2), олицетворявших природное начало и стихии, подчинявшего их своим целям и планам. Просвещение в точном и узком смысле в экспозиции темы, обсуждаемой франкфуртцами и многим другими авторами, — всего лишь эпизод, притом сравнительно поздний.
В жизни человечества что-то поменялось, причем не резко, — изменения накапливались. Сегодня мы привыкли именовать этот исторический дрейф переходом от традиционного к современному типу общества, или модернизацией. У данного процесса есть как социальный, в том числе институциональный, так и культурный срез. Изменения происходили в делах и в головах одновременно. Сложилась такая историческая констелляция причин, что опыт Запада оказался прецедентом и образцом для подражания. Уже давно проект модерна покорил маленькую планету целиком, несмотря на многочисленные и не утихающие полностью очаги сопротивления.
Важное и специфическое место в духовной биографии современности занимает та научно-технократическая идеология, которую критикуют франкфуртцы — как источник (и виновника) отчуждения, ставшего отличительной приметой миллионов человеческих жизней в последние столетия.
Происхождение новоевропейской науки как особого комплексного социокультурного феномена и ее последующее влияние на судьбы западной и мировой цивилизации, в том числе на становление обществ модерна, является сложнейшей многоаспектной темой для философии, социологии, истории культуры. Произвела ли научная картина мира общество определенного типа или она сама была продуктом определенных социальных условий и изменений? Видимо, эти процессы были встречными. Ставить диагноз «специфически модерновым» формам отчуждения и говорить о причинах утверждения и распространения (т.е. генеалогии) этих форм — две разные задачи, хотя и взаимосвязанные. Ответов может быть много и все они будут нести на себе отпечаток не только индивидуального строя мысли автора, но и его дисциплинарной идентичности. Например, О. Шпенглер мог бы указать три причины того, почему люди стремятся отгородиться/выделиться от/из природы и управлять ею: 1) человек является умным хищным животным, рассматривающим весь мир как потенциальную добычу или охотничий трофей; 2) таковым в особенности следует считать человека, живущего в эпохи «цивилизации» (упадка, на поздних стадиях духовного развития), когда основные усилия людей направляются на внешние, практические, утилитарные задачи (в противоположность целям внутреннего самосовершенствования, которыми по преимуществу озабочен человек высокой фазы эволюции культуры); 3) таковым «втройне» становится западный человек, носитель фаустовского духа, для которого воля к власти и тяга к покорению мирового пространства являются идеей-фикс или жизненным лейтмотивом.
Фаустовская наука, как полагал Шпенглер, изначально отличалась от науки античной и ориентировалась на духовную «борьбу с материей». Показательно эффектное определение научного эксперимента как допроса природы с пристрастием, с элементами экзекуции — при помощи винтов, колес и шестеренок. Западная наука и техника суть продукты мятежного и гордого фаустовского духа, жившего еще в средневековых монастырях. Но и там за смиренными религиозными проявлениями богопочитания якобы скрывалось страстное желание выпытать тайны у природы, дерзновение к ее одолению инструментально-техническими средствами. Научное знание Запада не нуждалось в том, чтобы быть истинным, оно хотело быть в первую очередь пригодным для практических целей и отличалось от «созерцательной любознательности» ученых других культур. Западный человек хотел стать богом, организатором миропорядка [18; 24; 25]. Объяснение — яркое, категоричное, отчасти поэтическое, скорее красивое, чем верное. Но и без шпенглеровской безапелляционности и интеллектуального эпатажа можно обойтись, даже если не считать его аллегории и констатации беспочвенными.
Небессмысленно звучит и аргумент, связывающий иудеохристианский, авраамический креационизм и представление о боге как абсолютном субъекте, мыслящем и действующем, с одной стороны, и радикальное субъекто/объектное расщепление мироздания, проведенное на Западе, ставшее впоследствии важной предпосылкой культуры модерна, — с другой. В эпоху Нового времени бог постепенно растворялся, но место субъекта/творца/устроителя/повелителя сохранилось, и его попытался занять «божок вселенной — человек», остававшийся составной частью природы как грязи земной, которая в разволшебствленном мире подходила для лепки любых кирпичей и куличиков.
К. Ясперс пишет: «На Западе … концепция надмирового Бога-творца превратила весь сотворенный им мир в его создание. Из природы были изгнаны языческие демоны, из мира — боги. Сотворение стало предметом человеческого познания, которое сначала как бы воспроизводило в своем мышлении мысли Бога. Протестантское христианство отнеслось к этому со всей серьезностью; естественные науки с их рационализацией, математизацией и механизацией мира были близки этой разновидности христианства. Великие естественники XVII и XVIII веков оставались верующими христианами. Но когда в конце концов сомнение устранило Бога-творца, в качестве бытия остался лишь познаваемый в естественных науках механизированный образ, что без предшествующего сведения мира к творению никогда бы с такой резкостью не произошло» [27. С. 298–299].
Насколько глубоко надо погрузиться в историю, чтобы найти семена или первые ростки новых форм ментальности и социальности? Где заканчивается разговор о причинах модерна и начинается разговор о модерне как свершившемся факте? На эти вопросы можно отвечать по-разному, но ясно, что на определенном этапе отношение человека к миру поменялось (раньше всего на Западе). Как констатирует Н. Элиас, «особенно ощутимо начиная с эпохи Ренессанса — отдельный индивид ощущает себя как “субъект”, а мир — как нечто отделенное от себя пропастью, как “объект”; самого себя — как наблюдателя вне рамок остальной природы, а эту природу, в противоположность себе, — как “ландшафт”» [26. С. 88–89]. В сходном ключе высказывался и Г. Зиммель: «Духовный мир классической древности существенным образом отличается от Нового времени, поскольку лишь это последнее привело, с одной стороны, к самому глубокому и отчетливому понятию “Я”, предельно заостренному в том неведомом древности значении, [какое придается] проблеме свободы, а с другой стороны, — к самостоятельности и мощи понятия “объект”, выраженного в представлении о нерушимой законосообразности природы. Древность еще не так далеко, как последующие эпохи, отошла от состояния неразличенности, в котором содержания представляются просто, без расчленяющего их проецирования на субъект и объект» [8. С. 323].
В процессе формирования доминирующего образа самосознания человека Нового времени ключевую роль суждено было сыграть Р. Декарту, огласившему метафизические претензии ego cogito. Именно с Декарта суверенное мыслящее Я стало противопоставляться миру как чему-то внеположному (включая как природу, так и общество). Но Декарт, как верно замечает Элиас, был лишь выразителем определенных объективных изменений, подспудно протекавших в структуре западных обществ (индивидуализации, выхода личности из-под опеки локальных общностей, ослабления традиционных мы-идентичностей, разрыва старых социальных уз — родовых, племенных, семейных, сословных, цеховых, конфессиональных). Сегодня люди рассматривают противопоставление Я и мира, а также индивида и общества как нечто естественное, но даже во времена Декарта (как своего рода духовного новатора) такого не было. Подобные культурные сдвиги были связаны с восхождением городских слоев, индустриализацией, успехами естественных наук. Человек стал ощущать себя силой, познающей и деятельной, которая может изучать и направлять природные процессы.
Таким образом, наше сегодняшнее самосознание есть продукт культуры, медленно складывавшейся со времен Ренессанса. Индивид в более ранних обществах воспринимал себя и окружающую его природную и социальную Вселенную более непосредственно, отчасти «как ребенок», находился с миром в более тесном психологическом контакте. С другой стороны, проблема отчуждения от мира и экзистенциального одиночества, заброшенности человека производна от совершившегося в Новое время расщепления субъекта и объекта и типична для всей последующей культуры модерна.
Рассуждая о метафизических основаниях новоевропейского стиля мышления, М. Хайдеггер так же указывает на значимость фигуры Декарта. Существует принципиальное различие между субъективизмом греческим и картезианским — формулой Протагора «о человеке как мере всех вещей» и раннемодерновой идеей мыслящего Я. Античные софисты, а вслед за ними и скептики, оставались «в мире», не стремились командовать природой, не возвеличивали и не выделяли себя радикально из структур космического миропорядка, хотя и могли взирать на него из разных точек. И только с Декарта начинается фундаментальное противопоставление властного субъекта познания и мира-объекта. «Внутри истории Нового времени и в качестве истории новоевропейского человечества человек пытается, во всем и всегда опираясь на себя, поставить самого себя как средоточие и мерило в господствующее положение» [22. С. 120]. «Можно видеть существо Нового времени в том, что человек эмансипируется от средневековой связанности, освобождая себя себе самому… Конечно, как следствие освобождения человека Новое время принесло с собой субъективизм и индивидуализм. Но столь же несомненным остается и то, что никакая эпоха до того не создавала подобного объективизма… Существенны здесь необходимые взаимопереходы между субъективизмом и объективизмом… Меняется вообще существо человека и человек становится субъектом» [22. С. 48] (в Средневековье таковым считался Бог).
Для описания корней современного научного мышления используется выражение «картина мира». Хайдеггер высвечивает «определяющее для существа Нового времени скрещивание» двух процессов — «превращения мира в картину и человека в субъект»: «Мир стал картиной, когда человек в качестве субъекта поднял собственную жизнь до командного положения всеобщей точки отсчета» [22. С. 51]. Оборот «картина мира» — типично новоевропейский и применимый прежде всего к современности: «Основной процесс Нового времени — покорение мира как картины. Слово “картина” означает теперь: конструкт опредмечивающего представления. Человек борется здесь за позицию такого сущего, которое всему сущему задает меру и предписывает норму» [22. С. 52].
В первую очередь мир как картину человеку надлежит представить — «поместить перед собой наличное как нечто противо-стоящее, соотнести с собой, представляющим, и понудить войти в это отношение к себе как в определяющую область» [22. С. 50]. Представление — это «поставление перед собой и в отношении к себе» [22. С. 51], «не раскрытие себя вещам, а схватывание и постижение… Сущее уже не присутствующее, а лишь противо-поставленное в представлении, пред-стоящее. Представление есть наступательное, овладевающее о-пред-мечивание» [22. С. 59]. Носитель активной волевой установки (субъект) представляет, природа, вещный мир как пассивный объект предстает и пред-стоит (перед субъектом).
Когда впоследствии к науке подключается современная техника, мир как картина (или предмет мировоззрения) превращается в поле, которое требуется перепахать. Картиной можно любоваться или просто созерцать — разглядывать любопытствующим непрактическим глазом. Поле же нуждалось в землепашце, а кто-то мог в соответствии с духом времени захотеть залить его цементом и построить на нем фабричное здание. Понятие техники, по Хайдеггеру, можно и нужно толковать предельно широко — как разнообразную человеческую деятельность, включая «мастерство» и «искусство». Источником технического поиска и творчества выступает универсальное человеческое «стремление к познанию — через обнаружение “сокрытого”». «Начиная с Нового времени, давшего импульс квантитативному, исчисляющему освоению мира и отсюда — экспериментальной физике, это направленное на бытие обнаружение… впервые обретает совсем иной характер: из поиска истины оно превращается в агрессивно-принуждающее отношение к природе, “затребование” ее… со всеми ресурсами, с заключенной в ней энергией… Человек, не замечая этого, оказался сам “затребован” в это всеобъемлющее состояние» [18. С. 8], считая, что мир дан ему в виде запасов, бесконечной кладовой полезных материалов.
Иначе говоря, современная техника имеет свою специфику, она есть «затребование», «вытребование» — особая процедура, превращающая то, что затребуется, в «наличное состояние», своего рода материал. Человек, превращая природу в наличное состояние, сам превращается в таковое, становясь «человеческим материалом», он сам затребован не только в качестве ресурса, сырья, но и в качестве актуального или потенциального источника энергии. Хайдеггер приводит пример великой германской реки, способный задеть за живое не только поклонников эпоса и литературы романтизма. Рейн для немцев, как Волга для русских, не просто голубая полоса на карте или гигантские объемы текущей воды, но символ — исторический, поэтический, культурно-идентификационный: «На Рейне поставлена гидроэлектростанция. Она ставит реку на создание гидравлического напора, заставляющего вращаться турбины, чье вращение приводит в действие машины, поставляющие электрический ток, для передачи которого установлены энергосистемы с их электросетью. В системе взаимосвязанных результатов поставки электрической энергии сам рейнский поток предстает чем-то предоставленным как раз для этого. Гидроэлектростанция не встроена в реку так, как встроен старый деревянный мост, веками связывающий один берег с другим. Скорее река встроена в гидроэлектростанцию. Рейн есть то, что он теперь есть в качестве реки, а именно поставитель гидравлического напора, благодаря существованию гидроэлектростанции. Чтобы хоть отдаленно оценить чудовищность этого обстоятельства, на секунду задумаемся о контрасте, звучащем в этих двух именах собственных: “Рейн”, встроенный в гидроэлектростанцию для производства энергии, и “Рейн”, о котором говорит произведение искусства, одноименный гимн Ф. Гельдерлина» [22. С. 226–227].
Мост через Рейн был ранее как бы вписан в природу, дополнял ее, а ГЭС, наоборот, делает реку покоренной, придатком, заставляет служить системе гидроэнергетики. В первом случае техника подлаживается к природе, во втором — подчиняет себе природу. Современный человек наивно думает, что он хозяин положения, что все вокруг — лишь объект для утверждения его могущества. Европейское естествознание, физика и надстраивающиеся над ней инженерные дисциплины относятся к природе и в теории, и на практике (в эксперименте) именно таким образом. В итоге Хайдеггеру приходится констатировать ту же непредвиденную человеком модерна «диалектическую каузальную петлю», о которой писали представители Франкфуртской школы. Осуществленное в Новое время противопоставление субъекта/объекта и покорение природы оборачивается в конечном счете против человека. Человек модерна оприходует себя как вещь, наступает на грабли собственного тотально опредмечивающего отношения к миру (3).
По образу и подобию выработанного современной наукой и техникой отношения к физическому миру строятся и отношения между людьми — максимально инструментализируются. Торжествует вывернутый наизнанку категорический императив: де-факто в эпоху модерна везде и всюду к человеческим и природным объектам относятся как к средству, а не как к цели (4), ими оперируют, а человек уподобляется набору удобных или неудобных ментальных характеристик и поведенческих реакций. Технологическое господство над природой и технологическое господство над людьми — это разновидности одного и того же отношения.
Центральным сюжетом изложения до сих пор являлась диагностика инструментального разума, или инструментальной рациональности, или того, что М. Вебер называл формальной рациональностью, — оправдывающей и обосновывающей саму себя из себя же, фетишизирующей «рациональный» (процедурно-операциональный) характер действия независимо от содержательных, ценностных, «материальных» аргументов. Инструментальный разум не привязывается к гипостазированным содержательным целям, свободен от них, сугубо формален, т.е. может служить в принципе чему и кому угодно (закрепощению и освобождению, добру и злу). Его стихия — координирование, управление, планирование, калькулирование, оптимальное функционирование, организация, систематизация, обеспечение «эффективности». Неудивительно, что чаще и лучше всего ему удается служить целям господства и контроля. Он не может позволить траве жизни расти «как придется», ему непременно нужно превратить ее в ровно подстриженный газон или закатать в асфальт, чтобы та не раздражала взор формалиста своей стихийностью и неупорядоченностью. Инструментальный разум есть «бесцельная целесообразность» [23. С. 113]. Просвещенческий разум стремится возобладать над чувствами, в которых отражается природное в нас. Также для него характерна «свобода от укоров совести», «любви и ненависти» — если все было сделано рационально. Подобный мотив часто озвучивается представителями технократического и бюрократического аппарата, когда требуется легитимировать осуществляемые под их руководством мероприятия.
Инструментальный разум по сути своей есть кантовский «чистый разум» (как логическая программа построения науки), адаптированный к решению практических задач преобразования мира. Поэтому неудивительно, что на страницах «Диалектики Просвещения» критикуется и Кант: чистый разум с помощью своих категорий и инструментария господствует над познавательным материалом, устанавливая схематизм общих понятий, подгоняя под общие принципы эмпирические данные чувственных созерцаний. Только на таких условиях возможен организованный когнитивный опыт. Эпистемологическая программа новоевропейского/научного разума конструирует «такой вид познания, который наилучшим образом разделывается с фактами, который оказывает наиболее эффективную поддержку субъекту в деле обуздания им природы… Разумом учреждается инстанция калькулирующего мышления… не знающего никаких иных функций, кроме препарирования предмета, превращения его из чувственного материала в материал порабощаемый. Подлинная природа схематизма, наружно согласовывающего общее и особенное, понятие и единичный случай, в нынешней науке, наконец, обнаруживает себя в качестве интереса индустриального общества. Бытие рассматривается тут под углом зрения его переработки и управления им. Все здесь становится воспроизводимым, заменимым процессом, просто примером для понятийной модели системы, в том числе — отдельный человек» [23. С. 106–107].
Инструментальная рациональность легко переключается между уровнями практического и теоретического, технологического и научного мышления. Наука реализует принцип господства над миром «в мысли», т.е. умозрительно, а технологии и бюрократический аппарат осуществляют это господство «на практике». Как справедливо замечает Маркузе, «теоретический операционализм пришел в соответствие с практическим операционализмом. Ведший ко все более эффективному господству над природой, научный метод стал, таким образом, поставщиком чистых понятий, а также средств для все более эффективного господства человека над человеком через господство над природой. Теоретический разум, оставаясь чистым и нейтральным, поступил в услужение к практическому разуму, и объединение оказалось плодотворным для обоих… В этом универсуме технология обеспечивает также широкую рационализацию несвободы человека и демонстрирует “техническую” невозможность автономии, невозможность определять свою жизнь самому. Ибо эта несвобода не кажется ни иррациональной, ни политической, но предстает скорее как подчинение техническому аппарату, который умножает жизненные удобства и увеличивает производительность труда. …Технологическая рациональность скорее защищает, чем отрицает легитимность господства, и инструменталистский горизонт разума открывает путь рационально обоснованному тоталитарному обществу… Логос техники превратился в Логос непрекращающегося рабства. Освобождающая сила технологии — инструментализация вещей — обращается в оковы освобождения, в инструментализацию человека» [16. С. 208–209].
Далее в «Одномерном человеке» тема сращения, взаимопереходов и изоморфизма теоретического и практического пластов инструментальной рациональности повторяется: «в технологической действительности объективный мир (включающий субъектов) переживается как мир инструментальных средств. Форма данности объектов здесь предопределена технологическим контекстом. Так, ученому они a priori даны как свободные от ценности элементы и комплексы отношений, допускающие их организацию в эффективную логико-математическую систему; здравому смыслу они явлены в виде материала для работы или досуга, производства или потребления» [16. С. 287–288].
Для низкой жизни были числа…
Высказывание «в каждой науке столько науки, сколько в ней математики», согласующееся как с духом Просвещения, так и с лапласовским детерминизмом и разными формами механицизма, для инструментального разума звучит как лозунг и руководство к действию. В то же время математика выступает как стиль мышления, убивающий все неповторимое и особенное. Разнообразие и полнота жизни, более адекватно описываемые словом, становятся жертвами цифры, или, словами Н. Гумилева: «для низкой жизни были числа, как домашний, подъяремный скот, потому что все оттенки смысла умное число передает». Математика обходится с витальным потоком бытия приблизительно так же, как «ремесленник от композиции» Сальери обходился с музыкой: «Ремесло Поставил я подножием искусству; Я сделался ремесленник: перстам Придал послушную, сухую беглость И верность уху. Звуки умертвив, Музыку я разъял, как труп. Поверил Я алгеброй гармонию».
В одном из российских учебных пособий по математике для детей начальной школы предлагается следующая задача: «каменный блок для строительства пирамиды тащат 16 рабов. Через каждые 50 метров их сменяют 16 новых рабов. Сколько рабов сменится на пути длиной 1500 метров». Демонстративная нейтральность и отстраненность составителей пособия способна покоробить некоторых родителей, увидевших в задании не только пример арифметического упражнения, но и отсылку к определенному историческому материалу. Рабам в Древнем Египте, конечно, не позавидуешь, но математика тут ни при чем — она демонстрирует свое привычное равнодушие ко всему, что измеряет и рассчитывает. В этом смысле приведенный пример мало отличался бы от следующего (второго в книге нет): «356 зэков работают по 16 часов на лесоповале при температуре минус 40. 153 из них умерли сами, 17 покончили жизнь самоубийством, 32 расстреляны за сопротивление лагерной охране. Сколько зэков осталось?». Математика отлично подходит для того, чтобы считать как ромашки, так и трупы.
И дело не только в том, что процедуры квантификации неразборчивы по отношению к своему материалу, но и в том, что они мертвят, превращают цветущую сложность жизни в «непрерывную однородность»/«однородную непрерывность». Эта мысль хорошо схвачена в забавном четверостишии: «У сатаны есть калькулятор Чтоб мертвецов своих считать А Иисус и так всех помнит И всех по имени зовет».
В прибалтийском мультфильме советского времени «Дилли-Далли в стране Перпендикула» вырисовывается картина противостояния Жизни как торжества различий, индивидуального и уникального, с одной стороны, и унифицирующего математического формализма, с другой. Озорной волшебник Дилли-Далли превращает игрушки в настоящих зверей, а Перпендикул пытается подчинить жизнь математическому контролю и регламентации. В костлявых руках последнего все превращается в геометрические структуры, раскладывается по коробочкам и ящичкам каталога, загоняется в ячейки матрицы. Такая страсть к стандартизации и обезличиванию — характерная черта современного стиля работы с реальностью, пропитанного квантофреническим духом, постоянно обнаруживаемого в деятельности бюрократического и технократического аппарата, в сферах экономических отношений и денежного хозяйства.
Всеобщий эквивалент или хитон Несса?
Обратимся к страницам «путеводителя по эпохе модерна», написанным К. Марксом и Г. Зиммелем. «Дух современности — пишет Зиммель — все более и более проникается математикой. Идеалу естествознания — превратить мир в арифметическую задачу, уложить каждую часть его в математическую формулу — соответствует математическая точность практической жизни, вытекающая из денежного хозяйства; это оно так заполнило день такого множества людей взвешиванием, сосчитыванием, числовыми определениями, переводом качественных ценностей на количественные» [6. С. 4]. Комментирующий «Философию денег» С. Московичи продолжает: «Общество переворачивает новую страницу. И на этой странице нет ничего, кроме чисел. Захлестнув науки, арифметика находится в процессе превращения… в интимный дневник наших мыслей и нашего поведения» [17. С. 446].
Товарно-денежные отношения как формальный принцип функционирования капиталистической экономики, математизированная наука и ее практические «объективации» в технической сфере, инструментальная рациональность — это изоморфные, логически согласованные и взаимодополняющие друг друга структуры, образующие вместе социокультурный и институциональный портрет эпохи модерна. Деньги, как и математика, архетипически выражают (по Зиммелю) универсализм обменных отношений. Но в современных обществах этот универсализм проступает гораздо четче, заявляет о себе категоричнее, чем в предшествующие эпохи [1; 4; 5. С. 317–340]. В деньгах и через их посредство происходит уничтожение своеобразия объектов. Одни ценности выражаются через другие путем их измерения и обмена. Люди и вещи уподобляются, и не потому, что вещи одушевляются, а скорее потому, что овеществляются люди и отношения между ними. Все исчисляется и приравнивается друг другу. Меновая стоимость ставится выше потребительской. Если все исчисляемо, все измеряется общим аршином денег, то своеобразие вещей, людей, ценностей неизбежно утрачивается. Деньги как формальное количественное мерило разрушают всякую сущность, уникальность, качество.
Если все (потенциально) обменивается на все, поскольку у всего есть цена, денежная стоимость, все конвертируется во все, все может быть выражено при помощи цифрового монетарного посредника, то все тем самым приравнивается и уравнивается. Все блага и ценности становятся звеньями в цепи бесконечного уравнения: доступ к телу женщины = картина маслом в раме (50х70) = консультация специалиста определенной категории = столько-то цистерн, бочек, канистр с мазутом, соляркой, бензином, = столько-то мешков штукатурной смеси, кубов, тонн, вагонов леса, трубопроката, банок балтийских шпрот, виртуозно исполненных фортепьянных концертов, оперных арий, научных статей, рассказов и поэм, часов работы шахтера, офис-менеджера, маникюрши, визажиста, массажиста, репетитора (5). И далее конъюнктура рынка или иные регуляторы, действующие в сходной формально-квантифицирующей манере, определяют в соответствии с «рациональными» критериями повышающие или понижающие коэффициенты, устанавливают обменные курсы и пропорции (6). Ценность, редуцированная к цене, в некотором роде обесценивается. Если ты стоишь столько-то (ср.: как говорят американцы, «выглядишь на миллион долларов!»), то ты стоишь всего лишь N килограммов картошки, кусков хозяйственного мыла или рулонов туалетной бумаги.
Денежная экономика диктует определенные условия реализующим свою трудовую активность людям. Наукообразный термин «коммодификация» лишь прикрывает нелицеприятную суть, выступая в роли эвфемизма. Человек, претендующий на получение зарплаты и действительно ее получающий, «проституирован», поскольку выставляет, предлагает и продает себя на рынке труда как вещь, товар (вернее, вынужден это делать «не от хорошей жизни»). Продавать можно все что угодно: «душу» и «тело», мускульную силу, ловкость рук, быстроту ног, зоркость глаза, любое мастерство, услуги, красоту, знания и т.п. Во всех случаях эти качества и способности выступают для экономической системы как заурядные средства. «В заработной плате и самый труд выступает не как самоцель, а как слуга заработка» [14. C. 238].
Труд как следствие любви к труду, как продукт стремления к самореализации выносится за скобки, даже если порой встречается. Какая именно эксплуатируется субъективная трудовая мотивация (ведь заниматься чем-то можно и из чистой «любви к искусству») для товарно-денежной экономики значения не имеет, поскольку основной ее принцип бескорыстную любовь (в том числе к труду) отвергает, но побуждает и вынуждает индивидуальных акторов (работников) «любить за плату», «продаваться», и подталкивают людей к этому определенные структурные обстоятельства, которым почти невозможно противостоять. Структурный контекст функционирования экономики формирует специфические субъективные структуры социального характера — того, который Э. Фромм называл «рыночным» [21. С. 152]. Носитель рыночного характера «относится к себе как к товару, предназначенному найти спрос на самых выгодных условиях, по самой дорогой цене… Человек-товар с надеждой демонстрирует свою этикетку, стараясь выделиться из товаров, представленных на прилавке для обозрения, и быть оцененным по высшей таксе… С самого раннего детства он усваивает, что быть в моде — значит пользоваться спросом и что он, как и все, должен удовлетворять требованиям спроса на рынке личностей» [21. С. 296].
Индивидам приходится подстраиваться: человек/работник хочет, чтобы его купили подороже, хочет в процессе образования или профессиональной подготовки приобрести компетенции и освоить виды деятельности, на которые есть спрос, получить знания, навыки и умения, которые можно легко монетизировать. Рыночная фразеология говорит об «инвестициях» в себя, о коэффициенте полезного действия (КПД) сотрудников организации, о «ликвидности» человеческого капитала, о личностном потенциале и ресурсе, из которых желательно выжать максимальную прибыль, о перспективах карьерного и иного роста, эффективности, результативности и продуктивности. При этом участники экономических отношений обычно не стесняются рассуждать о себе и описывать свои установки и ожидания при помощи таких клише — адресующих к калькулируемой продажности рабочей силы и «вещеподобию» трудовых функций (включая виды нефизического труда), как будто речь идет о неорганическом явлении или механическом процессе (мой час стоит столько-то; его перекупили и т.д.).
У истоков всех этих разговоров стоит Маркс — его высказывания о роли денег в современных обществах и «обесчеловечивающей» логике товарного производства и рыночного товарообмена хорошо известны. Еще в «Экономическо-философских рукописях 1844 года», т.е. в самом начале своего пути, Маркс пишет о деньгах и их способности формально конвертировать, потенциально приравнивать все ценности в мире, лишая их качеств: «Так как деньги обмениваются не на какое-нибудь одно определенное качество, не на какую-нибудь одну определенную вещь или определенные сущностные силы человека, а на весь человеческий и природный предметный мир, то, с точки зрения их владельца, они обменивают любое свойство и любой предмет на любое другое свойство или предмет, хотя бы и противоречащие обмениваемому. Деньги осуществляют братание невозможностей» [14. С. 297]. «Количество денег становится все в большей и большей мере их единственным могущественным свойством; подобно тому как они сводят всякую сущность к ее абстракции, так они сводят и самих себя в своем собственном движении к количественной сущности» [14. С. 272–273].
По ходу рассуждений Маркс вспоминает Шекспира, именующего золото «видимым богом, сближающим несродные предметы» [14. С. 293–294]. Здесь же возникает и мотив сравнения логики хозяйственной жизни и проституции (в прямом, а не переносном смысле): «Если я задам политэконому вопрос: повинуюсь ли я экономическим законам, когда я извлекаю деньги из продажи своего тела для удовлетворения чужой похоти (фабричные рабочие во Франции называют проституцию своих жен и дочерей добавочным рабочим часом, и это буквально так и есть), и разве я не действую в духе политической экономии, когда я продаю своего друга марокканцам (а непосредственная продажа людей, в виде торговли рекрутами и т.д. имеет место во всех культурных странах), — то политэконом мне отвечает: ты не поступаешь вразрез с моими законами» [14. С. 277].
В раннем очерке «К еврейскому вопросу» (1843) озвучивается тема денег как рукотворного бога, созданного людьми и порабощающего их: «Деньги низводят всех богов человека с высоты и обращают их в товар. Деньги — это всеобщая, установившаяся как нечто самостоятельное, стоимость всех вещей. Они поэтому лишили весь мир — как человеческий мир, так и природу — их собственной стоимости. Деньги — это отчужденная от человека сущность его труда и его бытия; и эта чуждая сущность повелевает человеком, и человек поклоняется ей» [11. C. 152].
С. Московичи, обыгрывающий метафору общества как машины, творящей богов, находит одного из таковых в деньгах, что верно прежде всего в отношении социальных систем современности. При этом Московичи иронично, хотя и с досадой замечает: «параллельно с отливом и атрофией старого религиозного монотеизма гипертрофируется новый монетарный монотеизм. Своей неограниченной властью он обращает мир в свою веру… В борьбе между Иеговой и Золотым тельцом Бог выиграл все битвы, но в результате проиграл саму войну» [17. С. 413].
Господство денег и выражаемых в денежной форме меновых стоимостей над стоимостями потребительскими и всеми видами труда при капитализме — сюжет, к которому Маркс возвращается постоянно. В «Экономических рукописях 1857–1859 годов» читаем: «Деятельность, какова бы ни была ее индивидуальная форма проявления, и продукт этой деятельности, каковы бы ни были его особые свойства, есть меновая стоимость, т.е. нечто всеобщее, в чем всякая индивидуальность, всякие особые свойства отрицаются… Поэтому товары — лишь случайные формы существования. Деньги — это “экстракт всех вещей”, в котором их особенный характер погашен… Деньги удовлетворяют любую потребность, поскольку могут быть обменены на объект любой потребности, будучи совершенно безразличны ко всякой особенности… Из своего рабского облика, в котором они выступают как всего лишь средство обращения, деньги внезапно превращаются в господина и бога в мире товаров. Деньги представляют небесное существование товаров, в то время как товары представляют земное существование денег» [13. С. 100, 164–166].
Здесь также встречается сравнение наемного труда с проституцией, но уже в широком, переносном смысле: «Способность всех продуктов, деятельностей, отношений к обмену на нечто третье, вещное, на нечто такое, что в свою очередь может быть обменено на все без разбора, — т.е. развитие меновых стоимостей (и денежных отношений) — тождественна всеобщей продажности… Всеобщая проституция выступает как необходимая фаза развития общественного характера личных задатков, потенций, способностей, деятельностей. Выражаясь более вежливо: всеобщее отношение полезности и годности для употребления» [13. С. 106].
Капиталистический товарный рынок уравнивает все и всех, нивелирует различия и одновременно фетишизирует социально-экономический порядок, превращая продукт человеческих отношений, т.е. явление общественного происхождения в нечто такое, что воспринимается людьми как квазивещественная вселенная, состоящая из вещей-товаров и уподобляемых им вещей-людей. Анализ товарного фетишизма, предпринятый Марксом в первом томе «Капитала», показывает изоморфизм процессов конструирования людьми универсумов религии (ср. с позицией Фейербаха [20]) и хозяйства: «Продукты человеческого мозга представляются самостоятельными существами, одаренными собственной жизнью, стоящими в определенных отношениях с людьми и друг с другом. То же самое происходит в мире товаров с продуктами человеческих рук. Это я называю фетишизмом, который присущ продуктам труда, коль скоро они производятся как товары… Производители относятся к своим продуктам труда как к товарам, следовательно, как к стоимостям, и в этой вещной форме частные их работы относятся друг к другу как одинаковый человеческий труд… Если бы товары обладали даром слова, они сказали бы: наша потребительная стоимость, может быть, интересует людей. Нас, как вещей, она не касается. Но что касается нашей вещественной природы, так это стоимость. Наше собственное обращение в качестве вещей-товаров служит тому лучшим доказательством. Мы относимся друг к другу лишь как меновые стоимости» [12. С. 81–82, 89, 93]. Аналогичным образом, как меновые стоимости, относятся друг к другу при капитализме и люди.
Авторы «Коммунистического Манифеста» пишут: «Буржуазия повсюду, где она достигла господства, разрушила все феодальные, патриархальные, идиллические отношения. Безжалостно разорвала она пестрые феодальные путы, привязывавшие человека к его “естественным повелителям”, и не оставила между людьми никакой другой связи, кроме голого интереса, бессердечного “чистогана”. В ледяной воде эгоистического расчета потопила она священный трепет религиозного экстаза, рыцарского энтузиазма, мещанской сентиментальности. Она превратила личное достоинство человека в меновую стоимость и поставила на место бесчисленных пожалованных и благоприобретенных свобод одну бессовестную свободу торговли. Словом, эксплуатацию, прикрытую религиозными и политическими иллюзиями, она заменила эксплуатацией открытой, бесстыдной, прямой, черствой. Буржуазия лишила священного ореола все роды деятельности, которые до тех пор считались почетными и на которые смотрели с благоговейным трепетом. Врача, юриста, священника, поэта, человека науки она превратила в своих платных наемных работников. Буржуазия сорвала с семейных отношений их трогательно сентиментальный покров и свела их к чисто денежным отношениям… Рабочие, вынужденные продавать себя поштучно, представляют собой такой же товар, как и всякий другой предмет торговли» [15. С. 426–427, 430].
Это не просто пафосное моральное осуждение, инвектив, изобилующий экспрессивной лексикой. Здесь озвучивается вполне точный холодный диагноз, содержащий набор серьезных эвристических суждений, описывающих особенности современных обществ. И главный выявленный тренд — переход от партикулярных, локальных зависимостей от конкретных лиц и внеэкономического принуждения к зависимостям вещным и универсальным (7), к экономическому принуждению, и параллельно разворачивающаяся всеобщая коммодификация. Говоря более поздним социологическом языком — перестройка социальной связи: из Gemeinschaft в Gesellschaft. Ты не обязан более падать ниц перед краснокаблучным дворянином или боярином в бобровой шубе, трепетать перед венцом и бармами, скипетром и державой, гнуть спину перед барином и господином, рассчитывая на их милость и снисхождение. «Хозяина» и «патрона» больше нет, но есть «начальство», абстрактная власть денег и приводимые ею в движение анонимные механизмы управления и господства («свою общественную власть, как и свою связь с обществом, индивид носит с собой в кармане» [13. С. 100]). Теперь бедняк, как никогда ранее, может сказать про богача: я, в сущности, такой же, как он, и наше единственное отличие заключается в том, что мой карман пуст, а его полон.
Сам характер общественного господства становится в эпоху модерна другим, и изменяется он в том же направлении, что и характер отношения человека к природе. В традиционных обществах не существовало радикального разрыва между субъектом трудовой деятельности, с одной стороны, и средствами и предметами труда — с другой. Человек как член коллектива кормился с земли — своим ли трудом или как-то иначе (например, привилегированные группы кормились благодаря чужому труду). Мать-земля давала, а человек брал, пользовался ее дарами (хотя этот процесс не всегда был «простым», мог быть в физическом смысле тяжелым). При капитализме же мир объектов труда впервые становится по-настоящему чужеродной, «внешней» реальностью и предметом/средством манипулирования одновременно.
Исследователи, стремящиеся оценить вклад Маркса в постановку социологического диагноза модерна, отмечают: «Взаимоотношения человека и природы коммерционализируются. Из почти сакрального условия существования общности (общины) и каждого конкретного человека, естественной основы его жизни и труда она становится чем-то представляющим чисто инструментальный интерес… Природа как самостоятельный сложноорганизованный организм, элементом которого выступал человек, исчезает. Наоборот, отдельные компоненты возобновимых и невозобновимых природных ресурсов становятся элементами создаваемой человеком техносферы, а сельскохозяйственное производство — разновидностью фабричного, чему сопутствует его рационализация, интенсификация и т.д. С переходом от традиционных обществ к современным качественно меняется сам тип отношений общества и природы, в них смещается точка отсчета» [19. С. 113]. Проще говоря, имеет место «инструментализация и десакрализация отношения человека к природе» [19. С. 114].
Зиммель в «Философии денег» и сопутствующих эссе движется если не по стопам Маркса (8), то в сходном направлении. Он рассуждает о деньгах вполне в марксовом духе, хотя специфическая политэкономическая фразеология здесь уступает место более широкой — философско-социологической. Но смысл остается тем же: все то, что выражено в количественной монетарной форме, теряет уникальность и качественный характер, приравнивается ко всему прочему, что может быть выражено в деньгах. Ценность редуцируется к цене. Ключевое зиммелевское концептуальное описание сущности денег — «в себе и для себя чистое отображение ценностных отношений вещей, они равно доступны любой стороне, в денежных делах все люди равноценны, но не потому, что ценен каждый, а потому, что ни один не обладает ценностью, а только деньги» [28. С. 483]. «Принцип денег устраняет всякую индивидуальность явлений. Деньги спрашивают только о том, что является общим для всех соответственных явлений, а именно о меновой ценности, которая нивелирует всякое качество и всякую оригинальность под единственный критерий количества... Однообразно оценивая все разновидности вещей, выражая качественные различия между ними одним критерием количества, становясь бесцветной и безразлично общей мерой для всех ценностей, деньги становятся также самым страшным нивелирующим фактором. Деньги решительно отбрасывают ядро вещей, их своеобразность, их специфическую ценность, их несравнимые особенности. В вечно движущемся денежном потоке все вещи и ценности плавают с равным удельным весом, все они находятся на одной плоскости и отличаются лишь величиной занятого на последней пространства» [6. С. 2, 5–6]. «Где деньги стали мерилом стоимости всего, где бесконечное количество самых разнообразных предметов можно за них получить, там они приобретают такую бесцветность и бескачественность, которая все, чему они служат эквивалентом, в определенном смысле обесценивает» [7. С. 13].
Зиммель, по-видимому, еще менее, чем Маркс, склонен к морализаторству при оценке роли денег в общественной жизни. Его рассуждения не про тлетворное влияние презренного металла, приводящее к коррозии человеческих отношений. К тому же алчность и корыстолюбие не являются отличительными чертами умонастроения человека модерна, они существенно старше. Социолог отлично понимает, что деньги не только закрепощают, но и в некотором роде освобождают. Способность объединять несходное, преодолевать различия — преимущество денег, помогающее людям интегрировать, конструктивно опосредовать их отношения в высокодифференцированных обществах. В условиях труднообозримой пестроты индивидуальных различий, требующей известной гомогенизации, деньги становятся механизмом социальной связи, почти универсальной отмычкой для многих закрытых дверей. При разложении локальных связей, расширении круга контактов и усилении мобильности они позволяют вступать в отношения миллионам незнакомцев. Деньги есть универсальное оружие, социальный магнит в мире, состоящем из «чужаков». Но ценой этого «условного освобождения» от порой отягощающих гемайншафтных уз оказывается утрата интимности социальной связи, ощущения уникальности разворачивающегося здесь и теперь взаимодействия, между участниками которого отныне не должно быть «ничего личного» (только бизнес), ничего «слишком человеческого» ни в хорошем, ни в плохом смыслах. Чистая денежная связь в любой значимой социальной трансакции способна оскорбить индивида именно тем, что в нем перестают видеть человека.
Итак, деньги и пронизанное техницистски-инструментальным духом естествознание создают однопорядковые, согласующиеся модели работы (оперирования) с элементами природной и социальной реальности. «Настоящий хитон Несса — деньги ткут второе тело общества, математизированное и гомогенное, в котором более нет особых, замкнутых на определенном человеке отношений. Можно сказать, картезианское общество, в котором “априорными элементами отношений являются более не индивиды с их собственными характеристиками, из которых рождается социальное отношение, но скорее сами эти отношения в качестве объективных форм — “позиций”, пустых пространств и контуров, которые индивиды должны просто заполнить каким-либо образом» [17. С. 448]. Место людей с их деньгами занимают деньги и их люди.
Примечания
(1) В точке пересечения марксовой, зиммелевской и веберовской перспектив (с очевидным перевесом в сторону линии Маркса) находится еще один важнейший прецедентный источник — «История и классовое сознание» Д. Лукача, написанный в 1920-е годы [10].
(2) Например, циклопа Полифема, которому, как и его собратьям, недоставало (раз)ума, чтобы играть с Одиссеем на равных, несмотря на обладание многократно превосходящей физической силой.
(3) Сходную оценку указанной интенции новоевропейского мышления (в связи с фигурой Декарта) можно найти у учителя Хайдеггера. В «Кризисе европейских наук» [3] Э. Гуссерль отмечает: «Декарт …некогда подтвердил, что миссия человека состоит в том, чтобы стать “господином и обладателем природы”, но взамен сам он стал такой же вещью, зависимой от техники и истории, которые порабощают его» [17. С. 421].
(4) Этот принцип является конституирующим для капиталистической модели хозяйствования и рыночной системы обмена. Как пишет Маркс: «Общество — каким оно выступает для политэконома — есть буржуазное общество, где каждый индивид представляет собой некоторый замкнутый комплекс потребностей и существует для другого лишь постольку, — а другой существует для него лишь постольку, — поскольку они обоюдно становятся друг для друга средством» [14. C. 285].
(5) Если так, то «монета может сказать: “Я была куском дерева, я была костью, я была листком бумаги, и я была раковиной, подобранной на песке”. Ее подвижная и невидимая реальность происходит от переселения ее стоимости, которая является душой этих вещей» [17. С. 399].
(6) Или в той же универсальной обменной логике, сближающей содержательные «противоположности», «приравнивающей неоднородное» (хотя деньги в этом шуточном предложении о сотрудничестве торговцев и писателей не фигурируют): «Я за “Милосердья эру” — Вот за что спасибо вам! — Дал две дыни офицеру И гранатов килограмм… Чтобы не было заминок (Любите кюфта-бюзбаш?) Шлите жен Центральный рынок — Полглавы барашка ваш».
(7) Ср.: «общество, нацеленное на технологическую трансформацию природы и уже осуществляющее ее, изменяет основу господства, постепенно замещая личную зависимость (раба от господина, крепостного от владельца поместья, а последнего от дарителя феода и т.д.) зависимостью от «объективного порядка вещей» (экономических законов, рынка и т.п.)» [16. С. 189].
(8) Значительная часть рукописного наследия Маркса при жизни Зиммеля еще не была опубликована.
Об авторах
Денис Глебович Подвойский
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова; Российский университет дружбы народов; Институт социологии ФНИСЦ РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: dpodvoiski@yandex.ru
кандидат философских наук, доцент кафедры социальной философии и философии истории философского факультета Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова; доцент кафедры социологии Российского университета дружбы народов; ведущий научный сотрудник отдела теории и истории социологии Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук
Ломоносовский проспект, 27, к. 4, ГСП-1, Москва, 119991, Россия; ул. Миклухо-Маклая, 6, Москва, 117198, Россия; ул. Кржижановского, 24/35, к. 5, Москва, 117218, РоссияСписок литературы
- Аникаева Е.А. Основные подходы к исследованию денег в социологии // Экономическая социология. 2008. Т. 9. № 1.
- Бергер П. Священная завеса. Элементы социологической теории религии. М., 2019.
- Гуссерль Э. Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология: Введение в феноменологическую философию. СПб., 2004.
- Зарубина Н.Н. Деньги как социокультурный феномен. М., 2011.
- Зарубина Н.Н. Социология хозяйственной жизни: проблемный анализ в глобальной перспективе. М., 2006.
- Зиммель Г. Большие города и духовная жизнь // Логос. 2002. № 3.
- Зиммель Г. Кое-что о проституции в настоящем и будущем // Зиммель Г. Большие города и духовная жизнь. М., 2018.
- Зиммель Г. Философия денег (фрагмент) // Теория общества. М., 1999.
- Кракауэр З. Орнамент массы. М., 2019.
- Лукач Г. История и классовое сознание. Исследования по марксистской диалектике. М., 2003.
- Маркс К. К еврейскому вопросу // Маркс К. Социология. М., 2000.
- Маркс К. Капитал. Т. 1. // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 23. М., 1960.
- Маркс К. Экономические рукописи 1857-1859 годов // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 46. Ч. 1. М., 1968.
- Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 года // Маркс К. Социология. М., 2000.
- Маркс К., Энгельс Ф. Манифест коммунистической партии // Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 4. М., 1955.
- Маркузе Г. Одномерный человек. М., 1994.
- Московичи С. Машина, творящая богов. М., 1998.
- Тавризян Г.М. Философы ХХ века о технике и «технической цивилизации». М., 2009.
- Тихонова Н.Е., Аникин В.А., Горюнова С.В., Лежнина Ю.П. Концепция модернизации в работах классиков социологической мысли второй половины ХIХ - начала ХХ вв. // Социология: 4М. 2007. № 24.
- Фейербах Л. Сущность христианства. М., 1965.
- Фромм Э. Иметь или быть? М., 1990.
- Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993.
- Хоркхаймер М., Адорно Т.В. Диалектика Просвещения. Философские фрагменты. М.-СПб., 1997.
- Шпенглер О. Закат Европы: очерки морфологии мировой истории. Т. 1-2. М., 1993, 1998.
- Шпенглер О. Человек и техника // Культурология. ХХ век. М., 1995.
- Элиас Н. Общество индивидов. М., 2001.
- Ясперс К. Духовная ситуация времени // Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1994.
- Simmel G. Philosophie des Geldes. Berlin, 1958.
Дополнительные файлы