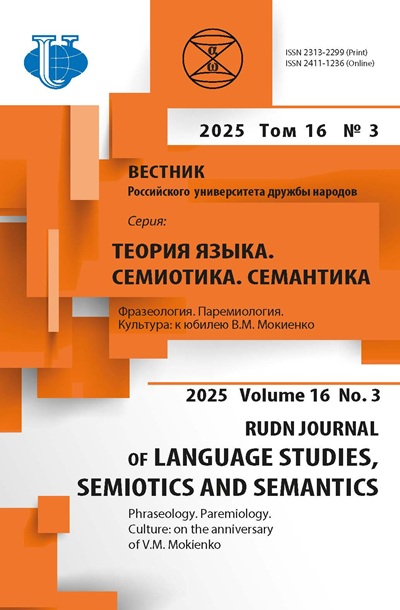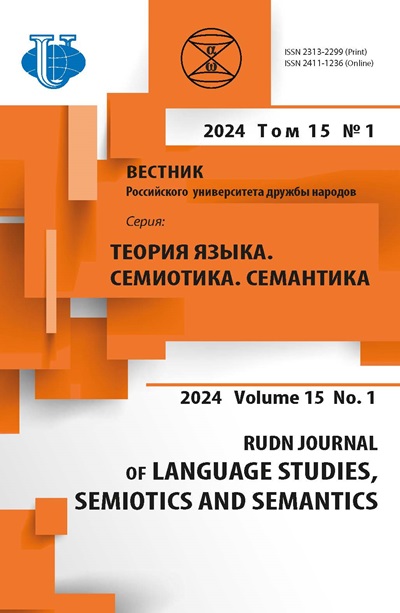Взаимосвязь субстанции, структуры и функции в текстах высокой степени системности
- Авторы: Валентинова О.И.1
-
Учреждения:
- Российский университет дружбы народов
- Выпуск: Том 15, № 1 (2024)
- Страницы: 22-37
- Раздел: ГЕННАДИЙ ПРОКОПЬЕВИЧ МЕЛЬНИКОВ: К 95-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
- URL: https://journals.rudn.ru/semiotics-semantics/article/view/38618
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-2299-2024-15-1-22-37
- EDN: https://elibrary.ru/CGAZWQ
- ID: 38618
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Цель исследования - установить свойства субстанции текстов, выявить особенности ее взаимосвязи со структурой в общей зависимости от функции, выполняемой текстом в надсистеме, и доказать, что исключение субстанции как важнейшего, но неочевидного для современного состояния науки аспекта системы приводит к неподдающемуся коррекции семиотическому искажению текста. Исследование проводилось на материале текстов разной этиологии, объединенных функционально обусловленной предельной или сверхвысокой степенью согласованности между собой всех уровней. Актуальность работы определяется ее значимостью в разработке системного метода исследования текстов, формировании методологических оснований системной филологии, семиотике культуры. Идеи системной лингвистики, складывавшиеся в трудах В. фон Гумбольдта, А.И. Бодуэна де Куртенэ, А.А. Потебни, И.И. Срезневского, Г.П. Мельникова, и системологии, разрабатываемой философами (К.Ф. Самохваловым, Г.П. Щедровицким) и представителями естественных и точных наук (П.К. Анохиным, В.А. Энгельгардтом, Л.В. Крушинским, Р.О. Бартини) не оказали прямого влияния на системное исследование текстов. Осознание значимости субстанции в понимании высокосистемных текстов начинает формироваться в экзегетике и философии искусства. Филология, помещая в фокус своего интереса главным образом художественные тексты, вносит свой вклад в разработку системного метода с появлением и развитием представлений о доминанте текста (ю.Н. Тынянов, Р.О. Якобсон), разнозначимости его единиц (Я. Мукаржовский), открытием сверхкатегории образа автора (В.В. Виноградов), выявлением приема остраннения (В.Б. Шкловский) и универсализацией остраннения как принципа освоения действительности (В.Б. Шкловский, Л.А. Новиков, М.Л. Новикова). Лежащее в основе этого исследования сравнение свойств субстанции текстов разной природы между собой на фоне свойств субстанции языка позволяет существенно уточнить представление о все еще мало изученной субстанции текста как важнейшем аспекте системы.
Ключевые слова
Полный текст
Введение
Филология, обращенная к исследованию текстов, и обращенная к исследованию языка лингвистика изучают системы, представление о которых либо проясняется, либо искажается в зависимости от применения методов, соответствующих или не соответствующих свойствам изучаемого объекта. Парадоксальность же сложившегося еще в начале XX в. и сохраняющегося до настоящего времени положения дел в науке определяется едва ли не всеобщим публичным провозглашением приверженности системному подходу и малочисленностью его действительных последователей. Причину происходящего основатель современной системной лингвистики Г.П. Мельников видел в переносе в лингвистику характерного для философии физики и математики заблуждения, заключающегося в отождествлении понятий системы и структуры [1. С. 98– 102]. Этот перенос осуществила структурная лингвистика, которая, исключая из поля зрения субстанцию как важнейший аспект системы, свела исследование системы языка к исследованию его структурной модели, не объясняя причины описываемых отношений и связей между элементами языка.
Понимание системы как совершенного целого, образуемого диалектическим единством субстанции (материи), структуры (схемы связей или отношений между элементами) и функции, в котором функция выступает как причина, лежит в основе разработанной Г.П. Мельниковым системной типологии языков — того раздела системной лингвистики, которая выявляет детерминанты, объясняя особенности каждого яруса языка и принцип согласования ярусов между собой и в четырех основных типах языков, выделенных В. фон Гумбольдтом, и в их модификациях [2. С. 125].
Это единство наиболее развернуто было верифицировано Г.П. Мельниковым на материале агглютинативных языков. Звуки, как субстанция языка, его материя, так же неслучайны, подчинены функции, выполняемой системой в надсистеме, как и все в языке. Вот небольшой фрагмент объяснения взаимодействия субстанции, структуры и функции: в классических агглютинативных языках отсутствуют согласные с напряженной артикуляцией, поскольку они могут вызвать изменение сингармонической окраски соседнего гласного. Если же согласные с напряженной артикуляцией не утрачиваются в агглютинативном языке, то они закрепляются в позиции только с теми вариантами гласных, сингармоническая окраска которых не меняется рядом с ними [2]. Создание Г.П. Мельниковым геометрической модели тюркского вокализма позволило визуализировать акустическое расстояние между гласными, различными по подъему и по ряду. Бόльшее акустическое расстояние между гласными разного подъема в сравнении с акустическим расстоянием гласных, различающихся по ряду, обусловило использование в подавляющем большинстве агглютинативных языков различия по подъему в качестве фонематического (смыслоразличительного) признака, а по ряду — для увязывания аффиксальных морфем в одну словоформу с корневой морфемой. Сингармоническая окраска гласного выступает единственным средством увязывания морфем в одну словоформу в условиях, когда согласные в этой функции не используются. Если бы использовались в этой функции согласные, то слипание согласных на стыках морфем (фузия) помешало бы извлекать аффиксы из словоформы. А это извлечение необходимо при тенденции к экономии служебных морфем в речевой цепи, которая выступает как внутренняя детерминанта агглютинативных языков. Причиной же внутренней детерминанты выступают условия общения членов языкового коллектива. Иное, перифрастическое, именование внешней детерминанта, часто используемое Г.П. Мельниковым как лаконично раскрывающее ее смысл, — условия общения членов языкового коллектива. Кочевники, собираясь обычно осенью после длительного перерыва в общении, вызванного необходимостью пасти скот, узнают, как изменились свойства всем известных субъектов и объектов за это время. Поэтому служебные аффиксы употребляются только, если выражаемое ими значение не очевидно для общающихся людей.
Системный подход в изучении текстов не был экстраполирован филологией из системной лингвистики и не был прямо//непосредственно связан с развитием теории больших систем [3–6]. Он формировался независимо, в стремлении понять тексты высокой степени системности — мифологические, религиозные, художественные. Но и системное исследование семиотически сложных текстов, как и системное исследование языка, становится потенциально возможным только с осознанием особенностей их субстанции.
Прояснение свойств субстанции художественного текста, особенности их связи со структурой и функцией
К пониманию субстанции художественных текстов подводит философия искусства. Опираясь на берущее начало от Аристотеля [7] положение эстетики о том, что в основе искусства лежит подражание под действительность (см., например, [8]), мы можем определить субстанцию художественного текста как материю, представляющую собой подражание под действительность естественного языка. Однако обусловливаемая сущностью искусства неповторимость отдельного произведения, его единичность [9. С. 351], ставит исследователя перед необходимостью переустанавливать функцию и значение каждого иллюзорно узнаваемого элемента не только в каждом тексте даже одного и того же автора, но и в каждой точке линейного развития одного и того же текста.
Небольшой пример. Роман Ф.М. Достоевского «Идиот»[1] начинается со встречи трех героев — князя Мышкина, Рогожина и Лебедева — в поезде Петербургско-Варшавской железной дороги. Едва познакомившись с князем, Рогожин приглашает его поехать вместе к Настасье Филипповне и вдруг настораживается:
«— А до женского пола вы, князь, охотник большой? Сказывайте раньше!
— Я, н-н-нет! Я ведь… Вы, может быть, не знаете, я ведь по прирожденной болезни моей даже совсем женщин не знаю.
— Ну коли так, — воскликнул Рогожин, — совсем ты, князь, выходишь юродивый, и таких, как ты, бог любит!
— И таких господь бог любит, — подхватил чиновник» (с. 14).
В этом фрагменте, состоящем из четырех реплик, формируется значение знака ю-р-о-д-и-в-ы-й — ‘девственник’ (тот, кто совсем не знает женщин), ‘тот, кого бог любит’. Реплика Лебедева, повторяющего слова Рогожина, закрепляет это значение, усиливая его значимость в содержательной структуре образа князя Мышкина.
Композиционная форма речи — хорошо узнаваемая, но участники диалога поменялись функциями. Семантическое развитие текста определяет на этом отрезке не спрашивающий Рогожин, а отвечающий князь. Это изменение функций обеспечивается информационным избытком, который содержится в ответе князя — я ведь по прирожденной болезни моей даже совсем женщин не знаю. Рогожин спрашивает князя только о том, не увлекается ли он женщинами, а князь отвечает, что он девственник. Информационный избыток не только меняет на обратные типовые функции спрашивающего и отвечающего, но и становится способом актуализации смысла «девственник». Таким образом, информационный избыток выполняет сразу две функции.
Уже этот пример показывает, что функция всегда связана с надсистемой. Наделенная ошибочной очевидностью материя выводит на образно-композиционный уровень текста, формируя ядерную область содержательной структуры образа главного героя, определяющую в конечном счете семантическую структуру всего текста как ту не высказываемую ранее и не выражаемую иначе идею, ради которой этот текст создавался.
Субстанция художественного текста, в отличие от субстанции языка, не имеет исходных характеристик. Если свойства звуков как материи языка очевидны, но неочевиден принцип их отбора, определяемый требованием обеспечить эффективное общение членов языкового коллектива в определенных условиях, то свойства субстанции художественного текста узнаваемы только иллюзорно: кажущийся знакомым знак имеет иное значение, в кажущейся очевидной композиционной форме речи трансформируются функции участников разговора. Получается, что свойства субстанции художественного текста необходимо каждый раз переустанавливать. Неизменно только то, что субстанция не то, чем сначала кажется. чтобы установить ее подлинные свойства, исследователь вынужден каждый раз переустанавливать границы трансформационного контекста, который может сужаться до одной реплики, а может расширяться до объема всего текста.
В художественном тексте, представляющем собой поток сознания, возобновляется и таким образом закрепляется то, что оказывается важным для художника не только осознаваемо, но и — и это особенно знáчимо — бессознательно. Именно в этом смысле самую большую неожиданность художественный текст преподносит своему создателю.
Свойства того фрагмента материи, который мы уже начали рассматривать, будут закрепляться по мере дальнейшего линейного развертывания текста. Реплика Евгения Павловича Радомского, произнесенная ближе к финалу романа, возвращает к его началу, ко дню приезда князя в Петербург из Швейцарии: «И вот, в этот же день [в день приезда — О.В.], вам передают грустную и подымающую сердце историю об обиженной женщине, передают вам, то есть рыцарю и девственнику, и о женщине» (с. 481).
Два знака — рыцарь и девственник, связанные сочинительной связью, — вступают друг с другом в отношения семантического взаимодействия. Сюжетное объяснение девственности главного героя его болезнью уже отсутствует. Девственность, соотносимая с рыцарством в этой реплике, юродством и любовью бога — в предыдущей, наделяется неизвестным толковым словарям символическим значением. Символическое значение знака девственник продолжит развиваться по мере развития значений связанных с ним знаков — рыцарь, юродивый, любовь бога … — до конца линейного развертывания текста, формируя его субстанцию. В ходе развертывания текста знаки этой цепи (девственник — юродивый — таких любит бог — рыцарь) будут вовлекаться в новые цепи смыслового взаимодействия. Достоверно свойства субстанции можно будет установить, рассматривая текст как целое.
Взаимодействие элементов смысловой цепи, наблюдаемое в ограниченном контексте, облегчает ее реконструкцию, независимо от числа и объема образующихся новых цепей и соотношения числа образующихся новых цепей и числа обрывов. Каждый элемент этой цепи предстает своего рода связующим звеном между как минимум двумя другими элементами: девственность свяжется в первом контексте с юродством и любовью бога, во втором контексте — соотнесется с рыцарством, так — через девственность — рыцарство начнет семантически взаимодействовать с юродством и любовью бога и далее…. Нити смысловых взаимодействий будут тянуться и поверх контактных границ, и между группами. В конечном счете сетью смысловой связи окажутся объединенными все элементы цепи, преобразованные в сложное смысловое множество, соотносимое либо с героем как знаком идеи, либо с группой героев, либо с мыслью, не опирающейся на образ композиционного уровня.
Много сложнее соотнести некоторый знак со смысловым множеством в ситуации, когда этот знак не вступает в линейное взаимодействие ни с одним из образующих смысловое множество элементов: «И будет каяться! — закричал Рогожин, — будешь стыдиться, Ганька, что такую… овцу (он не мог приискать другого слова) оскорбил! Князь, душа ты моя, брось их; плюнь им, поедем! Узнаешь, как любит Рогожин!» (с. 99).
Эта реплика Рогожина звучит в первый день романного действия, в доме генерала Иволгина, после пощечины, которую Ганя Иволгин дал князю, не позволившему ему ударить сестру. Многоточие, обозначающее глубокую паузу после незначительного повышения интонации (такую … овцу), и оформленное вводным предложением уточнение рассказчика — он не мог приискать другого слова, задерживающие внимание читателя на предшествующем знаке овца, выступают как способы его актуализации в тексте, намекают на его не-случайность, но не раскрывают его содержания. Возможность соотнесения этого знака с символическим именем Богочеловека — Агнца Божия, обозначающим искупительную жертву Христа, может быть достигнута только на завершающем этапе реконструкции семантической структуры текста, когда будет вскрыт общий вектор смыслового преобразования его элементов, находящихся в эпицентре категории эстетически значимого. Эти обстоятельства позволяют нам прояснить еще одно существенное различие свойств субстанции языка и субстанции художественного текста.
Субстанция художественного текста, в отличие от субстанции языка, иерархична по своей природе. И знак о-в-ц-а, и средства актуализации этого знака образуют субстанцию текста, но не равноправную и не гомогенную. Пауза и прерывающая прямую речь героя вводная реплика рассказчика, усложняющая интонационный рисунок этого фрагмента текста, являются средствами выделения элемента овца, который становится для них целью. А неочевидное значение этого элемента, то есть свойство этого элемента субстанции, обладающее знáчимостью в содержательной структуре образа главного героя, а значит, и в семантической структуре текста, являясь фактом этой структуры, не является средством ее формирования. Напротив, содержательная структура образа, образуемая сетью отношений между многократно закрепленными в тексте элементами, значение которых проясняется в относительно обозримых контекстах бόльшего или мéньшего объема, «втягивает» в себя, трансформируя их значение, единичные элементы, которые тем или иным способом актуализируются в ближайшем контексте. Но изменение значения определяется не этим контекстом, а общим направлением смыслопреобразовательной деятельности текста, его детерминантой. Если детерминанта языкового типа отбирает субстанцию (звуки с необходимыми характеристиками), то детерминанта художественного текста субстанцию формирует. И формирование субстанции текста, то есть наделение значением ее элементов, не всегда предшествует формированию его структуры, а может оказаться ее производной.
Другой пример. В Павловске Ипполит читает свое «объяснение» собравшимся на даче у Лебедева и князя гостям: «…самоубийство есть единственное дело, которое я еще могу успеть начать и окончить по собственной воле моей» (с. 344). Объявленное Ипполитом намерение застрелиться здесь же с восходом солнца вызывает бурную реакцию собравшихся: «Поднялся шум; Лебедев горячился и выходил уже из меры; Фердыщенко приготовлялся идти в полицию; Ганя неистово настаивал на том, что никто не застрелится. Евгений Павлович молчал» (с. 347).
чтобы прояснить особенности этого фрагмента субстанции, попробуем перевести его на кинематографический язык. Передать сумбур происходящего возможно только общим планом. Молчание ироничного Евгения Павловича может быть подчеркнуто композиционным решением сцены. Но происходящее далее требует крупного плана:
«— Князь, слетали вы когда-нибудь с колокольни? — прошептал ему вдруг Ипполит. Н-нет… — наивно ответил князь» (с. 347).
Резкая смена плана — от общего к крупному, неожиданный (вдруг) переход с крика на шепот, не связанный с репликами других героев краткий диалог Ипполита и князя, который не слышат другие. А далее снова внезапное усиление звука, возвращение к общему плану: «Довольно! — закричал он [Ипполит] вдруг на всю публику» (с. 347).
Кратковременное изменение плана изображения и акустических характеристик сцены станут средством актуализации вопроса Ипполита, то есть одновременно и средством выделения того смысла, который обладает повышенной знáчимостью в содержательной структуре текста, и средством формирования его повышенной знáчимости. Но сам смысл не раскрывается в этом фрагменте.
Любопытно, что Ж.-М. Гюйо в своей эстетике анализирует особенности восприятия произведения искусства на примере именно акустического образа, обращаясь к музыке: «… если maximum forte был взят именно с первого удара, то напрасен будет весь дальнейший шум, — единственное средство поразить внимание, это взять pianissimo» [10. С. 360]. чтение про себя, как и механическое чтение вслух, часто не позволяют уловить акустический способ выделения значимого смысла, даже если есть прямые, лексические, показатели этого выделения (громко — тихо — громко). Графическое выражение заминки — н-нет — и обозначающее паузу многоточие в ответной реплике князя как знаки обдуманности ответа тем более могут остаться незамеченными. Не лежат на поверхности и такие предполагающие зрительное восприятие способы выделения значимого смысла, как, например, смена ракурса изображения. Но все же сложность определения свойств субстанции некоторого текста определяется не столько неисчислимостью способов выделения значимого смысла и их комбинаторных возможностей, как установлением самого смысла. Смысл же может быть многократно выделен в том или ином контексте, как мы это наблюдаем в разбираемом фрагменте, но… не прояснен в нем.
Отсутствие безусловного совмещения способов актуализации смысла и его прояснения в некоторой общей точке линейного развертывания текста — существенное универсальное свойство субстанции художественного текста. Установленное исследователем общее направление смыслового преобразования актуализированных элементов текста разного объема, его детерминанта, позволит ретроспективно раскрыть содержание не расшифровываемых линейно эстетических знаков. Соотнести вопрос Ипполита со вторым искушением Христа — «Потом берет Его диавол в святой город и поставляет Его на крыле храма, и говорит Ему: если Ты Сын Божий, бросься вниз, ибо написано: „Ангелам Своим заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею“» (От Матфея Гл.4. Ст. 5) — невозможно, не опираясь на уже выведенное направление детерминантной деятельности текста. Равно как невозможно вне этой опоры интерпретировать ответ князя как отказ от чуда как насильственного доказательства божественного происхождения. Заметим отдельно, что соотнесение не означает отождествления: ракурс отклонения от известных в истории культуры смыслов совпадет с направлением детерминантной деятельности текста.
Прямое значение выражения слететь с колокольни используется в этой же сцене объяснения Ипполита в речи рассказчика: «Есть в крайних случаях та степень последней цинической откровенности, когда нервный человек, раздраженный и выведенный из себя, не боится уже ничего и готов хоть на всякий скандал, даже рад ему; бросается на людей, сам имея при этом не ясную, но твердую цель непременно минуту спустя слететь с колокольни и тем разом разрешить все недоумения, если таковые при этом окажутся» (с. 345).
Однако вполне определëнно и указание в тексте на символическое значение диалога Ипполита с князем: слова автора — наивно ответил князь — обнаруживают зазор между прямым значением выражения слетать с колокольни и тем значением, которое подразумевается князем и на которое, не раскрывая его, намекает рассказчик.
Так мы подходим еще к одному существенному для системного исследования художественных текстов выводу: субстанция художественного (поэтического) текста — категория содержательная.
Прояснение свойств субстанции религиозных текстов и особенностей их взаимодействия со структурой и функцией
Понимание свойств субстанции религиозных текстов как необходимого условия их системного исследования складывалось первоначально в экзегетике как части богословия и в философии. Выделяя типы выражений, А.Ф. Лосев опирался на исчислимые варианты возможного соотношения формы и содержания: внешнее важнее внутреннего (такова аллегория), внутреннее важнее внешнего (такова схема), внешнее и внутреннее равнозначимы [11]. Равнозначимость формы и содержания образует символ — общий для мифологических, религиозных и поэтических текстов тип выражения. Однако совершенная степень равнозначимости формы и содержания, или, другими словами, предельная символичность текстов, являясь безусловной для мифологических текстов, не обнаруживается во всем объеме религиозных и художественных произведений. В них степень символичности может повышаться или снижаться. Символичность достигает исключительно высокой меры в боговдохновенных текстах и религиозных текстах, движущей силой которых, с позиций богословия, будет благодать — особая действенная сила Бога, а не ораторское искусство как проявление личной воли человека. К таким текстам можно отнести образцы литургийной проповеди.
Сверхвысокая символичность, нарушающая законы восприятия, согласно которым автор бессознательно учитывает необходимость дать читателю и слушателю возможность расслабиться после каждой напряженной траты энергии внимания и воображения, обнаруживается и в художественной литературе. Например, в орнаментальной прозе. Но вернемся к текстам религиозным. Предельная смысловая плотность боговдохновенных текстов лаконично раскрывается П.А. Флоренским [12. С. 200] в толковании обращенной к Христу мольбы благоразумного разбойника «Помяни меня — μνήσθητι μου, — Господи, когда придешь во Царствии Твоем»: слова разбойника содержательно приравниваются к ответу Христа «Истинно говорю тебе, днесь со мною будешь в раю» (От Луки Гл. 23, Ст. 42–43). То, в чем профанное восприятие видит отсутствие связи, сознание богословское обнаруживает смысловую тождественность. Предельная степень символичности таких текстов приводит к семантизации всех уровней формы: грамматических категорий, фонетических вариантов и др. Поэтому так часто обсуждаемая сегодня возможность перевода богослужения с церковнославянского на современный русский язык повлечет за собой каскадное обрушение символических значений, свидетельствующих о действительности невидимого мира, и породит иллюзию понимания, деструктивная сила которой многократно превышает риски непонимания.
Увидеть место неканонического религиозного текста в системе более высокого уровня, определить его функцию, прояснить исходный материал, из которого он формировался, понять принцип его организации поможет уточнение жанра, сохраняющего в этой сфере человеческого бытия высокую меру устойчивости. Анализ текста вне связи с надсистемой, в которой он функционирует, приводит к цепи семиотических ошибок. Основанное на ложных посылах дальнейшее логическое построение, как бы строго оно ни было выдержано, оказывается недостоверным. Так, в рассуждениях Д.С. Лихачева текст раннего русского Средневековья — литургийная проповедь будущего Киевского митрополита Илариона, известная под именем «Слово о законе и благодати», — рассматривается вне связи с литургией — той надсистемой, сущностью которой задаются свойства функционирующих в ней подсистем. Причину структурного решения «Слова» Д.С. Лихачев устанавливает по смежности, объясняя темой и расположением росписей Киевской Софии, в которой — с высокой степенью вероятности — Иларион читал эту проповедь: «Фрески и мозаики Софии воплощали в себе весь божественный план мира, всю мировую историю человеческого рода. Эта история человечества обычно давалась в средние века как история Ветхого и Нового Заветов. Противопоставление Ветхого и Нового Заветов — основная тема росписей Софии. Оно же — исходная тема и «Слова» Илариона. Следовательно, произнося свою проповедь, Иларион непосредственно исходил из темы окружающих изображений. Фрески и мозаики Киевской Софии могли наглядно иллюстрировать проповедь Илариона. Росписи хоров представляют собой в этом отношении особенное удобство. Именно здесь на хорах были те сцены Ветхого Завета, персонажи которых подавали наибольший повод для размышлений Илариона: «встреча Авраамом трех странников», «гостеприимство Авраама», а также «жертвоприношение Исаака». Своими словами «яко человек иде на брак Кана Галилеи, и яко бог воду в вино преложи» Иларион мог прямо указать два противостоящих друг другу изображения, символически поясняющих чудо на браке, — претворение воды в вино и рядом вечерю Христа с учениками» [13. С. 32].
Вне поля зрения ученого остается богословское представление о благодати как о движущей силе литургийной проповеди и всего литургийного действия. Исключить свою волю как источник искажения Истины составитель проповеди мог, опираясь на установления, данные в боговдохновенных текстах. В послании апостола Павла евреям определяется, что после дня Пятидесятницы церковь находится под властью Нового Завета, а не Ветхого. Так соотнесение Ветхого и Нового Заветов, а не противопоставление, о котором пишет Д.С. Лихачев, становится онтологически заданным принципом понимания боговдохновенных книг. Боговдохновенные тексты оказываются, таким образом, не только целью, но и средством понимания. Опора на ветхозаветные образы Агари и Сарры, для прояснения соотношения Ветхого и Нового Заветов, не своеволие Илариона. Она задается в послании апостола Павла к галатам (Гал. 4: 21–31). Равно как и само соотнесение Ветхого и Нового Заветов как закона и благодати установлено в Новом Завете (Гал. 2: 19–21). Иларион, как и все древнерусские книжники, был хорошо знаком с одной из самых распространенных книг средневековой Киевской Руси — Апостолом, включавшем Деяния и апостольские Послания. Приуроченные ко дням церковного годового круга, послания оглашались в каждой церкви. В высокой степени достоверности Иларион владел древнегреческим языком и знал древнегреческие источники, когда на славянский еще не были переведены все книги Ветхого Завета.
Даже с поправкой на время, в которое была написана работа Д.С. Лихачева, и личную судьбу ученого, прошедшего через Соловецкий лагерь, исходить из безусловной вынужденности такого подхода было бы неверно, поскольку и в изменившихся исторических обстоятельствах Д.С. Лихачев придерживался прежних методологических установок. И дело, конечно, не в исследовательской позиции отдельного, пусть и очень талантливого, ученого, а в устойчивой воспроизводимости подобного подхода в работе с религиозными текстами. Далек Д.С. Лихачев и от понимания символической природы этого текста, а значит, и от понимания высокой степени его системности. Поэтому одна из 18 параллельных конструкций, в которых — в соответствии с ходом событий Нового Завета от рождения до воскрешения Спасителя — развивается мысль о богочеловеческой природе Христа, рассматривается как своего рода внешняя случайность: «…Иларион мог прямо указать два противостоящих друг другу изображения, символически поясняющих чудо на браке, — претворение воды в вино и рядом вечерю Христа с учениками». Сложно сказать, что подразумевал Д.С. Лихачев под «символическим пояснением чуда на браке» с помощью изображений и может ли в принципе пояснение быть символическим.
В исследовании таких текстов, как литургийная проповедь, необходимо исходить из того, что их конструктивное решение — на всех уровнях формы — обусловлено онтологически: проповедь, составленная после жизни отцов церкви будет трехсложной (с событиями Ветхого и Нового Заветов соотнесут события более поздние), соотношение Ветхого и Нового Заветов будет развиваться в параллельных конструкциях так же, как и рассуждения о богочеловеческой природе Спасителя, полностью Бога и полностью человека.
Сопоставленные в параллельных конструкциях фрагменты Ветхого и Нового Заветов выводят я составителя, как источник искажения, из текста. Смысловое соотнесение конструктивно подобных высказываний только наметит вектор развития символического смысла, но сам смысл останется неназванным. Посмотрим, как это происходит:
В этой четвертой из десяти параллельных конструкций, в которых хронологически последовательные события истории об Аврааме, жене его Сарре и их рабыни Агари соотносятся с хронологически последовательными событиями Ветхого и Нового Заветов, соитие Авраама с рабыней сополагается с явлением Бога Моисею на Синае. В результате этот сюжетный шаг, как и все остальные шаги повествования об Аврааме, получит в проповеди символическое значение, но не названное, а только намекаемое: соитие Авраама с рабыней будет символизировать явление Бога Моисею на Синае. Параллельная конструкция выступит способом возбуждения (не выражения!) символических Смыслов.
Таким образом, субстанцией подобных литургийной проповеди текстов следует полагать тексты Ветхого и Нового Заветов. Их соотношение определит содержательную структуру проповеди, которая усложнится до трехчастной в послеапостольские времена. Конструктивное решение соотношения позволит составителю самоустранить свою волю. Эти устойчивые свойства литургийной проповеди предельно далеки от случайности. Они обусловлены функцией проповеди как системы, которая, в конечном счете, сводится к поддержанию устойчивости ее надобъекта. Ослабление этих свойств следует расценивать не только как ослабление степени системности проповеди и литургии в целом, но и как искажение их сущности.
Понимание системы как направленного взаимодействия субстанции, структуры и функции и в современной лингвистике поддерживается достаточно узким кругом ученых [14–24]. Для русской филологической школы с самого ее становления вопрос о соответствии метода исследования сущности изучаемого объекта был вопросом субстанциональным. Синтез филологии и философии искусства, обостряющий проблемы методологии, стал движущей силой русской филологической мысли, обусловившей ее выход на уровень, соотносимый с достижениями русской литературы. Становление отечественной филологической школы в конце XIX — первой трети XX века было и ее расцветом. «Эстетические фрагменты» Г.Г. Шпета, статьи А. Белого, открытие Н.А. Рубакина, высказанное им в книге «Психология читателя и книги», работы лидеров русского «формализма» формировали напряженное интеллектуальное пространство, в котором вырабатывались универсальные принципы понимания сущности художественного текста. Прояснение особенностей субстанции не только художественных, но и религиозных текстов в их сопоставлении друг с другом и субстанцией языка уточняет представление о тексте как системе, совершенствует системный метод исследования и приемы его практического применения.
Заключение
Субстанция художественных текстов и субстанция текстов религиозных — не пересекающиеся в своих свойствах сущности. Субстанция художественного текста — в отличие от субстанции религиозных текстов и субстанции языка не имеет исходных характеристик. Ее узнавание всегда иллюзорно. Неповторимость произведения искусства не допускает совпадения свойств субстанции разных художественных текстов. Поэтому универсализация ее свойств может опираться только на представление о том, что речь идет о материи, являющейся подражанием под действительность естественного языка, а конкретизация потребует — при исследовании каждого текста в каждой точке его развития — установления объема формирующих ее элементов и границ трансформационного контекста.
Напротив, универсальное свойство субстанции религиозных текстов — заданность. чем меньше текст религиозной этиологии подвержен влиянию воли своего составителя как источника искажения онтологических смыслов, тем устойчивее его материя — тексты Ветхого и Нового Заветов. Структура религиозного текста, в основе которой лежит соположение событий и образов Ветхого и Нового Заветов, тоже задана. Задано и герменевтическое неравноправие частей соположения: объясняющая сила закрепляется за событиями Нового Завета. Композиционная организация религиозного текста — во избежание искажения символических Смыслов — выступает способом их возбуждения, а не выражения. Таким образом, детерминанта языкового типа отбирает субстанцию, детерминанта религиозного текста субстанцию задает априорно, детерминанта художественного текста субстанцию формирует.
Кроме того, формирование субстанции художественного текста, то есть наделение значением ее элементов, не обязательно предшествует формированию его структуры. Соотношение субстанции и структуры как средства и последствия может меняться в художественном тексте. Это еще одна существеннейшая особенность взаимодействия субстанции, структуры и, в конечном счете, функции художественного текста в отличие от взаимодействия этих трех аспектов системы в языке и в религиозных текстах. Несмотря на различие свойств и проявлений субстанции художественного текста и субстанции религиозного текста, и одна, и другая представляют собой прежде всего содержательные сущности.
1 Здесь и далее цитируется по изданию Достоевский Ф.М. Идиот // Полное собрание сочинений: в 30 томах. Т. 8. Л.: Наука, 1973.
Об авторах
Ольга Ивановна Валентинова
Российский университет дружбы народов
Автор, ответственный за переписку.
Email: valentinova-ov@rudn.ru
ORCID iD: 0000-0002-8510-8701
SPIN-код: 6986-9081
Scopus Author ID: 57193140621
ResearcherId: Х-8826-2019
доктор филологических наук, профессор, профессор кафедры общего и русского языкознания филологического факультета
117198, Российская Федерация, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6Список литературы
- Мельников Г.П. Системная лингвистика и ее отношение к структурной // Проблемы языкознания: Доклады и сообщения советских ученых на Х Международном конгрессе лингвистов (Бухарест, 27.VIII-2.IX.1967). М.: Наука, 1967. С. 98-102.
- Мельников Г.П. Системная типология языков: принципы, методы, модели. М.: Наука, 2003.
- Анохин П.К. Принципиальные вопросы общей теории функциональных систем. М.: АН СССР, 1971.
- Энгельгардт В.А. Познание явлений жизни. М.: Наука, 1984.
- Мир Бартини: Сб. статей по физике и философии / Сост. А.Н. Маслов. М.: Самообразование, 2009.
- Мельников Г.П. Системология и языковые аспекты кибернетики. М.: Радио, 1978.
- Аристотель Поэтика / перевод, введение и примечания Н.И. Новосадского. Л.: Academia, 1927.
- Лапшин И.И. Эстетика Достоевского. Берлин: Обелиск, 1923.
- Шпет Г.Г. Эстетические фрагменты // Г.Г. Шпет Сочинения. М.: Правда, 1989. С. 345-474.
- Гюйо Ж.-М. Искусство с социологической точки зрения. СПб.: Знание, 1900.
- Лосев А.Ф. Диалектика мифа // Миф. число. Сущность. М.: Мысль, 1994. С. 5-216.
- Флоренский П.А. Столп и утверждение Истины: Опыт православной теодицеи в 12 письмах М.: Лепта, 2002.
- Лихачев Д.С. Национальное самосознание Древней Руси: Очерки из области русской литературы XI - XVII вв. / Отв. редактор акад. А.М. Деборин. М.-Л.: АН СССР, 1945.
- Дрёмов А.Ф. Системная теория падежей и ее место в эволюции взглядов на падеж в лингвистике XX века // Русский язык: исторические судьбы и современность. М.: МГУ, 2001. С. 164-165.
- Киров Е.Ф. Теоретические проблемы моделирования языка. Казань: Изд-во КГУ, 1989.
- Киров Е.Ф. Фонология языка. Ульяновск: изд-во филиала МГУ, 1997.
- Киров Е.Ф. Фонология И.А. Бодуэна де Куртенэ как основа теории значения // И.А. Бодуэн де Куртенэ и мировая лингвистика. Труды и материалы. Казань: Казанский федеральный ун-т, 2017. С. 109-112.
- Липатова Т.В. К вопросу о планах языковой деятельности // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. 2015. № 1. С. 32-36.
- Лутин С.А. Истоки и суть детерминантного подхода к языку как системе // Вестник Российского университета дружбы народов. Cерия: Лингвистика. 2006. № 2(8). С. 13-21
- Новикова М.Л. Онтология искусства поэтического слова и остраннение. М.: ЭконИнформ, 2020.
- Рыбаков М.А., Трубеева Е.В. Категория падежа в трудах Е.Д. Поливанова // ХI Поливановские чтения. Смоленск: СмолГУ, 2016. С. 214-217.
- Рыбаков М.А., Трубеева Е.В. Семантический потенциал грамматических способов оформления падежа // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2015. № 3(45). часть 3. С. 151-153.
- Рыбаков М.А. Грамматическая категория падежа как объект типологического исследования // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. 2012. № 3. С. 36-41.
- Федосюк М. Ю. Концепция Г. П. Мельникова и дискуссия о русской языковой картине мира // Политическая лингвистика. 2012. № 2(40). С. 11-12.
Дополнительные файлы