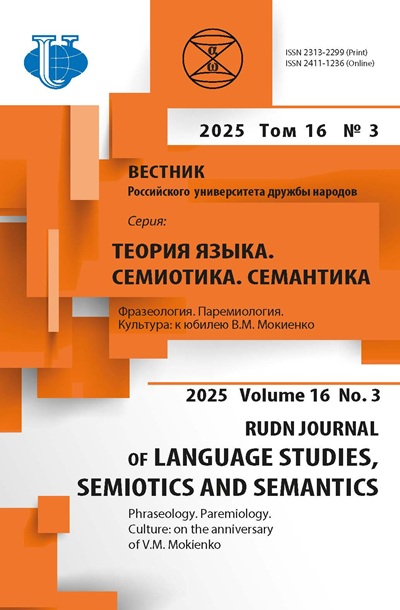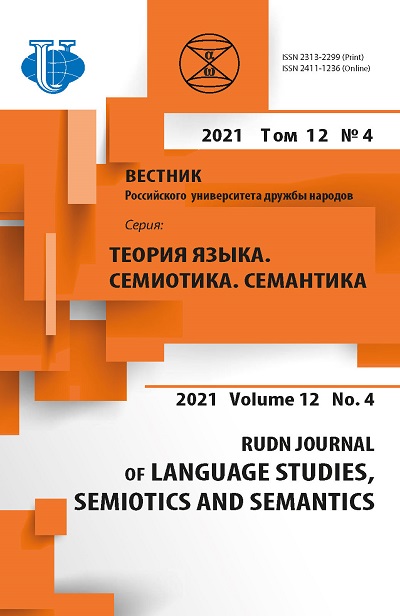Эволюция ассоциативно-вербальной сети концепта «Старость» в языковом сознании носителей русского языка 20-х гг. XXI столетия
- Авторы: Сафаралиева Л.А.1
-
Учреждения:
- Российский университет дружбы народов
- Выпуск: Том 12, № 4 (2021)
- Страницы: 1147-1159
- Раздел: КОГНИТИВНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
- URL: https://journals.rudn.ru/semiotics-semantics/article/view/29884
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-2299-2021-12-4-1147-1159
- ID: 29884
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Развитие информационных технологий, смена политического строя и иные социально-политические изменения в жизни государства накладывают отпечаток на языковое сознание типичного носителя языка. Безусловно, национальная концептосфера или «наивная» языковая картина мира претерпела существенные изменения, поскольку все события окружающего нас мира фрагментарно фиксируются в коллективном языковом сознании носителей русского языка. Те образы «старости», которые были актуальны для жителей нашего государства три десятилетия назад, значительно изменились. Негативное отношение к старости, пессимизм, ощущение неизбежного конца жизненного пути сменились надеждой на «благополучную, счастливую, наполненную материальными благами старость». Молодое поколение без колебаний проводит параллель между такими понятиями, как «старость» и «пенсия» - данный факт фиксируется впервые; ранее в научных исследованиях, основанных на данных ассоциативных экспериментов, подобные реакции не отмечались. Вышеприведенные выводы были получены в результате проведения цепного ассоциативного эксперимента со словом-стимулом «старость», предполагающего получение 3-х реакций студентов на данный стимул (на базе филологического факультета РУДН). Для участия в эксперименте были отобраны 99 студентов в возрасте 17-25 лет, для которых русский язык являлся родным (данные параметры отражены в анкете испытуемых). В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и условиями дистанционного обучения эксперимент проводился в онлайн-формате с использованием приложения MS Forms. Полученная ассоциативно-вербальная сеть концепта «старость» была сопоставлена с характеристикой вышеназванного концепта, зафиксированной в Ассоциативном словаре русского языка под редакцией Юрия Николаевича Караулова.
Полный текст
«Ничто не старит так скоро, как неотвязная мысль, что стареешь»
Георг Кристоф Лихтенберг
Введение
Старость называют закатом жизни, второй молодостью, золотым веком жизни или третьим веком [1]. Нет однозначной классификации этапов старения человека, поскольку на наше восприятие заключительного периода жизни влияют различные факторы: возраст, пол, национальность, социально-политическая обстановка в стране проживания, экономическое положение в обществе и т. д. В соответствии с классификацией Всемирной организации здравоохранения можно выделить 3 периода этапа старения человека:
– 60—70 лет — ранняя старость или пожилой возраст;
– 75—90 лет — поздняя старость или преклонный возраст;
– 90 лет и старше — долгожительство или старческий возраст.
В любом обществе присутствует огромное количество стереотипов, представлений, связанных с эволюцией человека и его жизнью с момента появления на свет и до заката жизненного пути. Естественно, что вопросы рождения, старения, смерти занимают умы человечества и, соответственно, находят свое прямое отражение в языке, в «идеальных сущностях, которые формируются в сознании человека из непосредственного чувственного опыта под влиянием национально-исторического опыта» — в концептах [2].
Концепт — основная ячейка культуры в ментальном мире человека [3; 4]. Важно отметить тот факт, что концепт содержит как национальный культурно-исторический опыт, так и индивидуальный опыт носителя языка [5]. При этом образное представление действительности национально окрашено, т.е. различается в зависимости от принадлежности языковой личности к той или иной культуре [6. С. 23].
Изучение концептов позволяет нам фрагментарно реконструировать языковое сознание типового носителя языка. При этом важно внести следующие уточнения: речь идет о реконструкции «наивной» языковой картины мира. То есть язык изучается не с точки зрения его системных свойств, а с точки зрения тех знаний и интерсубъективных смыслов, которые вызывают языковые знаки в сознании носителей языка. Вслед за Н.Л. Чулкиной мы будем использовать термин концептосфера как синоним термина «наивная» языковая картина мира, основным объектом исследования которой является язык-способность [7. С. 77]. Мы убеждены, что для реконструкции усредненной языковой личности (носителя современного русского языка) первостепенное значение имеет «…разнородный набор знаний о мире, который связан с анализируемыми языковыми знаками в обыденном языковом сознании носителей языка» [Там же]. Без обращения к психолингвистическим методикам смоделировать необходимый фрагмент сознания невозможно.
Целью данной статьи является сопоставление интерсубъективных смыслов концепта «старость» на основании данных ассоциативных экспериментов, проведенных среди носителей русского языка в возрасте от 17 до 25 лет в конце 20-го века и начале 21-го. Для проведения всестороннего анализа сущности концепта «старость» в русском языке необходимо, в первую очередь, обратиться к системно-языковому анализу, то есть выделить минимальный набор знаний, заключенный в значении языкового знака.
Системно-языковая характеристика концепта «старость»
В качестве отправной точки проанализируем основное значение слова «старость», закрепленное в Толковом словаре С.И. Ожегова:
СТАРОСТЬ, -и, ас. 1. Сменяющий зрелость возраст, в который происходит постепенное ослабление деятельности организма; период жизни в таком возрасте. С. не радость (посл.). Под с. На старости лет (в старости; разг.). 2. перен. О старых людях, стариках (высок.). С. осмотрительна [8].
Обратившись к словарям синонимов, получаем следующую картину:
СТА́РОСТЬ, дря́хлость [9].
– Период жизни человека, наступающий после зрелости (обычно после шестидесяти лет), когда происходит постепенное ослабление деятельности организма.
– Человек определенного возраста
СТА́РОСТЬ 1. преклонные годы (или лета), преклонный возраст, дряхлость; осень жизни (высок.) 2. О вещах: ветхость, обветшалость [10. С. 482].
Основным значением (или минимальным набором признаков) слова «старость» является «возраст/носитель признака «возраст». При этом особый акцент смещается на негативную характеристику общего состояния носителя признака — слабость/дряхлость.
Н.В. Крючкова в своей статье «Специфика проявления концептуальных признаков в лексической системе языка и в ассоциативных связях (на материале концепта «старость» в русском языке)» отмечает, что концепт «старость» представлен лексической группой, включающей 70 лексем, среди которых мы встречаем слова всех знаменательных частей речи [11. С. 75].
Основными характеристиками системной организации концепта «старость» являются:
1) большое количество имен существительных, называющих лиц пожилого возраста, например: бабушка, дедушка, дед, старец, долгожитель, ветеран и т.д.;
2) наличие подгруппы дериватов с яркой эмоционально-экспрессивной окраской, именующих лиц пожилого возраста: старикашка, старуха, старикан, бабка, бабулька, бабуля, бабуся и т. д.;
3) большинство лексем, репрезентирующих концепт «старость», имеют корни стар-, ветх-, дряхл-, древн-, дед-.;
4) в лексической системе русского языка представления о старости тесно связаны с такими признаками, как: слабость, разрушение, долгое существование, опытность (в меньшей степени).
Отметим, что большая часть лексики, описывающей признаки, характеристики и состояния стареющего организма, обладает ярко выраженными негативными коннотациями.
Ассоциативное поле концепта «старость», отраженное в Ассоциативном словаре под редакцией Ю.Н. Караулова (данные свободного ассоциативного эксперимента, проведенного в 1988—1997 гг.)
Вышеприведенные данные лексикографических источников отражают системно-языковую характеристику концепта «старость», которая представляет собой обобщенное представление носителей языка о вышеназванном концепте. Однако данное представление лишено эмоционально-оценочного компонента, который привносится индивидуальным опытом носителя языка. Таким образом, без проведения ассоциативного эксперимента — приема, направленного на выявление ассоциаций, сложившихся у индивида в его предшествующем опыте [12. С. 82], и выявления закономерных ассоциативно-вербальных связей слов, составляющих сущность концепта «старость», невозможно объективно и всесторонне описать существующие в сознании носителей русского языка знания и представления о «старости».
«Получаемое в результате проведения ассоциативного эксперимента ассоциативное поле того или иного слова-стимула — это фрагмент образа мира того или иного этноса, отраженного в сознании „среднего“ носителя той или иной культуры, его мотивов и оценок и, следовательно, его культурных стереотипов» [13. С. 341]. При этом важно подчеркнуть, что «ассоциативно-вербальная сеть является одним из способов репрезентации языка…и существующих в сознании представлений о языке» [14. С. 129].
В современной психолингвистике широко применяются экспериментальные ассоциативные методики. Одним из самых эффективных методов исследования языковой картины мира в общем и языковой личности с индивидуальным восприятием социокультурных стереотипов конкретного языкового социума в частности является метод ассоциативного эксперимента.
Ю.Н. Караулов писал: «Ассоциативно-вербальная сеть фиксирует лишь ту часть нашего сознания, которая имеет вербальную оболочку, но именно эта часть и составляет большую часть наших знаний о мире» [15. C. 5]. Исходя из вышеизложенного, можем утверждать, что данные, полученные в результате проведения ассоциативного эксперимента, будут отражать некое «усредненное» восприятие окружающей действительности, общее для всех носителей того или иного языка. Как правило, индивидуально-личные единичные реакции на слово-стимул не меняют языковое восприятие действительности, а лишь вносят некие дополнительные коннотации.
Однако языковое сознание «не только антропоцентрично (носителем языкового сознания может быть только человек), но и этноцентрично… не существует двух абсолютно тождественных этнолингвокультур, и нет двух абсолютно тождественных образов мира» [16. C. 52].
Для русской этнолингвокультуры важнейшим событием стало издание Ассоциативного словаря под редакцией Ю.Н. Караулова в конце XX века [17]. Юрий Николаевич представил наиболее распространенные концепты с подробной характеристикой ассоциативно-вербальных сетей. В основе словаря лежат статистические данные, полученные путем проведения свободного ассоциативного эксперимента (одна реакция на одно слово-стимул) в 1988—1997 гг. При этом отметим, что в основе данного экспериментального метода нет абсолютно никаких ограничений на тип слова-реакции: ни семантических, ни формальных, ни каких-либо иных.
На первом этапе анализа реакций на стимул «старость» мы ограничили выборку статистических данных по возрастному признаку: онлайн-версия Ассоциативного словаря позволила выделить реакции, предъявленные участниками эксперимента, носителями русского языка (для которых русский язык является родным) в возрасте от 17 до 25 лет. Таким образом, мы получили 90 реакций, из которых 38 были различными и 27 одиночными [17]. Все полученные ответы мы предлагаем классифицировать по следующим основаниям:
Таблица 1 / Table 1
ссоциативно-вербальные сети концепта «старость» 1988—1997 гг.
Associative-verbal networks of the concept of “old age” 1988—1997
№ п/п | Основание классификации (тип реакции) | Полученные реакции (количество ответов) |
1 | Физическое проявление старости: | дряхлость (3); дряхлая (2); беспомощность (1); немощный (1) |
2 | Духовное, морально-нравственное представление старости; оценка умственных способностей человека | мудрость (2); одинокая (1); одиночество (1); скука (1); уважение (1) |
3 | Внешность человека в процессе старения | нет реакций |
4 | Периодизация жизни человека; наименование человека в процессе старения | возраст (2); в возрасте (1); молодость (2); юность (1); бабушка (1); старушка (1); человек (1) |
5 | Физические атрибуты, сопровождающие процесс старения, находящиеся в пользовании человеком преклонного возраста | клюка (1) |
6 | Атрибуты, признаки, качества, отражающие социально-экономическую характеристику старости | дом (1); необеспеченная (1) |
7 | Философская сущность старости | радость (3); смерть (2); время (1); неизбежно (1); тяготит (1) |
8 | Фразеология, устойчивые словосочетания, афоризмы, пословицы; синтагматические реакции, характеризующие старость как процесс | не радость (37); не в радость (6); на радость (2); пришла (2); будет (1); подходит (1); придет (1); дряхлый пень (1) |
9 | Иные, индивидуальные реакции | беда (1); долго (1); еще не скоро (1); жалко (1); не хочу (1); свадьба (1) |
Как мы видим, первое место по количеству ответов занимает реакция «не радость», что говорит о преемственности языковых традиций и представлений, закрепленных в сознании носителя языка в виде фразеологизированных единиц. Данный факт подчеркивает ярко негативный образ последнего жизненного этапа, закрепившийся в языковом сознании молодых людей в конце XX столетия. На втором месте — отрицательная оценка физического состояния пожилых людей (бессилие, физическая слабость, дряхлость и т. д.) и соотнесенность «старости» с возрастом и периодизацией жизни и, соответственно, наименование людей-носителей признака «старость/старый».
В целом, можем утверждать, что в конце 20-го столетия концепт «старость» в сознании носителей русского языка в возрасте от 17 до 25 лет представлялся как нечто неизбежное, приближающееся к человеку, несущее скуку, одиночество и смерть. Реакции с положительной оценкой старости единичны.
На втором этапе анализа корпуса ассоциативных реакций, представленных в Ассоциативном словаре [17], обратимся к исследованию И.С. Блиновой, отраженному в статье «Этнокультурная специфика концепта „старость“» [14. С. 130]. И.С. Блинова в полном объеме проанализировала ассоциативные поля концепта «старость» на материале 102 реакций, репрезентирующих фрагмент массового сознания носителей русской лингвокультуры конца прошлого столетия. Круг реакций, проанализированный И.С. Блиновой, включил следующие ответы участников, не попавшие в проведенный нами анализ: близка (1); болезнь (1); конец (1); приближается (1). Приведенные реакции дополняют описанный выше образ «старости» в русской концептосфере конца XX столетия и позволяют заключить, что «…в основе выделения онтологической категории «старость» в русской лингвокультуре лежат: состояние старого человека (71% всех реакций) и человек определенной возрастной группы (9,8 % всех реакций)» [14. C. 130].
Анализ концепта «старость» на материале данных цепного ассоциативного эксперимента (как разновидности свободного), проведенного в 2020 году на базе филологического факультета РУДН
Несомненно, развитие информационных технологий, смена политического строя и иные социально-политические изменения в жизни государства накладывают отпечаток на языковое сознание типичного носителя языка. Соответственно, можно предположить, что за последние два десятилетия ассоциативное поле концепта «старость» претерпело значительные изменения. Для доказательства данной гипотезы на базе филологического факультета РУДН был проведен цепной ассоциативный эксперимент со словом-стимулом «старость», предполагающий получение 3-х реакций студентов на вышеназванный стимул. Для участия в эксперименте были отобраны 99 студентов в возрасте от 17 до 25 лет, для которых русский язык являлся родным (данные параметры отражены в анкете испытуемых). В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и условиями дистанционного обучения эксперимент проводился в онлайн-формате с использованием приложения MS Forms.
Предлагаем представить полученные результаты в виде таблицы, классифицируя реакции по тем же основаниям/типам, которые мы использовали в представлении ассоциативно-вербальных связей концепта «старость», отраженных в Ассоциативном словаре русского языка под редакцией Ю.Н. Караулова:
Таблица 2 / Table 2
Ассоциативно-вербальные сети концепта «старость» 2020 г.
Associative-verbal networks of the concept “old age” 2020
№ п/п | Основание классификации (тип реакции) | Полученные реакции (количество ответов) |
1 | Физическое проявление старости: процессы, состояния, проявляющиеся на физическом уровне в организме человека | боль (4); слабость (5); дряхлость (4); дряблость (1); болезнь (3); болезненность (1); болезни (3); ветхость (2); увядание (2); проблемы со здоровьем (1); усталый (1); беспомощность (1); немощность (1); немощь (1); суставы (1); запах (1); недомогание (1); |
2 | Духовное, морально-нравственное представление старости; оценка умственных способностей человека | мудрость (22); опыт (11); доброта (3); одиночество (7); страх (4); уважение (2); забота (2); умиротворение (3); спокойствие (4); спокойно (1); грустно (1); почет (1); гордость (1); независимость (1); душевный (1); заботливый (1); апатия (1); самодостаточность (1); общительность (1); печаль (1); жалость (1); |
3 | Внешность человека в процессе старения | морщины (17); седина (7); седые волосы (1); седой (1); седовласый (1); борода (1); очки (1); кожа (1); волос (1); |
4 | Периодизация жизни человека; наименование человека в процессе старения | бабушка (11); бабушка с дедушкой (1); дедушка (6); возраст (8); преклонный возраст (1); молодость (2); пожилой (3); старый (1); человек (1); зрелость (1); долголетие (1); |
5 | Физические атрибуты, сопровождающие процесс старения, находящиеся в пользовании человеком преклонного возраста | кресло (2); чай (1); платок (1); клубочки (1); лекарства (1); книга (1); клюка (1); трость (1); палка (1); |
6 | Атрибуты, признаки, качества, отражающие социально-экономическую характеристику «старости» | семья (9); внуки (15); пенсия (14); дом (6); загородный дом (2); дача (1); театр (1); бедность (1); огород (1); дети (1); |
7 | Философская сущность «старости» | смерть (9); покой (8); время (2); жизнь (2); конец (2); свобода (3); уют (6); тяжесть (1); медленно (1); медленный (1); отдых (1); счастье (1); любовь (1); воспоминания (1); гармония (1); итог (1); конец (1); |
8 | Фразеология, устойчивые словосочетания, афоризмы, пословицы; синтагматические реакции, характеризующие старость как процесс | не радость (2); |
9 | Иные, индивидуальные реакции | серость (2); серый (2); белый (1); забытость (1); воспитание (1); сентиментальность (1); осень (1); дыра (1); тишина (1); деревня (1); анекдот (1); вино (1); вкусная еда (1); дерево (1); солнце (1); бордовый (1); достижимость (1); бледный (1); выдох (1); сказочность (1); ностальгия (1); я (1); погода (1); неприятности (1); пятна (1); замена (1); целостность (1); кроссворды (1); |
Для определения активного признака концепта «старость» выделим наиболее частотные реакции и проанализируем их: мудрость (22), мудрец (1); морщины (17); внуки (15); пенсия (14); опыт (11); бабушка (11); семья (9); смерть (9); возраст (8), преклонный возраст (1); покой (8); седина (7), седые волосы (1), седой (1), седовласый (1); одиночество (7); дедушка (6), бабушка с дедушкой (1); дом (6), загородный дом (2); дача (1); слабость (5); дряхлость (4); боль (4).
Из вышеприведенных данных мы можем предположить, что ядро ассоциативного поля концепта «старость» образуется следующими признаками:
– состояние пожилого человека: как морально-нравственное (об этом говорят реакции: мудрость, как наиболее частотная, опыт, покой), так и физическое (реакции: слабость, дряхлость, боль);
– номинация человека определенной возрастной группы (реакции: бабушка, дедушка);
– внешние признаки / физический облик (реакции: морщины, седина);
– социально-экономический статус пожилого человека (реакции: внуки, семья, пенсия, дом).
Дополним нашу гипотезу статистическим анализом полученных реакций. В первой группу (по количеству реакций) вошли реакции, представляющие морально-нравственную оценку «старости» — всего 70 реакций.
Вторую группу — 51 реакция — составили признаки, качества, отражающие социально-экономическую характеристику «старости»: наличие семьи, внуков; обладание недвижимостью, финансовая составляющая жизни старого человека.
В третью группу вошли признаки, характеризующие «старость» с философской точки зрения — 43 реакции. Причем как с негативной стороны (смерть, конец, тяжесть), так и с нейтральной, а зачастую и положительной (жизнь, свобода, уют, счастье, любовь).
Суммируя вышесказанное, попробуем выделить активные признаки концепта «старость». На наш взгляд, очевидным является тот факт, что в ядре концепта «старость» на первый план выходит морально-нравственное состояние пожилого человека, некое духовное понимание последнего этапа жизни (реакции философского характера). Причем физическое состояние уходит на второй план.
Безусловно, активным признаком, характеризующим ядро концепта «старость», является также социально-экономическая характеристика старости. Вопрос финансового благополучия, наличие жилплощади, поддержка со стороны детей и внуков характеризуют вторую группу активных признаков концепта «старость».
Таким образом, мы можем заключить, что для современного молодого человека усредненное, обыденное представление о старости может представляться как «период конца жизни, не всегда несчастный (зачастую ассоциируется с покоем и счастьем), часто сопровождающийся подведением итогов жизни, а потому наполненный жизненной мудростью, передаваемой последующим поколениям, и обязательно сопровождающийся материальными благами (доход в виде пенсии, наличие недвижимости и т. д.)».
Сложившийся в результате нашего анализа образ «старости», а, в частности, его активный уровень, отражают «коллективные знания о повседневной жизни, известные всем носителям современного русского языка» XXI столетия [14. C. 130].
Заключение
Для реконструкции концепта «старость» как фрагмента окружающей действительности в языковом сознании носителей современного русского языка необходимо пошагово сопоставить ассоциативно-вербальные сети вышеназванного концепта, существующие в обыденном сознании типичного русскоговорящего молодого человека конца XX и начала XXI веков. За основу сопоставительного анализа возьмем предложенную выше классификацию и выделим основные сходства и различия.
Обращаясь к характеристике обыденных признаков, отражающих физическое проявление старости (общее состояние организма, биологические процессы и т. д.), мы обнаруживаем, что помимо реакций, зафиксированных в Ассоциативном словаре русского языка под редакцией Ю.Н. Караулова, мы получили новые, имеющие ярко выраженную негативную оценку, характеризующие «старость» как «период, связанный с болезнями и недомоганием» (12 реакций). Можем заключить, что для современной молодежи очевидна причинно-следственная связь между болезнью человека и физическим увяданием его организма. В конце XX века в русской концептосфере такой характеристики «старости» не наблюдалось.
Морально-нравственная, духовная сторона «старости» нашла свое отражение в реакциях, зафиксированных в Ассоциативном словаре русского языка и в результатах нашего ассоциативного эксперимента. Как и три десятилетия назад, «старость» коррелируется с мудростью и опытом, с одной стороны, и одиночеством, с другой. Но, если в Ассоциативном словаре такие реакции были единичными, то для типичного носителя русского языка XXI века «старость» неотделима от мудрости (наибольшее число полученных реакций — 22). Кроме того, для современной молодежи образ старости стал ассоциироваться со «спокойным периодом жизни», с «заботой о близких, отдыхом и независимостью». Напомним, что ранее ни одной из вышеприведенных характеристик зафиксировано не было.
Одной из ярких характеристик «старости», выявленных в результате нашего эксперимента и отсутствующих в «наивной» языковой картине мира конца XX века, является «внешний облик старости» как репрезентация носителя признака «старый». «Морщины», «седина» являются общепринятыми коррелятами «старости». Для трети респондентов вышеупомянутые признаки «старости/старого человека» уже стали неким стереотипом.
Смена политического строя в нашем государстве, изменения в социально-экономической сфере, пенсионная реформа, меры, принимаемые руководством страны по улучшению качества жизни людей преклонного возраста, — все эти факторы стали, по нашему мнению, основной причиной появления следующих реакций: пенсия (14), внуки (15), семья (9). То есть мы видим, что сместился фокус восприятия «старости» с духовного фактора на материально-физический. Для большинства носителей современной лингвокультуры «старость» немыслима вне семьи, причем семьи, состоящей из нескольких поколений: без детей и внуков старость невозможна либо представляется в негативном свете. Наличие таких реакций, как дача (1), театр (1), загородный дом (2), вино (1), вкусная еда (1), сказочность (1), уют (6), долголетие (1), свобода (3), счастье (1), любовь (1), указывает на формирование в русской концептосфере новой ассоциативной связи «старости» с «приятным, достойным периодом жизни, в котором у людей преклонного возраста есть свободное время на любимые занятия, на семью и близких людей».
Важнейшим результатом нашего эксперимента стала фиксация реакции «пенсия» (14). Никогда ранее «старость» не ассоциировалась с пенсионным возрастом. Полученные данные отражают положительную динамику государственной политики в области социальной сферы (такие программы, как, например, «Московское долголетие», позволяющие людям преклонного возраста вести активный образ жизни) и т. д. То есть можно говорить о формировании нового образа «старости» как некоего итогового периода жизни, который может сопровождаться стабильным финансовым доходом, в котором можно проводить время с семьей и заниматься любимым делом «на заслуженном отдыхе».
Подробно изучив сущность концепта «старость» на материале Ассоциативного словаря под редакцией Ю.Н. Караулова, мы выделили наиболее частотные реакции, характеризующие «старость» в русской концептосфере конца XX века. Как мы отмечали ранее, «старость» в понимании молодых людей 80—90 гг. прошлого столетия вызывала, в основном, образы, связанные с духовной жизнью человека. В XXI веке «старость» вызывает ассоциации, отсылающие нас к миру материальному.
Развитие информационных технологий, сближение с «западным миром», выдвижение на первый план практического отношения к построению семьи и карьеры привели к тому, что в последние три десятилетия в русской культуре, а соответственно, и в русском языке сформировалось новое восприятие «старости», ранее не фиксируемое в национальной концептосфере. Если в XX веке «старость» представлялась неизбежной, лишенной радости, то для современного носителя языка материальная составляющая является гарантом счастливой «старости», достижимой, гарантируемой государством.
Об авторах
Любовь Александровна Сафаралиева
Российский университет дружбы народов
Автор, ответственный за переписку.
Email: kuznetsova-la@rudn.ru
ассистент кафедры общего и русского языкознания, филологический факультет
117198, Российская Федерация, Москва, Миклухо-Маклая, 6Список литературы
- Аспекты старости [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://seni.ru/ru_RU/content/ aspiekt-starosti (дата обращения: 11.01.2021).
- Кудряшова Ю.С. Концепт «старость» в русском и английском лингвосоциумах (на материале паремиологических единиц) // Огарёв-Online. 2018. № 7 (112). Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/kontsept-starost-v-russkom-i-angliyskom-lingvosotsiumah-na-materiale-paremiologicheskih-edinits (дата обращения: 18.01.2021).
- Степанов Ю.С. Константы: словарь русской культуры. М.: Академ.проект, 2001.
- Маркелова Т.В., Новикова М.Л. Концептосфера «здоровье - болезнь»: культурный код // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. 2021. № 12 (3). С. 848-874. doi: 10.22363/2313-2299-2021-12-3-848-874
- Wei Ye, Ni’ao Deng. Claiming and displaying national identity: A case study of Chinese exchange students in Russia // Training, Language and Culture. 2020. № 4 (3). P. 43-54. doi: 10.22363/2521-442X-2020-4-3-43-54
- Денисенко В.Н. Концепт изменение в русской языковой картине мира: Монография. М.: Изд-во РУДН, 2004.
- Чулкина Н.Л. Языковая картина мира и национальная концептосфера: онтология, методы реконструкции и единицы описания // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семантика. 2015. № 1. C. 76-82.
- Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка: онлайн версия. Режим доступа: https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=30422 (дата обращения: 30.01.2021)
- Бабенко Л.Г. Словарь синонимов русского языка. М.: «Астрель, АСТ», 2011.
- Александрова З.Е. Словарь синонимов русского языка: Практический справочник. М.: Рус.яз., 2001.
- Крючкова Н.В. Специфика проявления концептуальных признаков в лексической системе языка и в ассоциативных связях// Вестник ТГПУ. 2006. № 5 (56). C. 75-79.
- Евсеева О.В. Ассоциативный эксперимент как исследовательская процедура в психолингвистике // Вестник ЮУрГУ. 2009. № 2 (8). C. 82-84.
- Уфимцева Н.В. Ассоциативный словарь как модель языковой картины мира // Вестник ИрГТУ. 2014. № 9. С. 340-346
- Блинова И.С. Этнокультурная специфика концепта старость (на материале русского и немецкого языков) // Известия ВГПУ. 2009. № 5. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/ article/n/etnokulturnaya-spetsifika-kontsepta-starost-namateriale-russkogo-i-nemetskogo-yazykov (дата обращения: 16.01.2021).
- Караулов Ю.Н. Русский ассоциативный словарь. М.: Астрель, 2002.
- Горинова Н.С. Ассоциативный эксперимент как способ изучения языкового сознания // Альманах современной науки и образования. 2009. № 8 (27), часть 2. С. 52-53
- Караулов Ю.Н., Сорокин Ю.А., Тарасов Е.Ф., Уфимцева Н.В., Черкасова Г.А. Русский ассоциативный словарь. Ассоциативный тезаурус современного русского языка. В 3-х частях, 6-ти книгах / Кн. 1, 3, 5. Прямой словарь: от стимула к реакции. Книга 2, 4, 6. Обратный словарь: от реакции к стимулу. М., 1994, 1996, 1998. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://tesaurus.ru/dict/ (дата обращения: 14.01.2021).
Дополнительные файлы