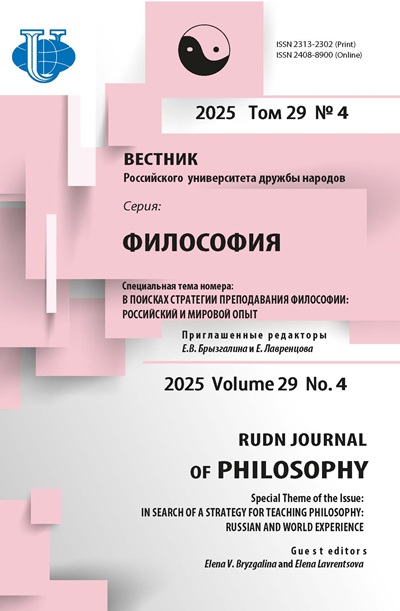Кантовский проект практической антропологии и учение Вл. Соловьева о первичных данных нравственности
- Авторы: Луговой С.В.1
-
Учреждения:
- Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта
- Выпуск: Том 28, № 2 (2024): КАНТ В РОССИИ
- Страницы: 358-370
- Раздел: КАНТ В РОССИИ
- URL: https://journals.rudn.ru/philosophy/article/view/39811
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-2302-2024-28-2-358-370
- EDN: https://elibrary.ru/WQQRRG
- ID: 39811
Цитировать
Аннотация
Цель исследования - реконструировать кантовский проект практической антропологии и проследить, как он трансформируется в учении Владимира Соловьева о первичных данных нравственности, а также попытаться выявить причины, побудившие русского мыслителя отойти от следования кантовскому замыслу. В ходе исследования использовались стандартные методы истории философии, прежде всего анализ философских текстов, в том числе прямых цитат и косвенных заимствований кантовских идей Вл. Соловьевым. Предметом изучения были кантовские работы «Основоположение метафизики нравов», «Критика практического разума», «Метафизика нравов», «Религия в пределах только разума», а также главное этическое сочинение Вл. Соловьева «Оправдание добра» с приложением «Формальный принцип нравственности (Канта) - изложение и оценка с критическими замечаниями об эмпирической этике». В результате я установил, что Вл. Соловьев знал о кантовском проекте практической антропологии и полностью его разделял в ранний период творчества. Однако в «Оправдании добра» интенции Вл. Соловьева кардинально изменились. В отличие от Канта, уделившего большее внимание наклонности ко злу в человеческой природе, Вл. Соловьева интересовали в ней добрые чувства стыда, жалости и благоговения, «первичные данные нравственности». Стремление дополнить кантовскую этику, включив в качестве основания добра иррациональные чувства, переросло у русского мыслителя в желание улучшить ее в соответствии с философией всеединства и привело к отказу от идеи автономии морали, а именно провозглашению неразрывного единства Добра, Бога и бессмертной души.
Ключевые слова
Полный текст
Введение
Большинство исследователей [1–4] соглашаются, что Вл. Соловьев был выдающимся знатоком кантовских философских идей. Некоторые из них он оценивал высоко, а другие критиковал. Так, русский мыслитель неоднократно обращался к «Основоположению метафизики нравов» И. Канта и даже включил его конспективное изложение, как и критический анализ, в «Оправдание добра» в качестве приложения. В этой работе Кант писал: «Всякую философию, поскольку она опирается на основания опыта, можно назвать эмпирической, а ту, которая излагает свое учение исключительно из априорных принципов, — чистой философией» [5. С. 155] и предлагал рациональную часть этики именовать метафизикой нравственности, или собственно моралью, а эмпирическую — практической антропологией. Метафизика нравственности, тщательно очищенная от всего эмпирического, по Канту, должна предпосылаться практической антропологии, и он разрабатывает ее в этой работе, а также в «Критике практического разума» и «Метафизике нравов». Но практическую антропологию, в которой анализировались бы первоначальные задатки добра и наклонности ко злу в человеческой природе, в виде отдельного трактата Кант изложить не успел.
Вл. Соловьев уважительно относился к кантовской этике: кантовское «разложение нравственности на автономный и гетерономный элементы и формула нравственного закона представляют один из величайших успехов человеческого ума» [6. С. 241]. В ранний период творчества он был согласен с Кантом и относительно соотношения морали и практической антропологии, считая, что для этики классификация нравственных фактов и указание их материальных, фактических оснований в человеческой природе «составляет часть эмпирической антропологии или психологии и не может иметь притязаний на какое-либо принципиальное значение» [7. С. 556]. Однако в «Оправдании добра» позиция Вл. Соловьева кардинально меняется, он сознательно выбирает путь, противоположный кантовскому, и начинает свое главное этическое сочинение не с метафизических рассуждений, а с эмпирического описания добра в человеческой природе. Отсюда возникает историко-философская исследовательская задача проследить, как в учении Вл. Соловьева о первичных данных нравственности трансформируется кантовский проект практической антропологии, описать эволюцию отношения русского философа к кантовской практической философии и попытаться выявить причины этих изменений.
Кантовский проект практической антропологии
Антропологическая проблематика занимает важнейшее место в кантовской философской системе. В письме к Штейдлину Кант дополняет три знаменитых вопроса из «Критики чистого разума», в которых объединяются все интересы разума: «1. Что я могу знать? 2. Что я должен делать? 3. На что я могу надеяться?» [8. С. 588], четвертым: «Что есть человек? (Антропология)» [9. С. 554]. А в «Логике» Йеше мы можем прочитать, что ответы на три первых вопроса в сущности «можно было бы свести к антропологии, ибо три первых вопроса относятся к последнему» [10. С. 280]. Однако содержание понятия «антропология» у Канта в разные периоды творчества меняется1.
В контексте соловьевского учения о первичных данных нравственности нас будет интересовать, прежде всего, моральная или практическая антропология. О ней Кант впервые пишет в предисловии к «Основоположению метафизики нравов», провозглашая ее эмпирической частью этики. Природа науки, по Канту, требует, «чтобы эмпирическая часть тщательно отделялась всегда от рациональной и чтобы <...> практической антропологии [предпосылалась] метафизика нравственности, тщательно очищенная от всего эмпирического» [5. С. 156]. Это связано с тем, что «основу обязательности должно искать не в природе человека или в тех обстоятельствах в мире, в какие он поставлен, а a priori исключительно в понятиях чистого разума» [5. С. 156]. Таким образом, практическая антропология имеет второстепенное значение по сравнению с метафизикой нравов. Но как только категорический императив морали и метафизические начала учения о добродетели сформулированы, настает ее черед. Моральный закон нуждается в том, чтобы ему проложили путь к воле человека и тем самым придали силы для исполнения: «хотя человеку и доступна идея практического чистого разума, однако ему, как существу, испытывающему воздействие многих склонностей, не так-то легко сделать ее in concreto действенной в своем поведении» [5. С. 157]. Эту же мысль Кант развивает во введении к «Метафизике нравов» (в разделе II «Об идее и необходимости метафизики нравов»): «метафизика нравов не может основываться на антропологии, однако может быть применена к ней» [12. С. 238]. По Канту, моральная антропология основывается на опыте и имеет следующую структуру: во-первых, «учение о субъективных препятствующих и благоприятствующих условиях исполнения законов метафизики нравов в человеческой природе» [12. С. 238]; во-вторых, «учение о создании, распространении и укреплении моральных основоположений (в области воспитания, школьного обучения, народного просвещения)» [12. С. 238]; в-третьих, «другие подобные учения и предписания, основывающиеся на опыте» [12. С. 238]. Причем Кант еще раз повторяет свой тезис из «Основоположения метафизики нравов»: «без моральной антропологии нельзя обойтись, но она ни в коем случае не должна быть предпослана метафизике нравов или смешана с ней» [12. С. 238].
К сожалению, отдельного произведения, в котором бы развивались идеи практической антропологи в соответствии с этой схемой, Кант не написал. Я разделяю убеждение Х. Клемме, что «лекции о прагматической антропологии и сама «Антропология» 1798 г., несомненно, не тождественны моральной, или практической, антропологии» [11. С. 26], ведь Кант анализирует препятствующие или благоприятствующие условия исполнения морального закона, которые находятся в природе человека, не столько в «Антропологии с прагматической точки зрения» или «Лекциях по прагматической антропологии», сколько в «Религии в пределах только разума» и в «Метафизике нравов».
В первой части «Религии в пределах только разума» Кант определяет природу человека как «субъективное основание применения его свободы (под [властью] объективных моральных законов), которое предшествует всякому действию, воспринимаемому нашими чувствами, в чем бы ни заключалось это основание» [13. С. 20]. Из этого, по Канту, следует, что основание добра или зла находится исключительно в максиме поступка. Максима себялюбия, выступающая условием соблюдения морального закона, хотя и может с эмпирической точки зрения реализовываться в легальных (не противоречащих морали) действиях, с умопостигаемого ракурса выглядит моральным злом. Наоборот, если единственным мотивом поступка был моральный закон, который человек сделал своей максимой, а себялюбие им не принималось во внимание, то такое действие доброе и имеет моральную ценность.
Затем Кант предпринимает «антропологическое исследование» [13. С. 25], чтобы установить, добрый или злой характер присущ человеку (и человечеству в целом) от природы, и описывает как первоначальные задатки добра, так и наклонности ко злу. Первоначальные задатки добра Кант разделяет на три класса: задатки животности, человечности и личности. Первые не коренятся ни в каком разуме и соответствуют «физическому и чисто механическому себялюбию» [13. С. 26]. К ним Кант относит стремление к самосохранению, к продолжению рода (и заботе о детях), а также влечение к общительности. Задатки человечности связаны с физическим сравнительным себялюбием, они побуждают человека добиваться и отстаивать свою ценность в глазах других людей (первоначально как равенство с ними). Хотя обоим видам этих задатков могут быть привиты всевозможные пороки (задатки животности при отступлении от целей природы превращаются в скотские пороки обжорства, похоти и дикого беззакония, а задатки человечности в пороки культуры, причем Кант называет их дьявольскими пороками: завистью, неблагодарностью, злорадством и т. д. на высшей степени, превышающей человечность), сами по себе задатки животности и человечности «в человеке не только (негативно) добры (не противоречат моральному закону), но это и задатки добра (содействуют исполнению этого закона)» [13. С. 28]. Эти задатки требуются для возможности человеческой природы, люди не могут их уничтожить, хотя и могут пользоваться ими противно их цели. В «Метафизике нравов» Кант еще раз обратится к этим моральным качествам и рассмотрит задатки животности в контексте долга человека перед самим собой как животным существом, а задатки человечности отчасти как разновидность долга человека перед самим собой, рассматриваемого только как моральное существо, но главным образом при обсуждении обязанностей добродетели по отношению к другим.
Задатками личности Кант называет «способность воспринимать уважение к моральному закону как сам по себе достаточный мотив произволения» [13. С. 27]. Пока с человеком не произошла нравственная революция в образе мыслей (переход от максим себялюбия к моральному закону как единственному основанию поступка), они существуют лишь в возможности, но в отличие от двух предыдущих классов, задаткам личности «никак не может быть привито что-либо злое» [13. С. 27]. Одновременно с революцией в области мыслей, по Канту, у человека начинается постепенная реформа образа чувств, позволяющая ему постоянно продвигаться от плохого к лучшему, то есть заниматься безграничным моральным самосовершенствованием. В «Метафизике нравов» задаткам личности у Канта соответствуют предварительные эстетические понятия восприимчивости души к понятиям долга вообще, а именно моральное чувство, совесть, любовь к ближнему и уважение к самому себе, это «естественные душевные задатки (praedispositio), на которые оказывают воздействие понятия долга» [12. С. 441], и каждый человек имеет их от природы. Далее Кант еще раз подчеркивает, что все эти душевные переживания не имеют самостоятельного значения для нравственности и возникают только после воздействия на душу морального закона. Так, моральное чувство, «восприимчивость к удовольствию или неудовольствию лишь из сознания соответствия нашего поступка закону долга или противоречия его с таковым» [12. С. 441] всецело обуславливается «восприимчивостью свободного произволения к побуждению его чистым практическим разумом (и его законом)» [12. С. 442]. Совесть — «это практический разум, напоминающий человеку в каждом случае [применения] закона о его долге оправдать или осудить» [12. С. 442]. Она действует на моральное чувство человека через акт разума и является неизбежным фактом, хотя человек может и не обращать внимания на ее суждения (поэтому культивировать совесть по Канту — это моральный долг, хотя и косвенный). Долг любви для Канта — это бессмыслица, потому что всякий долг есть принуждение, а «то, что делают по принуждению, делают не из любви» [12. С. 443]. А вот делать добро другим людям по мере нашей возможности есть долг, и он не зависит от того, любим мы их или нет. Наконец, чувство самоуважения у Канта является синонимом долга: моральный закон в человеке «неизбежно заставляет его иметь уважение к своему собственному существу и это чувство (особого рода) есть основание того или иного долга, т. е. тех или иных поступков, совместимых с долгом перед самим собой» [12. С. 445].
Наклонности ко злу в человеческой природе Кант также разделяет на три разновидности: хрупкость, недобросовестность и злонравие. Под наклонностью он понимает «субъективное основание возможности той или иной склонности (привычных желаний, concupiscientia), поскольку оно для человечества случайно» [13. С. 28]. Наклонность (Hang) у Канта всегда предшествует склонности (Neigung) как потенция, другими словами, наклонность — это «только предрасположение к желанию удовлетворения» [13. С. 28], порождающее склонность, если человек его испытал. Сильную склонность, исключающую всякую возможность владеть собой, Кант называет страстью. Страсть в «Религии в пределах только разума» Кант отличает от аффекта, поскольку она относится к способности желания, а аффект связан с чувством удовольствия и неудовольствия. В отличие от задатков, наклонности нельзя представить как прирожденные человеку, они или благоприобретенные (если добрые), или нажитые (если злые) самим человеком. Злые наклонности являются субъективным основанием возможности отклонения максим от морального закона, «злым сердцем» [13. С. 29]. Хрупкость (fragilitas) человеческой природы выражается в том, что моральный закон субъективно оказывается более слабым мотивом, чем склонность. Недобросовестность (impuritas, improbitas) означает человеческую склонность совершать «сообразные с долгом поступки... не из одного только чувства долга» [13. С. 30]. Человек по большей части (а может, и всегда) нуждается еще и в других мотивах, чтобы поступать так, как требует моральный долг. Наконец, злонравие (vitiositas, pravitas) у Канта «есть наклонность произволения к максимам предпочитать мотивам из морального закона другие (неморальные) мотивы» [13. С. 30]. Хотя злонравие может сочетаться с легальными поступками, не противоречащими моральному долгу, оно указывает на неморальный образ мыслей, и поэтому по Канту такой человек совершенно правильно называется злым.
Подведем предварительные итоги реконструкции кантовского проекта практической антропологии. По Канту, человек как существо ноуменальное осознает моральный закон и никогда не может отречься от его повеления, а как существо феноменальное он стремится к счастью и руководствуется субъективным принципом себялюбия. В природе человека содержатся как первоначальные задатки добра (содействующие исполнению морального закона), так и наклонности ко злу (ему противостоящие). На человеческое поведение всегда оказывают влияние два мотива: моральный закон и закон себялюбия. Человек от природы склонен делать «мотивы себялюбия и его влечения условием соблюдения морального закона» [13. С. 37], что противоречит нравственному порядку и в лучшем случае приводит лишь к легальным поступкам, эмпирически добрым, но умопостигаемо злым. Поэтому, по Канту, от природы человек зол, хотя у него существуют первоначальные задатки добра, и он всегда может самостоятельно совершить нравственную революцию в своем сердце, которая с эмпирической точки зрения будет «никогда не прекращающееся стремление к лучшему, стало быть, постепенная реформа наклонности к злому как извращенному образу мыслей» [13. С. 51].
Учение Вл. Соловьева о первичных данных нравственности
Свое учение о первичных данных нравственности Вл. Соловьев излагает в «Оправдании добра». Оно явилось итогом многолетних размышлений над этической проблематикой и ознаменовано большим (и положительным, и отрицательным) влиянием кантовского философского наследия. Даже название первой части «Добро в человеческой природе» и первое ее предложение: «Всякое нравственное учение, какова бы ни была его внутренняя убедительность или внешняя авторитетность, оставалось бы бессильным и бесплодным, если бы не находило для себя твердых точек опоры в самой нравственной природе человека» [6. С. 119] отсылают читателя к кантовскому проекту практической антропологии. Причем если для Канта метафизика морали должна предшествовать эмпирическим описаниям добра в человеке, Вл. Соловьев, стремясь дополнить и улучшить Канта, сознательно выбирает диаметрально противоположный путь. Однако так было не всегда. В ранний период своего творчества Вл. Соловьев, по собственному признанию, «в вопросах чисто философских находился под преобладающим влиянием Канта и отчасти Шопенгауэра» [7. С. 549].
В первом издании «Оправдания добра» в качестве приложения Вл. Соловьев публикует свою работу «Формальный принцип нравственности (Канта) — изложение и оценка с критическими замечаниями об эмпирической этике», представляющую собой воспроизведение (с поправками) части докторской диссертации 1880 года «Критика отвлеченных начал». Содержание этого текста свидетельствует, что Вл. Соловьев блестяще знал кантовскую этику. Ему была известна и идея Канта из «Основоположения метафизики нравов» о разделении этики на чистую и эмпирическую: «Необходимо различать этику как чисто эмпирическое познание, от этики как философского учения» [7. С. 556]. Вл. Соловьев соглашается с Кантом, что имеющий абсолютную необходимость моральный закон «не может лежать ни в природе того или другого существа, например человека, ни в условиях внешнего мира, в которые эти существа поставлены; но это основание должно заключаться в априорных понятиях чистого разума, общего всем разумным существам» [7. С. 558]. То есть русский мыслитель полностью разделяет кантовскую точку зрения и считает, что сформулировать моральный закон можно только путем метафизического исследования, отвлекаясь от всего эмпирического, в том числе от данных психологии, антропологии, изучения человеческой природы. Также как Кант, Соловьев утверждает, что «мы приписываем нравственному началу, как такому, безусловную обязательность, независимо от того, имеем ли мы в данный момент в нашей природе эмпирические условия для действительного осуществления этого начала в себе или других» [7. С. 557]. Наконец, Соловьев вслед за Кантом констатирует, что у людей воля сама по себе не вполне согласна с практическим разумом, и поэтому их «действия, признаваемые объективно как необходимые, являются субъективно случайными и определение такой воли сообразно объективным законам есть понуждение» [7. С. 562]. Следовательно, как и Кант, Вл. Соловьев считает, что эмпирически доброе действие «не имеет нравственной цены только тогда, когда совершается исключительно по одной только склонности, без всякого сознания долга или обязанности, ибо тогда оно является только случайным психологическим фактом, не имеющим никакого всеобщего, объективного значения» [7. С. 574].
Но дальше между Кантом и Соловьевым начинаются этические дивергенции. По Соловьеву, когда в действии человека совмещаются сознание долга и естественная склонность, это «увеличивает нравственную цену действия» [7. С. 574–575]. Долг — это форма нравственного принципа, а склонность составляет материальный психологический мотив нравственной деятельности, отсылающий к опыту. С точки зрения Вл. Соловьева, они «не могут друг другу противоречить, так как относятся к различным сторонам дела — материальной и формальной» [7. С. 575]. Форма и материя — это парные категории, они равно необходимы, поэтому «рациональный принцип морали, как безусловного долга или обязанности, то есть всеобщего и необходимого закона для разумного существа, вполне совместим с опытным началом нравственности, как естественной склонности к сочувствию в живом существе» [7. С. 575].
Это критическое замечание Вл. Соловьева относительно этики Канта очень близко к рассуждениям Ф. Шиллера в «О грации и достоинстве»: «нравственное совершенство человека выясняется как раз участием склонности в его моральном поведении» [14. С. 145]. Во второе издание «Религии в пределах только разума» Кант добавил примечание с ответом на возражения Шиллера: «Я охотно признаю, что к понятию долга именно ради его достоинства я не могу присовокупить какую-либо грацию: понятие долга содержит в себе безусловное принуждение, с чем грация стоит в прямом противоречии» [13. С. 23]. С точки зрения Канта, гармония между моральным долгом и чувственной склонностью при совершении действий приводит к смешению легальных и моральных поступков, а также к неизбежному самообману: человек будет ошибочно придавать моральную ценность поступку, хотя и не противоречащему требованию морального долга, но совершенному, в первую очередь, из склонностей и себялюбия. Вл. Соловьев на это справедливо возражает, фактически защищая позицию Шиллера: «по замечанию Канта, вообще нет никакой возможности определить, совершаются ли данные действия на самом деле в силу одного нравственного принципа или же по другим, посторонним побуждениям, то есть имеют ли они на самом деле нравственное достоинство или нет; а отсюда следует, что мы никогда не можем решить, имеет ли данный действующий субъект характер праведности или нет, то есть не можем различить в эмпирической действительности праведного от неправедного, а следовательно, не можем даже вообще с достоверностью утверждать, чтобы в этой деятельности существовали какие-нибудь праведники» [7. С. 577]. Следовательно, Кант в своей этике ограничивается лишь потенциальным обладанием добра, а люди, по Вл. Соловьеву, определяются кенигсбергским философом как разумные существа, лишь «могущие быть или стать нравственными» [7. С. 577].
Для русского мыслителя этого недостаточно. Во-первых, он считает, что если мы разделяем установки кантовской теории познания, то так как все существа без исключения — это непознаваемые вещи в себе, у нас «не может быть и никаких оснований, ни эмпирических, ни умозрительных, противополагать безусловно разумные существа неразумным и ограничивать нравственную область одними первыми» [7. С. 578]. Поэтому человек обязан относиться нравственно не только к людям, но и ко всем другим существам, включая животных. С эмпирической точки зрения это выражается в принципе «никому не вреди и всем, сколько можешь, помогай» [7. С. 578]. Во-вторых, для Вл. Соловьева добро в человеке, как и в других существах, наличествует актуально, а не потенциально: «добро все-таки есть» [6. С. 245]. Он предпринимает эмпирическое антропологическое исследование, чтобы отыскать первичные начала нравственности, существующие в природе человека и составляющие неразложимую основу общечеловеческой нравственности, на которой «должно утверждаться всякое значительное построение в области этики» [6. С. 119]. Этих начал три: чувства стыда, жалости и благоговения. По Соловьеву, стыд — это уникальное человеческое чувство, которое никогда не может испытать ни одно животное, а вот для жалости и благоговения он находит соответствия в мире живой природы. Это объясняется тем, что у Соловьева стыд определяет этическое отношение человека к его собственной материальной природе: «Человек стыдится ее господства в себе или своего подчинения ей (особенно в ее главном проявлении) и тем самым признает, относительно ее, свою внутреннюю самостоятельность и высшее достоинство, в силу чего он должен обладать, а не быть обладаемым ею» [6. С. 126–127]. Жалость же человек испытывает по отношению к людям, а также ко всем другим живым существам, она состоит в том, что человек «соответственным образом ощущает чужое страдание2 или потребность, т. е. отзывается на них более или менее болезненно, проявляя, таким образом, в большей или меньшей степени свою солидарность с другими» [6. С. 127]. Наконец, благоговение человек проявляет по отношению к тому, что признается им как высшее. Чувство благоговения есть чувство «преклонения перед высшим (rеvеrеntia) [и] составляет у человека нравственную основу религии и религиозного порядка жизни» [6. С. 129].
По Вл. Соловьеву, эти три чувства «исчерпывают область возможных нравственных отношений человека к тому, что ниже его, что равно ему и что выше его» [6. С. 130], а «самое высшее нравственное учение может быть только полным и правильным развитием указанных первичных данных человеческой нравственности, ибо заложенные в них общие требования покрывают всю сферу возможных жизненных отношений человека» [6. С. 134]. Однако для того, чтобы обосновать нравственный порядок в человечестве, этих чувств недостаточно. Вл. Соловьев и в «Оправдании добра» высказывается в полном соответствии с кантовской мыслью, что «все фактические проявления нашей нравственной природы, как такие, имеют лишь частный, случайный характер... Между тем разум человека, так же прирожденный ему, как и нравственные чувства, изначала предъявляет и к нравственной сфере свое требование всеобщности и необходимости» [6. С. 134]. Так же как и для Канта, для Соловьева идея добра присуща человеческому разуму как постулат, а «раздвоение между добром и благом (или благополучием) есть лишь условное явление, а что безусловное существо добра заключает в себе и полноту блага» [6. С. 240]. Но путь рассуждений, которым шел Кант, с точки зрения Вл. Соловьева, «никак не может быть признан ведущим к цели» [6. С. 240].
Неверный путь Кант, по Вл. Соловьеву, избирает из-за «того одностороннего субъективного идеализма, который составляет общую границу всех его воззрений» [6. С. 240]. Кант ошибается, когда «признает чуждыми для истинной нравственности, или чужезаконными, не только мотивы своекорыстного расчета, побуждающие нас делать добро ради собственной выгоды (в чем он, безусловно, прав), но также и всякие другие мотивы, кроме одного только уважения к нравственному закону» [6. С. 241]. Хотя кантовский вывод логически правилен, Вл. Соловьев отмечает, что «высшая инстанция, к которой он [то есть Кант] сам апеллирует, — совесть — не становится на эту точку зрения» [6. С. 242] и в подтверждение своих слов приводит известную эпиграмму Ф. Шиллера. По Соловьеву, «действительная совесть обязывает нас относиться должным образом ко всему, а принимает ли это должное отношение форму отвлеченного сознания общих принципов, или прямо действует в виде непосредственного чувства, или — что всего лучше — соединяет и то, и другое,— это уже вопрос о степенях и формах нравственного развития» [6. С. 242]. Другим словами, люди в зависимости от уровня их собственной моральной культуры могут воспринимать Добро и как голос практического разума, и как моральное чувство, и как их единство. С точки зрения Вл. Соловьева, все эти три способа имеют равную моральную ценность.
По Соловьеву, «кантовский «идеализм» отнял подлинную действительность не только у видимого мира, но и у мира душевного» [6. С. 243]. Постулирование бессмертия души и бытия Бога не в состоянии придать кантовской этике достоверность: «всякий скептик или «критический философ» может с полным правом обернуть это рассуждение прямо против Канта: так как для обоснования чистой нравственности необходимо бытие Божие и бессмертной души, а достоверность этих идей доказана быть не может, то, следовательно, и чистая нравственность, ими обусловленная, остается предположением, лишенным достоверности» [6. С. 244]. Поэтому, если нравственный закон имеет безусловное значение (а в этом ни Кант, ни Вл. Соловьев не сомневались), то он должен быть автономным, то есть покоиться на самом себе. Но если на этом остановиться, как поступил И. Кант, то, по Вл. Соловьеву, категорический императив будет лишь «отвлеченная формула, висящая в воздухе» [6. С. 244]. Чтобы придать моральному закону обязательность, действенность и действительность, Вл. Соловьев апеллирует к Богу и бессмертной душе как его источникам: «Бог и душа суть не постулаты нравственного закона, а прямые образующие силы нравственной действительности» [6. С. 244–245].
Бог, понимаемый как действительность сверхчеловеческого Добра, по Соловьеву, питает собирательную жизнь человечества, обуславливает ее нравственный прогресс и отсылает к бессмертию души: «раз нравственная жизнь (и собирательная, и личная) понята как взаимодействие человека (и человечества) с совершенным сверхчеловеческим Добром, то эта жизнь по существу изъята из области преходящих материальных явлений, т. е. как единичная, так и собирательная душа признана бессмертною» [6. С. 245–246]. Такая трактовка нравственной жизни указывает на значимость для этического учении Вл. Соловьева свойства Соборности. По мнению В. Н. Брюшинкина, «оно одновременно сверхрационально и чувственно, что устанавливает непосредственную связь между личностями, которая, как правило, полностью не осознается» [2. С. 26]. Поэтому Вл. Соловьев не считает достаточной исключительно рациональную этику Канта, называет ее «моральной химией» [6. С. 242] и предлагает ее дополнить тремя нерациональными нравственными чувствами и сверхрациональным живым Богом, который оказывается и высшим несомненным знанием, задающим смысл бытия людей: «мы твердо знаем одно: жив Бог — жива душа моя, — отказавшись от этого основоположения, мы перестали бы понимать и утверждать себя как существо нравственное, т. е. отреклись бы от самого смысла своего бытия» [6. С. 246]. Однако эти дополнения возвращают Вл. Соловьева к гетерономной модели этики, раскритикованной Кантом в «Основоположении метафизики нравов» и «Критике практического разума», где Кант прямо пишет, что учение о постулатах практического разума вовсе не означает, что «необходимо признавать бытие Бога как основание всякой обязательности вообще» [15. С. 523].
Заключение
Таким образом, Вл. Соловьев, зная о кантовском намеченном, но полностью не осуществленном проекте практической антропологии, в «Оправдании добра» эмпирически изучает природу человека и находит в ней первоначальные задатки нравственности. Поэтому главное этическое произведение русского мыслителя можно рассматривать как своеобразное продолжение и дополнение кантовской практической философии. Разумеется, Соловьев, признавая значимость идей Канта, далеко не все их разделяет. Например, если Кант несмотря на то, что констатирует наличие задатков добра в человеческой природе, все же склоняется к заключению, что по своей природе человек зол, то Вл. Соловьев ставит акцент на первичных данных людской нравственности, чувствах стыда, жалости и благоговения. Для него эти нерациональные компоненты образуют материю добра и столь же значимы, как и разум, задающий его форму. Поэтому для Вл. Соловьева (как и для Ф. Шиллера, но не для И. Канта) предпочтителен такой нравственный поступок, где гармонично совмещаются веление морального долга и чувственная склонность делать добро. Можно провести аналогию между этой идеей русского мыслителя и кантовской теорией познания: у Канта чувственные данные выступают гарантом применения категорий в пределах действительного опыта и являются компонентом эмпирических знаний о явлениях; у Соловьева отвлеченная рациональная форма категорического императива получает содержание благодаря нравственным чувствам, которые придают действенность моральному закону в жизни людей. Однако для того чтобы гарантировать подлинную доброту иррациональных моральных чувств, Вл. Соловьев вынужден апеллировать к сверхрациональному живому Богу, который является силой, придающей действительность нравственно доброму, а это лишает его этическую концепцию автономии морали, которая возможна лишь в чистой формальной этике.
1 См. об этом, например, в статье Х. Клемме «Понятие антропологии в философии И. Канта» [11].
2 Интересно, что в «Религии в пределах только разума» Кант называет сострадание «добросердечным инстинктом» [13. С. 31] и пишет, что оно может побуждать как к соблюдению, так и к нарушению нравственного закона. Поэтому ситуация, когда совершенный из сострадания поступок согласуется с категорическим императивом морали, — «это простая случайность» [13. С. 31].
Об авторах
Сергей Валентинович Луговой
Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта
Автор, ответственный за переписку.
Email: SLugovoi@kantiana.ru
ORCID iD: 0000-0002-4323-2173
кандидат философских наук, доцент, старший научный сотрудник, лаборатория «Кантианская рациональность», Академия Кантианы; доцент, Институт образования и гуманитарных наук
Российская Федерация, 236041, Калининград, ул. Александра Невского, д. 14Список литературы
- Белов В.Н. Основоположения нравственной философии И. Канта и Вл. Соловьева // Кантовский сборник. 2013. Т. 45. № 3. С. 16–23. https://doi.org/10.5922/0207-6918-2013-3-2
- Брюшинкин В.Н. Сравнительное исследование западноевропейской и русской философии методами теории аргументации на примере текстов И. Канта и В. Соловьева // Материалы к сравнительному изучению западноевропейской и русской философии: Кант, Ницше, Соловьев / под ред. В.Н. Брюшинкина. Калининград : Изд-во КГУ, 2002. С. 7–33.
- Калинников Л.А. Кант в русской философской культуре. Калининград : Изд-во РГУ им. И. Канта, 2005.
- Нижников С.А. Вл. Соловьев и И. Кант: критический диалог философских культур // Соловьевские исследования. 2005. Т. 10. № 1. С. 10–31.
- Кант И. Основоположения метафизики нравов // Сочинения в 8 т. / под ред. А.В. Гулыги. Т. 4. М. : Чоро, 1994. С. 153–372.
- Соловьев В.С. Оправдание добра // Сочинения в 2 т. / под ред. А.Ф. Лосева и А.В. Гулыги. Т. 1. М. : Мысль, 1988. С. 47–548.
- Соловьев В.С. Формальный принцип нравственности (Канта) — изложение и оценка с критическими замечаниями об эмпирической этике // Сочинения в 2 т. / под ред. А.Ф. Лосева и А.В. Гулыги. Т. 1. М. : Мысль, 1988. С. 549–580.
- Кант И. Критика чистого разума // Сочинения в 8 т. / под ред. А.В. Гулыги. Т. 3. М. : Чоро, 1994. С. 5–622.
- Кант И. Письмо к Штейдлину от 4 мая 1793 г. // Сочинения в 8 т. / под ред. А.В. Гулыги. Т. 8. М. : Чоро, 1994. С. 554–556.
- Кант И. Логика // Сочинения в 8 т. / под ред. А.В. Гулыги. Т. 8. М. : Чоро, 1994. С. 266–398.
- Клемме Х.Ф. Понятие антропологии в философии И. Канта // Кантовский сборник. 2010. Т. 33. № 3. С. 24–32.
- Кант И. Метафизика нравов // Сочинения в 8 т. / под ред. А.В. Гулыги. Т. 6. М. : Чоро, 1994. С. 223–543.
- Кант И. Религия в пределах только разума // Сочинения в 8 т. / под ред. А.В. Гулыги. Т. 6. М. : Чоро, 1994. С. 5–222.
- Шиллер Ф. О грации и достоинстве // Сочинения в 7 т. / под ред. Н.Н. Вильмонта и Р.М. Самарина. Т. 6. М. : Гос. изд. художественной литературы, 1957. С. 115–170.
- Кант И. Критика практического разума // Сочинения в 8 т. / под ред. А.В. Гулыги. Т. 4. М. : Чоро, 1994. С. 373–565.
Дополнительные файлы