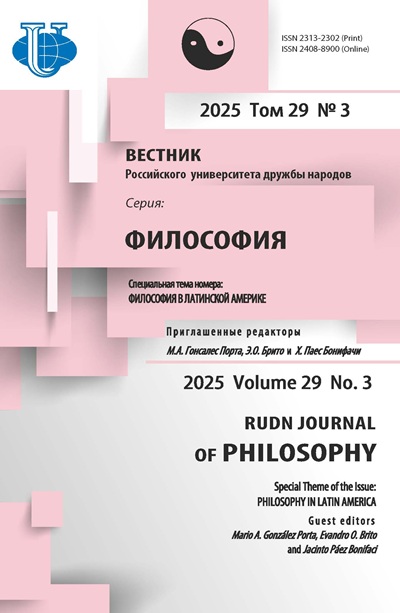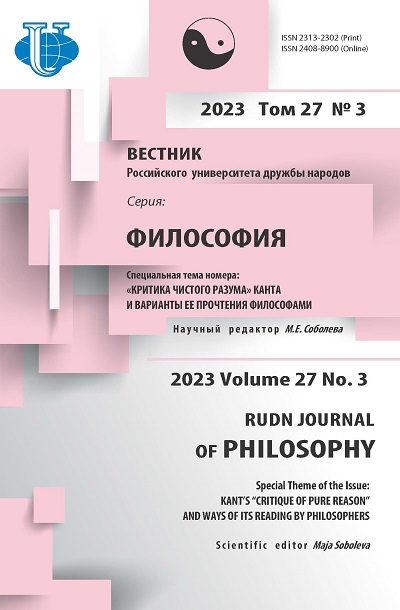Наследие И. Канта и Х. Арендт: постижение мира в герменевтической перспективе
- Авторы: Губман Б.Л.1
-
Учреждения:
- Тверской государственный университет
- Выпуск: Том 27, № 3 (2023): «КРИТИКА ЧИСТОГО РАЗУМА» КАНТА И ВАРИАНТЫ ЕЕ ПРОЧТЕНИЯ ФИЛОСОФАМИ
- Страницы: 614-628
- Раздел: «КРИТИКА ЧИСТОГО РАЗУМА» КАНТА И ВАРИАНТЫ ЕЕ ПРОЧТЕНИЯ ФИЛОСОФАМИ
- URL: https://journals.rudn.ru/philosophy/article/view/36051
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-2302-2023-27-3-614-628
- EDN: https://elibrary.ru/GXAIVS
- ID: 36051
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Герменевтическая трактовка познания Х. Арендт сложилась во многом в русле переосмысления идейного наследия И. Канта. Хотя она сумела предложить достаточно оригинальную интерпретацию теоретических воззрений великого немецкого философа, ее герменевтическая стратегия испытала влияние также тех подходов к их пониманию, которые были предложены ее учителями М. Хайдеггером и К. Ясперсом. Герменевтическое учение Арендт отправляется от необходимости осознания тесного единства практического действия и мыслительной активности человеческого субъекта - Vita Activa и Vita Contemplativa. Принимая исходное положение метафизики конечности Хайдеггера о “заброшенности” человека в поток времени, Арендт одновременно следует призыву Ясперса о необходимости экзистенциально-герменевтической интерпретации практического действия и способностей духа путем обращения к их пониманию на основе наследия Канта. Выделяя среди основных векторов самореализации духа мышление, волю и способность суждения, она демонстрирует их теснейшую взаимосвязь с основными типами практической активности человека - трудом, работой и действием. Анализируя способности духа, Арендт акцентирует определяющую роль мышления, которое соединяет воедино процессы получения знания и смыслосозидания. Ею особо выделяется первичность смыслосозидающей функции разума по отношению к способности рассудка порождать истинное знание на базе обобщения данных созерцания. Характеризуя мышление вслед за Кантом как «вещь в себе», Арендт говорит о его сопричастности вечности и времени в моменте настоящего, способности обобщать минувшее и проектировать будущее. Мышление составляет ядро практического разума, которое Кант отождествил с волей, открывающей в своей устремленности в будущее новый горизонт смыслопорождения. Способность суждения также оказывается порождением мышления, обращаясь к минувшему при опоре на здравый смысл и воображение. Арендт справедливо утверждает, что «паралич» способности суждения, указующей на значимость кантовского категорического императива, грозит не только искаженным видением истории, но и триумфом «банальности зла» в сфере политики.
Полный текст
Введение
Философское наследие Ханны Арендт связано с разработкой оригинальной и пока еще недостаточно изученной герменевтической стратегии постижения мира. Понимание генезиса формирования ее теории невозможно без обращения к ее историко-философским истокам, что во многом связано с переосмыслением в экзистенциально-герменевтическом ключе наследия Канта. Арендт не стремилась жестко следовать тому пути, который запечатлевает магистральную линию кантовской эволюции трансцендентальной философии. Скорее в процессе переосмысления ею наследия философа можно увидеть движение от антрополого-этической и социально политической тематики, понимаемой как освоение предметности «деятельной жизни», к видению «созерцательной жизни», рефлексивной способности мышления в его теоретической и практической плоскостях. Это означает постепенное смещение ее интереса от экзистенциального переосмысления тематики практической философии Канта к герменевтическому видению тех проблем, которые являются центральными в «Критике чистого разума» и «Критике способности суждения», с тем чтобы потом вновь вернуться в обретенной на этой базе перспективе к разработке глобально значимых вопросов социальнополитического и морального порядка. Рассмотрение возникшего в полемике с кантовским наследием учения Арендт о свойственной экзистенциальному субъекту способности наделять смыслом и постигать мир в герменевтической перспективе составляют цель этой статьи[1].
Кантовское наследие — источник подхода Арендт к единству «деятельной» и «созерцательной» жизни
Кант оказался в центре философских интересов Арендт изначально как мыслитель, постигший человека в качестве творца особого надприродного мира культуры, отмеченного единством практического действия и духовной активности — «деятельной» (Vita Activa) и «созерцательной» (Vita Contemplativa) жизни. Он, на ее взгляд, был выразителем духа эпохи европейского модерна, возвеличившего инструментальные возможности покорения мира, которые должно ограничивать лишь понимание ценности свободы человека [1. P. 155]. Кант становится, в подобной интерпретации, выразителем трагического экзистенциального диссонанса эмпирической данности и свободы человека: «Когда человеческое достоинство еще не затронуто, именно его трагичность, а не абсурдность воспринимается как отличительная черта человеческого существования. Её величайшим выразителем является Кант, для которого спонтанность действия и соответствующие потенции практического разума, включая силу суждения, остаются выдающимися способностями человека, хотя его активность подпадает под детерминизм природных законов и его суждение не может проникнуть в тайну абсолютной реальности (the Ding an sich). Кант обладал смелостью оправдать человека за последствия его деяний, настаивая исключительно на чистоте его мотивов, и это спасло его от потери веры в человека и его потенциальное величие», — отмечает Арендт [1. P. 235]. В приведенной характеристике того понимания специфики человеческого существования, которое зафиксировал Кант, по мысли Арендт, открывается перспектива дальнейших усилий практического разума, которому надлежит обнаружить важнейшие константы бытия человека в разделяемом им с другими людьми мире, полном трагических и неконтролируемых коллизий. Разумеется, уже на этом этапе «человеческое состояние» подлежит рефлексии на герменевтической основе, однако Арендт великолепно осознает, что экзистенциально направляемая мысль нуждается в самостоятельном рассмотрении, рождая тем самым тематическое поле проработки «жизни духа».
Экзистенциально-антропологическое прочтение Канта, безусловно, состоялось на базе освоения тех подходов, которые были предложены учителями Арендт — М. Хайдеггером и К. Ясперсом. Разделяя феноменологическую стратегию подхода Хайдеггера к разработке метафизики конечности, его видение «заброшенности» Dasein в мир, данный в горизонте времени, Арендт вместе с тем полагает необходимым обретение специфической аналитики человеческого существования при опоре на кантовское наследие, его основные тематические слои и предполагаемый им категориальный аппарат. При этом возникает вопрос, каким образом возможно введение тематического содержания и категорий кантовской системы в антропологическую теорию о целостности «деятельной жизни» и «жизни духа». Конечно, Арендт совершенно определенно, как явствует из ее поздних штудий, учла урок, преподнесенный Хайдеггером в книге «Кант и проблема метафизики», где показано рождение метафизики конечности в контексте размышлений о кантовском понимании продуктивного воображения, изложенном в «Критике чистого разума»[2]. Но детальное обращение к этой тематике возникает, как представляется, в творчестве Арендт уже после теоретической проработки антропологических характеристик «деятельной жизни», возникающих в диалоге с «Критикой практического разума» и «Критикой способности суждения». Происходит это под прямым воздействием того способа работы с наследием кантовской мысли, который был предложен в философии Ясперса.
Именно экзистенциальная интерпретация базовых тем и категорий кантовской философии вдохновляла Арендт при разработке вопроса о единстве деятельной и духовной составляющей жизни человека. В этом она прямо признается в письме Ясперсу от 27 августа 1957 г., в котором содержатся ее впечатления от прочтения подаренной ей им книги «Великие философы»: «Я не прочитала еще всю книгу, только три четверти ее, но я все же достаточно уверена, что ее действительным центром является чудесный анализ Канта… Никто так не понял его, как сделали это вы» [3. P. 317]. Это маленькое замечание говорит о том, что она позитивно восприняла способ экзистенциального переосмысления кантовского наследия, присущий Ясперсу. Письмо написано за год до появления «Человеческого состояния» (1958), где также очевидно желание опереться на кантовское видение «деятельной жизни». В том же самом послании Ясперсу Арендт поясняет основу того ракурса видения кантовского наследия, которого она придерживалась на этапе написания этого труда. Она считает, что в своем описании формирования человеческого опыта Кант не учел его жизненное измерение. Прочесть Канта, исправляя этот недостаток при опоре на экзистенциальный способ его интерпретации, — задача ее философского подхода к воссозданию единства «деятельной» и «созерцательной» жизни. «В настоящее время, — сообщает она Ясперсу, — я читаю ‘Критику способности суждения’ с увеличивающимся очарованием ею. Здесь, а не в ‘Критике практического разума’, скрывается подлинная политическая философия Канта» [3. P. 318]. Способность суждения — необходимое сопровождение «деятельной жизни», но одновременно она оказывается продолжением мыслительной способности, разрабатываемой Кантом в первой его «Критике», принадлежащей измерению «жизни духа» человека.
Уже при написании «Человеческого состояния» Арендт с очевидностью задумывалась о взаимосвязи экзистенциального истолкования практических деяний человека и герменевтики постижения мира, хотя центр ее аналитики, безусловно, был сфокусирован на «деятельной жизни». На этом этапе ее творчества экзистенциальное прочтение кантовской проблематики отчетливо обозначено при аналитике труда, работы и действия как основных характеристик практической жизни человека, вносящих вклад в конституирование мира. Даже подвергающиеся тщательному осмыслению положения Маркса, касающиеся этого тематического поля, видятся ей сквозь призму кантовского учения о надприродности культуросозидающей свободной активности человека, несущей в себе изначально эмансипаторный импульс освобождения от порабощающих внешних обстоятельств и стремление к политической справедливости. Труд рассматривается Арендт вслед за Марксом как процесс «обмена веществ» между человеком и природой, обеспечивающий воспроизводство и производство жизни и одновременно свободно конституирующий разделяемый людьми мир [1. P. 100]. В своем понимании работы она считает также необходимым обратиться к предложенному М. Вебером истолкованию инструментального действия, позволяющему более обстоятельно увидеть опредмечивание человеческих усилий в вещном результате, опосредующем взаимодействие людей в мире. Именно действие, предполагающее интерсубъективную коммуникацию, делает в конечном счете возможным осмысленный мир в границах социокультурных сообществ: «Действие, как отличное от производства, никогда не возможно в изоляции; быть изолированным означает быть лишенным способности действовать» [1. P. 188]. Коммуникативно оформленный мир человека, с ее точки зрения, наиболее полно представлен в наличии языка, образной структуре искусства и политике. Он образует некоторое осмысленное пространство, в границах которого имеется публичное взаимодействие и реализуются как властные отношения, так и возможность противостоять им. Естественно, что при этом огромную роль играют мыслительные усилия коммуницирующих субъектов и их способность обрести взаимопонимание, сохраняя свою автономию.
Характерно, что размышления Арендт о природе «деятельной жизни» и ее возможности в современном мире, представленные в «Человеческом состоянии», завершаются утверждением о наличии свободной мысли как ее непременном условии [1. P. 324]. После завершения этого труда Арендт последовательно движется, продолжая опираться на кантовское наследие, к созданию собственного герменевтического учения в границах представлений о «жизни духа» [4. P. 13; 5. P. 14—36; 6. Р. 352—359]. На этом пути, который кульминирует в создании фундаментально значимых трудов «Жизнь духа» (1978)[3] и «Лекции по политической философии Канта» (1982), раскрывается ее понимание «созерцательной жизни», составляющей внутреннюю сторону «деятельной жизни», ее духовное основание.
Чувственность, рассудок и разум в познании и осмыслении мира
В процессе создания «Жизни духа», сфокусированной на исследовании мыслительной способности человека, обслуживающей волевые акты и сопряженной со способностью суждения, Арендт во многом руководствовалась установкой метафизики конечности Хайдеггера. В отличие от «Человеческого состояния», при написании «Жизни духа» она обращается к трансцендентально-феноменологической рефлексии, полагая ее платформу адекватной обоснованию фундаментального положения метафизики конечности об открытости Бытия непосредственно сопричастному ему человеческому существу через призму сознания. Она придерживается Кантовской теоретической установки, утверждая, что «в этом мире, в который мы приходим, являясь из небытия, и из которого мы исчезаем в небытие, Бытие и Являющееся совпадают. Мертвая материя, природная и искусственная, изменяющаяся и неизменная, зависит в ее существовании, то есть в ее явленности, от присутствия живых существ» [7. P. 19]. Поскольку реально существующим для экзистенциального субъекта выступает мир явлений, Арендт считает необходимым подчеркнуть также свое расхождение с Кантом, допускавшим, по ее мнению, автономное существование «вещей в себе» [7. P. 23—24]. Таким образом, вопреки догматической метафизике, метафизика конечности исходит из ценности феноменально данного, обнаруживая в его ткани экзистенциально значимое.
Принимая в целом логику построения феноменологической онтологии Хайдеггера, Арендт должна была заговорить о важности постижения Бытия в горизонте времени. Исходное положение метафизики конечности, по мнению Арендт, должно обрести последовательное развитие в процессе рассмотрения мысли, воли и действия в горизонте времени. Для этого их надо было увидеть как онтологически значимые реалии человеческого существования в мире. В этом наблюдается движение Арендт от исходной хайдеггерианской установки к методологии работы с подобного рода проблемами Ясперса, его опыту перевода в онтологический регистр категорий философии Канта. В первой части своей книги о жизни духа она последовательно осуществляет такого рода работу, размышляя о чувственности, рассудке и разуме, которые сопряжены со способностью человека наделять смыслом явления мира.
Образ мира явлен, сообразно варианту метафизики конечности Хайдеггера, который принимает и развивает Арендт, сквозь горизонт сознания, неотрывного от потока времени. Арендт считает великим открытием Гуссерля то, что объективность мира — итог субъективности, укорененной в акте интенциональности сознания. «Объективность, — заключает она, — встроена в саму субъективность сознания, благодаря интенциональности» [7. P. 46]. Интенциональность рисуется ей основанием полагания интерсубъективно значимой реальности.
Первым шагом на этом пути выступает построение мира, чувственно явленного в поле сознания. Данность чувственно постижимого мира имеет, по Арендт, своим исходным моментом телесное присутствие человека в нем, удачно представленное в работах М. Мерло-Понти. Источником, питающим формирование мира, предстают, согласно ей, в первую очередь пять общеизвестных «внешних чувств», а также синтезирующее их «общее чувство», роль которого ярко охарактеризовал еще Аквинат [7. P. 50]. Именуя постижение реальности «шестым чувством», Арендт констатирует, вслед за Ч.С. Пирсом, что мы, руководствуясь здравым смыслом, уверены в присутствии реальности, даже если мы не в состоянии утверждать, что она нам известна. «Мирность» конституируется, стало быть, уже на чувственном уровне как интерсубъективно разделяемое постижение реальности, которая наделяется значением и выразима в языке. Это предполагает интерсубъективную локализируемость всего, что наполняет мир, в пространстве и заставляет задуматься об источнике его связи со временем.
Трактовка Канта, как известно, опиралась на положение, что картина чувственно данного упорядочена при помощи двух априорных форм чувственности — пространства и времени, первая из которых является внешней, а вторая — внутренней. Интерпретируя пространство и время вслед за Хайдеггером как важнейшие экзистенциальные константы, Арендт тем не менее говорит о том, что именно Кант вплотную подошел к пониманию принципиальной необъективируемости времени, указующей на его связь как внутреннего условия создания образа мира с присутствием субъекта в бытийном контексте.
Арендт полагает, что кантовское видение времени во многом схоже с интерпретацией мыслящего «Я», предполагающей указание на непостижимое, требующее экзистенциального прочтения. Действительно, само по себе мыслящее «Я», как полагал Кант, принадлежит к сфере «вещей в себе» и не может быть определено тканью являющегося, лишь задавая таковую [8. C. 493].
Арендт вполне разделяет неокантианскую по своим истокам идею о бессмысленности допущения внутренней сути явленного в опыте как «вещи в себе», но зато такая характеристика кажется ей вполне приложимой к мыслящему «Я», которое и проявляется и одновременно скрыто в своей сопричастности Бытию. Рефлексивная мыслительная активность «Я» характеризуется ей как глубоко спиритуальная: «Опыт активности мысли является, возможно, изначальным источником нашего понятия духовности самой по себе, независимо от форм, которые она принимает» [7. P. 42]. Она возвышается не только над «мирностью» реальности, данной внешними чувствами, но и над телесным, противостоящим душе. Такой ход размышлений прямо задан августинианскими симпатиями Арендт, но здесь может прочитываться также влияние К. Ясперса и М. Шелера. Так или иначе, уже при фиксации чувственно данного активность мыслящего «Я» предлагает собственный смысловой уровень его постижения, превосходящий феноменально данное в мире, телесно порождаемое и заданное порывами душевной жизни.
В истолковании Арендт мыслительной способности человека особое место принадлежит предложенному ею пониманию взаимосвязи рассудка (Verstand) и разума (Vernunft), которое составляет центральное звено её герменевтической платформы. Чувственно данное, с точки зрения Канта, чтобы предстать в виде знания, должно подвергнуться мыслительно-логической обработке при помощи рассудка. При этом «рассудок ничего не может созерцать, а чувства ничего не могут мыслить. Только из соединения их может возникнуть знание» [8. C. 155]. Поэтому Кант уделял столь большое внимание рассмотрению категориального аппарата мышления, способности продуктивного воображения к схематизму, ведущему к формированию понятий об объектах. Опыт мыслился им как результат синтеза чувственно данного за счет его понятийного оформления, предполагающего способность концептуализации и суждения о многообразии предметного мира. Одновременно Кант, как известно, считал, что картина реальности «достраивается» при помощи усилий разума, который позволяет субъекту возвышаться до видения целостности мироздания, наделяя смыслом принципиально чувственно непостижимое при посредстве идей [8. C. 340].
Предлагая собственное истолкование взаимосвязи рассудка и разума, Арендт полагает, что, если следовать тезису об основополагающей роли мышления в создании образа мира, то необходимо указать на лидирующую роль разума по отношению к рассудочной деятельности и потенциалу чувственности, и его связь с существованием человека во времени [7. P. 63]. Такой ход аналитики познавательной деятельности позволяет ей прийти к собственному варианту истолкования онтологических оснований герменевтики.
Разум (Vernunft) рассматривается Арендт в качестве основной способности сознания, воплощающей мышление как таковое. Именно мышление позволяет наделять человеческий мир смыслом как некую целостность. Вслед за Кантом она полагает, что в отличие от разума рассудок (Verstand) является познавательной способностью, которая опирается на чувственно созерцаемое, полагая своей целью постижение истины явлений. Иными словами, «рассудок (Verstand) жаждет схватить данное в чувственности, но разум (Vernunft) хочет понять его значение» [7. P. 57]. При помощи мыслительной способности разум посягает на осмысление целостности мира и интегрирует в этом контексте частные достоверные суждения о его явлениях. В отличие от Канта Арендт резонно замечает, что если устранить существующие благодаря актам мысли смысловые контуры мира, то, возможно, и рассудочные проблемы покажутся людям ненужными, не имеющими значения [7. P. 62]. Горизонт разума, как представляется ей, наделяет интерсубъективно разделяемый мир особым смысловым измерением, сопряженным с полаганием целей человеческой деятельности.
В этой связи Арендт, следуя во многом в фарватере поздних работ Хайдеггера, размышляет о рождении смыслового горизонта герменевтического миропонимания сквозь призму языка, сопутствующих ему знаковых, образно-метафорических средств, позволяющих увидеть в новом ракурсе те явления, которые уже присутствуют как нечто данное, как достояние «здравого смысла».
Мышление рисуется Арендт как результат постоянного сократического диалога «Я» с собой [7. P. 74—75]. Причем главной его характеристикой оказывается парадоксальная сопричастность моменту настоящего и одновременно вечности. Бытие, «высвечиваясь» в акте мысли, создает основание созерцательной жизни человека. Само по себе подобное истолкование мыслительной способности как отмеченной единством пребывания в настоящем и присутствия в вечности свидетельствует не только о приверженности кантовскому строю интерпретации этого сюжета, но и заставляет вспомнить о наследии Августина, чьи философские идеи привлекали Арендт со студенческих лет.
Связь мышления с волей и способностью суждения
Размышляя о значимости мышления в жизни духа, Арендт неминуемо приходит к осмыслению его роли для ориентации волевой активности и способности суждения человека, указывая одновременно на их специфику и автономию [7. P. 69]. Мышление, воля и способность суждения при этом анализируются ею как с точки зрения их экзистенциальной обусловленности, так и в перспективе их эпистемологического изучения.
Поскольку человеческое существование истолковывается Арендт вслед за Хайдеггером как немыслимое вне горизонта времени, она полагает важным соотнести каждую из названных способностей человека с некоторым временным модусом. Именно мышление, соотносимое ею с моментом настоящего и уходящее в бесконечность, предстает тем звеном, которое присутствует в волеизъявлении и способности суждения, соединяя их воедино: «В этом промежутке между прошлым и будущим, мы обнаруживаем наше место во времени, когда мы думаем, т.е. когда мы достаточно удалены от прошлого и будущего, чтобы опираться на них в поиске их смысла, занимая позицию ‘посредника’, арбитра или судьи по отношению к многосторонним, бесконечным отношениям человеческого существования в мире, никогда не достигая конечного решения их загадок, но находясь в готовности давать всегда новые ответы на вопрос, что же происходит» [7. P. 209—210].
В результате та картина ситуированности человеческого существа во времени, которую рисует Арендт, исходя из кантовских положений, приводит к видению субъекта как несущего в себе импульс истории и аккумулирующего ее опыт сообразно с вариантом «критики исторического разума», осуществленным Хайдеггером под влиянием идей философии жизни. Одновременно ее истолкование основных векторов деятельности духа во времени заставляют вспомнить о схеме Августина, соотносившего мысль, память и волю с моментами настоящего, прошлого и будущего. Августин, как известно, обозначил примат настоящего по отношению к иным измерениям времени. В этом плане Хайдеггер, акцентирующий первенство будущего по отношению к другим измерениям времени, не принимает позицию Августина, и трактовка Арендт с вариантом истолкования времени ее учителем в данном отношении не совпадает.
Рассуждая о специфике волевого акта и его связи с мыслительной способностью, Арендт обнаруживает их единство в том, что они превосходят естественные границы эмпирически данного, возвышаясь над ним. Разум поднимается до обретения смысла, стирая границы между настоящим и вечностью, а волевой акт предполагает, что «мы имеем дело с реалиями, которые никогда не существовали, которых еще нет и которые могут никогда не быть» [9. P. 14]. Эта звучащая в кантовском духе констатация влечет за собой возможность обоснования взаимодействия мыслительного смыслосозидания разума и актов свободного волевого проектирования.
Волевой акт, по Арендт, оказывается возможным лишь на базе человеческой свободы. Признание этого обстоятельства произошло в границах иудеохристианской традиции и было чуждо языческой античности, где превалировала циклическая модель «вечного возвращения», сообразно с которой в границах космического целого воспроизводится уже случившееся ранее и не может возникнуть чего-либо радикально нового. Иудеохристианское миросозерцание предполагает, что человек создан по образу и подобию божию и в силу этого обстоятельства ему дарована свыше способность к свободному волеизъявлению. Арендт считает, что наиболее глубокое понимание проблемы свободного волеизъявления представлено в традиции христианской философии Средневековья. Для понимания ее собственного видения этого вопроса особенно важны идеи Августина и Дунса Скота, глубину трактовки которым сути акта волеизъявления она считает сопоставимой с кантовской [9. P. 145].
Предлагая острую критику воззрений Гоббса и Спинозы относительно данного тематического поля, Арендт утверждает, что наибольшей глубиной понимания воли отмечены воззрения Канта. Его понятие воли несводимо к интерпретации таковой как свободы выбора или собственной, безусловной причины, а предполагает ее отождествление с мышлением, присущим особому, практическому, разуму. «Кантовская воля делегируется разумом, с тем чтобы стать его исполнительным органом в любых актах поведения», — заключает она [9. P. 149].
Кантовский подход, на ее взгляд, выгодно контрастирует как с желанием Гегеля свести человеческую свободу к осознанию необходимости абсолютного начала истории, устремленного к завоеванию высот прогресса, так и с фактическим отрицанием значимости воления Ницше, редуцировавшим само наличие такового к «воле к власти». Кроме того, для Арендт кантовское рассмотрение проблемы воли выглядит как более предпочтительное по отношению к «воле-не-выражать-волеизъявление» Хайдеггера. Одновременно, подчеркивая значимость кантовского подхода к волеизъявлению как итогу мыслительных усилий практического разума, Арендт не считает нужным акцентировать единство его нормативно-моральных и универсально-смысловых устремлений. Эта проблема обретает более весомое звучание при обращении к анализу реализации возможностей мышления в области способности суждения.
Как справедливо полагает Р. Байнер, «мы вынуждены рассматривать ‘Жизнь разума’ без Суждения как историю без окончания» [10. P. 90]. Спонтанность мышления, как утверждал Кант в «Критике чистого разума», ориентирована на постижение определенной предметности и реализуется в способности суждения [8. C. 305—306]. Следовательно, благодаря способности суждения осуществляется синтез чувственно созерцаемого и понятийного мышления, движущегося по контуру мира и осваивающего его содержание в контексте культуры [11. C. 64]. Поскольку способность суждения относится к конкретике случившегося, то она связана с описанием минувшего и, в интерпретации Арендт, запечатлевает человеческое существование в потоке истории. Как известно, в «Критике способности суждения» Кант различал два типа суждений — определяющие и рефлектирующие [12. С. 178].
Для определяющего суждения свойственно подведение эмпирически данного под уже существующее понятие, тогда как рефлектирующее суждение предполагает использование воображения для воссоздания чувственно многообразного с целью поиска способного обобщить его в определенной перспективе понятия. Арендт считала, что кантовское учение о способности суждения, его видение творческого потенциала рефлектирующей его версии важно для понимания конституирования социокультурной и политической реальности. «Паралич» мысли рассматривался ею как основание непротивления социальному злу в его «банальном» обличии, яркий пример чего она увидела в нежелании и неспособности самостоятельно судить о мире нацистского преступника А. Эйхмана, ощущавшего себя лишь «винтиком» механизма тоталитарного государства [13. С. 203—239]. Теме способности суждения, предполагающей тесную кооперацию рассудка и практического разума Арендт предполагала посвятить третью часть «Жизни духа», но этот план никогда не был реализован, и её видение этой проблемы нашло воплощение лишь в «Лекциях по политической философии Канта» и ряде ее поздних работ [14. С. 7—24; 15. P. 167—184].
Арендт предложила достаточно убедительное истолкование роли здравого смысла и способности воображения в конституировании способности суждения. Здравый смысл трактуется ею на базе кантовского учения как интерсубъективная значимость определенного видения событий мира, разделяемого в некотором человеческом сообществе, укорененная в стремлении к общению и взаимопониманию на базе языка. «Этот здравый смысл, — заключает она, — составляет то, к чему суждение апеллирует в каждом, и именно это особое обращение придает суждениям их особую достоверность» [16. P. 72]. Вслед за Хайдеггером она высоко оценивает кантовскую теорию продуктивного воображения, предлагая, правда, несколько иное ее понимание. «Эта операция воображения, — констатирует она, — подготавливает объект для ‘операции рефлексии’. И эта вторая операция — операция рефлексии — является действительной деятельностью суждения относительно чего-либо» [16. P. 68]. Не отрицая выводов Хайдеггера, Арендт предлагает рассмотреть кантовское прочтение роли схематизма продуктивного воображения как своеобразное звено обобщения чувственных образов путем «изъятия» их из потока времени и подготовки к мыслительно-понятийной обработке на базе как определяющей, так и рефлексивной способности суждения, что позволяет создавать и картину истории и актуальной политики.
Таким образом, способность суждения в понимании Арендт оказывается важным средством обогащения герменевтического горизонта мышления, делая возможным постижение конкретных событий в свете открытости смыслового содержания истории. Читая Канта и соглашаясь во многом с интерпретацией его наследия Ясперсом, она все более и более осознает на фоне трагических событий истории необходимость суждения о случившемся в недавнем прошлом и настоящем в горизонте абсолютных смысловых ориентиров морали. Только в этой перспективе открывается реальное единство Vita Contemplativa и Vita Activa, способствующее противостоянию «банальности зла».
Тема универсальной значимости категорического императива становится стержневой в учении Арендт о способности суждения как важнейшем свойстве человеческой мысли в ее поздних трудах: «Именно благодаря этой идее человечества, присутствующей в каждом человеческом существе, люди человечны, и они могут быть названы цивилизованными или гуманными в той мере, в какой эта идея становится принципом не только их суждений, но и их действий» [16. P. 75]. Размышляя над кантовским категорическим императивом, Арендт приходит к выводу, что он должен служить основой единства и деятельного субъекта и наблюдателя, присутствующего в сообществе и судящего о таковом [16. P. 75]. При этом Арендт рассматривает существование субъекта в культурно-историческом и политическом измерениях как сопряженное с постоянным обогащением смыслового наполнения мира и действием в условиях борьбы с угрозой вечного вторжения «банального зла», угрожающего человеческому сообществу.
Выводы
Осмысление философского учения Канта во многом стимулировало создание герменевтического видения задач познания Арендт. Несмотря на то, что освоение ею наследия Канта шло под влиянием ее учителей, Хайдеггера и Ясперса, ей удалось создать оригинальную стратегию экзистенциальногерменевтического прочтения его идей, утверждающую неразрывное единство практического действия и мыслительной активности человеческого субъекта — Vita Activa и Vita Contemplativa. Создавая корпус собственных герменевтических представлений, Арендт отталкивается от итогов рассмотрения Хайдеггером кантовского понимания истоков человеческого творчества, позволившего ему сформулировать исходные положения метафизики конечности, рисующей картину «заброшенности» экзистенции в неумолимый поток времени. В то же время Арендт следует указанию Ясперса относительно необходимости последовательной экзистенциально-герменевтической интерпретации практического действия и способностей духа на основе наследия Канта.
Арендт последовательно выявляет взаимосвязь таких базовых векторов самореализации духа, как мышление, воля и способность суждения, с основными типами практической активности человека — трудом, работой и действием. В формате аналитики способностей духа она утверждает определяющую роль мышления, обладающего потенциалом для сплочения воедино процессов получения знания и смыслосозидания. Корректируя кантовский подход, Арендт подчеркивает первичность смыслосозидающей функции разума по отношению к способности рассудка порождать истинное знание на базе обобщения данных созерцания. Вслед за Кантом Арендт характеризует мышление как «вещь в себе» и говорит о его сопричастности вечности и времени в моменте настоящего, способности обобщать минувшее и проектировать будущее. Составляя ядро практического разума, мышление, которое Кант отождествил с волей, интерпретируется ею как открывающее в своей устремленности в будущее новый горизонт смыслопорождения. Обращаясь к минувшему при опоре на здравый смысл и воображение, способность суждения также оказывается порождением мышления. Арендт верно утверждает значимость кантовского категорического императива для обретения глобальной перспективы суждения о мире, разделяемом людьми в его диахронном и синхронном измерениях. Она приходит к справедливому заключению, что «паралич» способности суждения грозит не только искаженным видением истории, но и триумфом «банальности зла» в сфере политики.
1 Хотя влияния идей Канта на формирование герменевтической стратегии Арендт представляется требующим дальнейшего пристального изучения, следует отметить тот вклад в разработку этой проблемы, который содержится в работах Д. О. Аронсона, С. Баклера, Р. Байнера, Р. Бернстина, В.В. Бибихина, Д.Р. Виллы, Р. Досталь, М. Конован, Д. МакГована, Н.В. Мотрошиловой, Х. Йонаса, М. Пассерин д‘Антрева, М.Е. Соболевой, А.Ф. Филиппова, Ю. Хабермаса, М.А. Хевеши, А. Хеллер, М. Хейфеца, П. Хэйдена, М.В. Ямпольского и других отечественных и зарубежных авторов.
2 18 декабря 1951 г. Хайдеггер писал Арендт о том, что посылает ей новое издание этого труда, а позднее просил ее высказаться критически о его содержании [2. C. 125; 133].
3 Этот неоконченный труд Арендт, вышедший по-английски в двух томах под названием “The Life of the Mind”, появился под редакцией М. Маккарти в немецком переводе под заглавием “Vom Leben des Geistes” (1979). Представляется, что отождествление в немецком варианте слова “Geist” c английским словом “mind”, проводимое не только в заголовке, но и в тексте книги, вполне оправдано по семантическому наполнению. Поэтому в контексте этой статьи книга именуется «Жизнь духа».
Об авторах
Борис Львович Губман
Тверской государственный университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: gubman@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-7003-5522
доктор философских наук, профессор, зав. каф. философии и теории культуры
Российская Федерация, 170100, Тверь, ул. Желябова, д. 33Список литературы
- Arendt H. The Human Condition. Chicago : The University of Chicago Press, 1989.
- Aрендт Х., Хайдеггер М. Письма 1925-1975. И другие свидетельства. М. : Институт Гайдара, 2016.
- Arendt H., Jaspers K. Correspondence. 1926-1969. N.Y. : A Harvest Book, 1992.
- McGowan J. Hannah Arendt. An Introduction. Minneapolis, L. : University Minnesota, 1998.
- Buckler S. Hannah Arendt and Political Theory. Edinburg : Edinburgh University Press, 2011.
- Gubman B. I. Kant and H. Arendt’s Anthropology // Akten des IX Internationalen Kant-Kongreß. Bd. IV. Berlin : De Gruyter, 2001. P. 352-259.
- Arendt H. The Life of the Mind. One-Volume Edition. Vol. I. N.Y. : A Harvest Book, 1978.
- Кант И. Критика чистого разума // Собр. соч.: в 6 т. Т. 3. М. : Мысль, 1964. С. 69-774.
- Arendt H. The Life of the Mind. One-Volume Edition. Vol. II. N.Y. : A Harvest Book, 1978.
- Beiner R. Interpretative Essay // Arendt H. Lectures on Kant’s Political Philosophy. Chicago : The University of Chicago Press, 1992. P. 79-156.
- Белов В.Н. Введение в философию культуры. М. : Академический проект, 2008.
- Кант И. Критика способности суждения // Собр. соч.: в 6 т. Т. 5. М. : Мысль, 1965. С. 161-527.
- Соболева М.Е. Логика зла. Альтернативное введение в философию. Санкт-Петербург : Владимир Даль, 2019.
- Аронсон Д.О. Способность суждения и ее связь с политической ответственностью // Арендт Х. Ответственность и суждение. М. : Издательство Института Гайдара, 2013.
- Hayden P. Arendt and the Political Power of Judgement // Arendt H. Key Concepts. Hayden P., editor. L., N.Y. : Routledge, 2014. P. 167-184.
- Arendt H. Lectures on Kant’s Political Philosophy. Chicago : The University of Chicago Press, 1992.
Дополнительные файлы