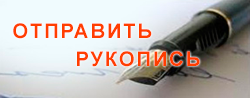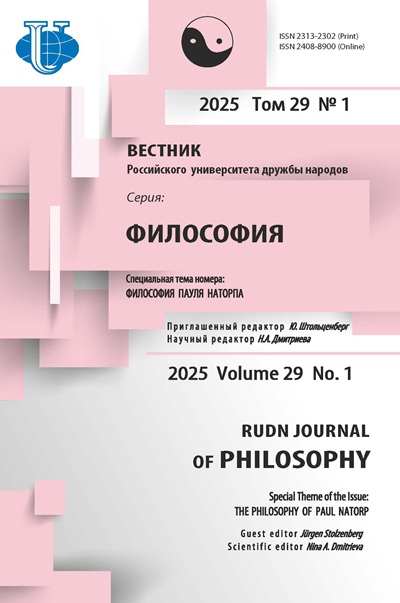Реформаторское возрождение фальсафской сотериологии
- Авторы: Ибрагим Т.1
-
Учреждения:
- Институт востоковедения РАН
- Выпуск: Том 27, № 2 (2023): МУСУЛЬМАНСКАЯ ФИЛОСОФИЯ: ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ
- Страницы: 216-232
- Раздел: МУСУЛЬМАНСКАЯ ФИЛОСОФИЯ: ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ
- URL: https://journals.rudn.ru/philosophy/article/view/34994
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-2302-2023-27-2-216-232
- EDN: https://elibrary.ru/GJEYYW
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В статье освещается один из важнейших аспектов модернизаторского потенциала фальсафы (эллинизирующей философии классического ислама), связанный со значимостью разработанной в ее рамках сотериологической концепции для начавшейся в XIX в. реконструкции теологического дискурса. На примере творчества Джамаляддина аль-Афгани (ум. 1897), Мухаммада Абдо (ум. 1905), Рашида Риды (ум. 1935) и других реформаторов показывается, как вдохновленные идеалами научной рациональности и социокультурного прогресса мыслители преодолевали эсхатологизм традиционной теологии, обращаясь к интеллектуалистски и презентистски ориентированным сотериологическим учениям мусульманских перипатетиков, прежде всего Ибн-Сины (Авиценны; ум. 1037) и Ибн-Рушда (Аверроэса; ум. 1198). Фактически отрицая нормативность хадисов (собственно пророческих преданий) как источника кредо-акыды, модернисты исключают из традиционного перечня общеобязательных догматов все основанные на хадисах принципы, включая предания о близости конца света и о предшествующих ему знамениях. Особое внимание в исследовании уделено реформаторской реабилитации фальсафских тезисов, прежде квалифицировавшихся в качестве гетеродоксальных: имматериальность души, невоскресимость земного тела, инаковость потусторонней телесности, интеллектуально-имагинативная природа посмертной жизни, всеобщность конечного спасения (апокатастасис).
Ключевые слова
Полный текст
Введение[1]
Разработанная в фальсафе версия философской теологии импонировала модернистам во многих отношениях. Прежде всего, это касается характерного для ее представителей (фаля̄сифа̣)[2] рационализма, интеллектуализма. С таковым сочеталась субстанциальная открытость на науку; да и сама фальсафа («философия») рассматривалась как «наука наук», объемлющая все тогдашние научные дисциплины, включая математику, физику и другие отрасли естествознания. Отсюда и ориентация ее видных представителей на гармонию религии и философии, веры и разума (науки).
Модернизаторов, работавших над созданием новой теологии («неокалама», аль-каля̄м аль-джадӣд), более толерантной к другим теологическим системам, конфессиям и религиям, фальсафская теология привлекала заложенным в ней универсалистско-плюралистическим фундаментом. К тому же сама по себе фальсафа служила ярким образцом конструктивного диалога религий и культур.
Что касается собственно эсхатологии, то прежде всего фальсафская сотериология оказалась востребованной для преодоления апокалиптического эсхатологизма, доминирующего в традиционной теологии. Как и в двух родственных монотеистических религиях (иудаизме и христианстве), в исламе утвердилась футуристская трактовка свидетельств Писания о конце света, всеобщем суде и последующем введении людей в Рай или Ад. Равным образом, в традиционной мусульманской историографии господствовал и тезис об общей продолжительности существования мира в одну неделю, «день» в которой равен тысяче лет (см., например, [2. С. 23—32]).
На основе коранических слов о «близости» [Судного] Часа/Дня (17: 51; 33: 63; 42: 17; 54: 1; 70: 7), а также ряда возводимых к пророку Мухаммаду преданий-хадисов[3], Часа ожидали еще при жизни Пророка или вскоре после его смерти. Вместе с тем, как сообщает другое предание, Пророк уповал на Божью отсрочку [Часа] для мусульманской общины-уммы на «полдня» (т.е. на 500 лет) [4. № 4350][4]; и соответственно этому свидетельству, особенно в первые века ислама, датировался Суд[5]. Согласно еще одной группе хадисов, воздвижение Пророка относится к седьмому тысячелетию, а по некоторым версиям, к концу шестого тысячелетия (о них см.: [2. С. 25—31]), что позволяло отодвигать дальше ожидаемое наступление Часа — к завершению последнего тысячелетия[6], которое приходится на конец XVI в. по григорианскому календарю.
Здесь следует отметить, что мусульманская традиция (главным образом на основе Сунны (свода хадисов) учит о множестве «знамений» (‘аля̄ма̄т, ’ашра̄т̣) приближения Суда, малых и великих; среди последних выделяются такие, как приход Даджжаля (Антихриста), второе пришествие Иисуса Христа и восход Солнца с запада. По подсчетам жившего ближе к концу тысячелетия от хиджры (ум. 911/1505) богослова Джаляляддина ас-Суйуты, автора знаменитого трактата «Разъяснение того, что эта умма переживет тысячелетие», грядущие события от прихода Даджжаля до Воскресения в общей сложности занимают более 200 лет, так что срок жизни уммы превысит тысячелетие — приблизительно на 400 лет (с учетом других знамений и при датировке миссии Пророка концом шестого тысячелетия), но никак не более 500 [2. С. 23, 43]. О дополнительной полутысяче лет иные теологи[7] учили со ссылкой на вышеупомянутый хадис касательно полудня, ведя счет отсрочки с конца тысячелетия.
Так конец первого тысячелетия мусульманской истории и особенно первые века последующего тысячелетия отмечаются широким распространением эсхатологических ожиданий. И в этом апокалиптизме (сочетающемся с фактически фаталистической трактовкой Божьего детерминизма-к̣адара) реформаторы усматривали фундаментальнейшую причину стагнации и деградации мусульманского мира. Как указывает главный основоположник мусульманского модернизма Джамаляддин аль-Афгани, новое религиозное движение призвано «с корнем выдергивать утвердившееся в умах широкой публики и большинства представителей [ученой] элиты некорректное понимание некоторых религиозных догматов (‘ак̣а̄’ид) и текстов. Это происходит, в частности, когда тексты касательно предопределения (аль-к̣ад̣а̄ ’ ва-ль-к̣адар) трактуются ими на манер, предписывающий не ратовать за достижение нечто достойного или избавление от унижения; когда некоторые благородные хадисы, указывающие на порочность последних времен (’ахир аз-зама̄н) или на близость наступления их конца истолковываются в смысле, отбивающем всякую охоту стремиться к лучшему...» [7. С. 102]. В близких словах отзывается по этому поводу ученик и соратник аль-Афгани — Мухаммад Абдо [8. С. 337]. Таково и мнение видного деятеля джадидского движения в России Ш. аль-Марджани (1818—1889) [9. С. 342—343].
Модернистам фальсафа представляла альтернативную версию традиционной каламской (ашаритско-матуридитской) теологии, которая в области эсхатологии преимущественно склонялась к буквалистской трактовке сакральных текстов и признанию аутентичности соответствующих свидетельств Сунны, включая хадисы о конце света и предваряющих ему знамениях. Учение о будущей жизни философы разрабатывали в форме презентистской, индивидуальной эсхатологии, точнее — сотериологии, свое внимание сосредотачиваясь на рациональном обосновании имматериальности человеческой души, ее нетленности и модусах ее судьбы после разлучения с телом (см.: [10. С. 193—228]).
Что касается типичных для мусульманской доктрины тем универсальной эсхатологии — о кончине мира, коллективном воскресении и всеобщем суде, то, по всей видимости, в фальсафскую систему трудно вписывается экзотерическая трактовка релевантных реалий. Вместе с тем философы обычно воздерживаются от открытых суждений по таким темам, что может объясняться не только нежеланием вступать в полемику с ортодоксальной доктриной, но и вообще характерной для фальсафы эпистемологической установкой, которая исходит из дуальности методов просвещения-воспитания, призванных водительствовать по пути к счастью широкой публикой и интеллектуальной элитой. В близком кантовскому практицизму духе эта установка полагает, что философу не подобает высказываться в отношении образной символики, в которую небесная религия облекает адресованную массе истину [10. С. 216—218][8].
Во времена же модернистов достаточно очевидной стала несостоятельность традиционного подхода к преданиям о сроке наступления конца света и его предзнамениях, что создавало более благоприятные условия для развития критического подхода к апокалиптическим преданиям, в подавляющем большинстве своем восходящим не к Корану, а к Сунне. И если в отношении коранических нарративов скепсис касался корректности их трактовки, то применительно к хадисам проблематичной оказалась и сама их аутентичность. В контексте этой тематики поднимались также два вопроса более общего характера: (1) о перечне догматов, входящих в обязательное для исповедания кредо-акыда; (2) об источниках акыды, т.е. собственно текстах, откуда берутся вероучительные положения, и методах их утверждения в качестве догматов[9].
В сторону презентизма
Развивая фальсафский презентизм, модернисты показывают несостоятельность хадисного фундамента апокалиптической концепции. В комментарии М. Абдо и Р. Риды к Корану[10] отмечается, что смысл «близости» Часа, о которой свидетельствует Писание (притом порой с уточнением типа ‘аса, ля‘алля, «возможно, вероятно»[11]) известен лишь Богу, и только Он, как многократно говорится в Писании, ведает о его сроке (напр., 7: 187 и 27: 65); более того, как подчеркивается в айате 7: 187, «для вас он (Час) настанет только внезапно (багтатан)» (لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً). В означенный срок Пророк не был посвящен, и поэтому все возводимые к нему хадисы на сей счет (включая собранные в вышеупомянутом трактате ас-Суюты) не могут быть аутентичными; в их основе скорее лежат заимствования из околобиблейской литературы (’исра̄’ӣлиййа̄т). Помимо уязвимости в плане собственно содержания (матн), указанные хадисы ненадежны также в аспекте их иснада (цепочки передатчиков) [11. С. 470—482].
Если в случае с преданиями о сроке жизни мира оспаривание аутентичности ссылкой на несостоятельность иснада не вызывает особой тревоги со стороны традиционалистов, ибо эти предания не вошли в шестикнижную Сунну (своего рода каноническую), то дело обстоит принципиально иначе в отношении хадисов о предзнамениях Часа. Хотя каноническая Сунна и не упоминает о некоторых знамениях, при всей широкой распространенности предания о них (например, о Махди-миссии), но в ней (притом даже в двух наиболее авторитетных сводах — у аль-Бухари и Муслима) говорится о десятках примет конца света (в частности, о Даджжале, Иисусе и восходе Солнца с запада).
Опровергая достоверность всех преданий такого рода, Р. Рида сначала отмечает, что такие хадисы идут вразрез с кораническим свидетельством о внезапном приходе Часа. К тому же вера в подобные приметы, при последовательном их развертывании и достаточной протяженности во времени, скорее приводит к эффекту, который прямо противоположен Божьему замыслу, заложенному в этой подчеркнутой Им внезапности, а именно с намерением дисциплинировать человека, который в любой момент может предстать перед Богом, чтобы отчитываться перед Ним! В этой связи спрашивается, какая может быть польза от предупреждения Пророком о приходе Даджжаля, если о его приходе, как гласят хадисы, предупреждали все прежние пророки, начиная с Ноя, но тот так и не появлялся?! [11. С. 488—489].
Далее, несостоятельность хадисов о предознамениях Рида демонстрирует на примерах с Махди и Даджжалом. В частности, здесь подробно показывается принципиальная несовместимость между собой как хадисов о разных приметах (в частности, касательно их последовательности), так и разных версий хадиса об одной и той же примете (например, касательно родословной Махди или времени появления Даджжаля — во времена Пророка либо после завоевания Константинополя) [11. С. 489—504][12]. В заключительном рассуждении о приметах теолог сообщает, что среди хадисов «Сахихов» (т.е. сводов аль-Бухари и Муслима) касательно смут [в последние времена] (фитан) его учитель М. Абдо достоверными полагал «лишь меньшее из малого» (’ак̣алль аль-к̣алӣль) [11. С. 506].
Касательно хадисов о Даджжале и Иисусе Р. Рида, вслед за М. Абдо, указывает, что даже если такие хадисы и окажутся аутентичными, то они вполне допускают трактовку не в прямом, буквальном их звучании, а в аллегорико-метафорическом. Даджжаль может символизировать мифическое, ложное и безобразное, а сражение его Иисусом — торжество духа той миссии, с каковой он явился, т.е. идеалов милосердия, любви и мира [11. С. 506; 14. С. 317]. Со ссылкой на видного теолога ат-Тафтазани (ум. 1390) М. Шальтут распространяет эту установку на все хадисы о предзнамениях Судного дня (см.: [16. С. 317; 17. С. 64—65]).
В своей критике апокалиптического нарратива модернисты идут дальше, заявляя, что даже в случае полагания аутентичности обсуждаемых хадисов, а с ней и исключительно буквалистской их трактовки, содержащиеся в таких хадисах положения не могут претендовать на статус общеобязательных для веры догматов, а посему некорректна широко распространенная практика включения таковых в версии акыды. Ведь вопреки порой встречающимся квалификациям все без исключения хадисы такого рода никак не принадлежат к типу мутава̄тир, а только ’ах̣а̄д[13] [17. С. 64—65][14]. Хадисы первого типа могут давать категоричное (к̣ат̣‘ӣ) знание-убеждение, остальные же (как это принято большинством богословов-мутакаллимов!) — лишь предположительное, вероятностное (з̣анн). Последние применимы в практическом (культо-правовом) богословии (фикхе), но не в теоретическом, доктринальном (каламе), ибо здесь требуется собственно достоверность (йак̣ы̄н) [14. С. 317; 17. С. 59—61].
Тезис об отсутствии мутаватира среди хадисов о приметах Судного дня модернисты фактически распространяют на все свидетельства Сунны касательно акыды, особенно сферы Невидимого-Гайба (мира Божества, ангелов и демонов, реалий будущей жизни и т.п.). В «Трактате о единобожии» М. Абдо, касаясь мутаватира из «обязательного по религии» (мин ад-дӣн би-д̣-д̣арӯра̣), говорит, что «таковое есть в Писании (Коране) и в немногих из [преданий] Сунны относительно практики (к̣алӣль мин ас-сунна̣ фӣ аль-‘амаль)»[15] [18. С. 250][16]. Именно в этом русле следует понимать высказывание Р. Риды о том, что все принципы (’арка̄н) веры (’има̄н) и культа (’исля̄м) указаны (мубаййан) в Коране и практической (‘амалиййа̣) Сунне [19. С. 699]. Подразумевая и третий традиционный институт утверждения догматики — консенсус, М. Шальтут делает такой общий вывод: «Единственным путем утверждения (субӯт) вероучительных положений (‘ак̣а̄’ид) служит Благородный Коран» [17. С. 57] (см. также [17. С. 30] — о Гайбе).
В отношении консенсуса, на основе которого многие внекоранические или околокоранические положения традиционно включались в акыду (так что непризнание их осуждалось как ересь), модернисты развивают установку, выдвинутую Ибн-Рушдом в трактате «О соотношении философии и религии». Обсуждая вопрос о границах аллегорической экзегетики (та’вӣль) священных текстов касательно реалий будущей жизни, философ указывает, что о единогласии [ученых мужей] определенной эпохи более или менее уверенно можно говорить в отношении практических вопросов (‘амалиййа̄т), но не теоретических (наз̣ариййа̄т) [20. C. 558—559]. С реформаторской точки зрения консенсус как самостоятельная инстанция, т.е. применительно к нерегулируемым текстами Закона темам, приложим исключительно к практической сфере; когда же речь идет о консенсусе относительно тезиса, выдвигаемого на основе того или иного текста, то его (консенсуса) достоверность определяется не самим единогласием авторитетных лиц, а исключительно статусом соответствующего текста в плане аутентичности и однозначности [17. С. 65—69], (см. также [7. С. 62; 21. С. 181, 208]).
Что касается собственно перечня общеобязательных догматов, то модернисты ограничивают его пятью положениями, о которых упоминает Коран в качестве принципов любой богоданной религии (2: 177; 4: 136) — вера в Бога, Его ангелов, Его писания, Его пророков и Последний день [17. С. 44][17]. Так из нормативной доктрины исключается, среди прочего, целое множество апокалиптических догматов (базирующихся на ненадежных, с реформаторской точки зрения, хадисах, порой сочетающихся с некорректными интерпретациями релевантных коранических свидетельств), что знаменует значительный шаг по пути деэсхатологизации традиционной теологии истории. Как увидим ниже, у модернистов «последний день» становится открытым и на эзотерическую интерпретацию, в духе презентизма. Буквалистская трактовка «последнего дня» ими не оспаривается, однако о конце света они обычно не упоминают, а если о нем и заводят речь, то исключительно на такой манер: «[Коран] запрещал препираться о Часе и спорить о преданиях касательно Воскресения (аль-к̣ыйа̄ма̣), о деталях фаз Иного творения (ан-наш’а̣ аль-’а̄хира̣) и вообще его модусах, но только признавать внезапность его (Часа) прихода и величие его ужасов» [22. С. 365][18].
Интеллектуалистское возвращение
Фальсафская сотериология, приобретшая свой классический вид в работах Ибн-Сины, скорее выглядела в качестве своего рода философского аналога доктрины о межмирии Барзах[19]; но в ней можно видеть и альтернативу универсальной эсхатологии. Склоняясь ко второй трактовке, модернисты порой представляют ее как эзотерическую версию для тех умов, которых не удовлетворяет буквалистский подход к традициональным свидетельствам о потустороннем мире.
Своего рода онтологической парадигмой в авиценновской теологии Ибн-Сины служит фундаментальная для ислама (и для монотеистической традиции вообще) идея о Боге как начале и конце, об исхождении вещей от Него и их возвращении к Нему. Цитируя айат 57: 3 («Воистину Он — первый и последний»;هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ) философ разъясняет, что [Бог] есть и первый, поскольку Он — делатель (фа̄‘иль), и последний, ибо Он — цель (га̄йа̣): поскольку самость Его служит целью для Него, а также поскольку Он выступает источником (мас̣дар) любой вещи, к каковому и возвращение (марджи‘) ее [24. С. 93]. В сходном контексте приводится также айат 53: 41 («Воистину, к Господу твоему — исход конечный; وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنتَهَى) [24. С. 93]. Соответственно этому в разделе по теологии основного авиценновского труда «Исцеление» книга о космогонии и эсхатологии озаглавлена так: «Исхождение (с̣удӯр) вещей от Первопромысла (ат-тадбӣр аль-’авваль) и их возвращение (ма‘а̄д) к Нему») [25. С. 433].
В этом ракурсе будущая жизнь знаменуется не только и не столько воздаянием за приобретенное-содеянное в жизни настоящей, сколько дальнейшим духовно-интеллектуальным подъемом по восходящей дуге Великого круга бытия. С фальсафской точки зрения, блаженство (са‘а̄да̣) человеческой души, ее конечное совершенство (кама̄ль) состоит в том, чтобы соединиться с горним обществом, созерцать исходящие от Бога и пронизывающие Вселенную идеальный порядок, предельное благо и абсолютную красоту, запечатлеваться образом всего бытия, на сей манер становясь интеллектным (‘ак̣лӣ, ма‘к̣ӯль) миром, параллельным ему [26. С. 502].
Для фальсафской психологии характерно учение о чисто духовной (не материальной/телесной) природе человеческой души (прежде всего ее высшей, разумной части). Примечательно, что именно под авиценновским влиянием такой взгляд на душу получил распространение (преимущественно среди суфиев, частично у мутакаллимов), тогда как прежде доминировало представление о душе как о тонком теле или акциденции тела, а некоторые просто отождествляли ее с самой жизнью. Более того, большинство теологов полагали, что душа уничтожится по кончине тела и возвратится к бытию лишь при наступлении всеобщего Суда. В этом отношении показательно, что в «Несостоятельности учений философов» (Таха̄фут аль-фаля̄сифа̣)[20] выступающий от имени мутакаллимов ашарит аль-Газали (ум. 1111) к несовместимым с правоверием положениям относит фальсафский тезис о бессмертии души, утверждая, что тело является условием существования души, «а когда данная связь разрывается, душа уходит в небытие. Впоследствии ее бытие может быть восстановлено исключительно Всеславным и Всевышнним Аллахом во время Воскрешения и Сбора, как о том сказано в Законе» [27. С. 251][21]. Как это ни парадоксально, рациональное обоснование нетленности души разрабатывалось именно в рамках фальсафы, ревнителями правоверия порой третируемой в качестве ереси, а не в рамках калама, претендовавшего на выражение «ортодоксальной» позиции в области догматики.
В разделе «Исцеления» по психологии подробно обосновывается имматериальность (нетелесность) души и ее нетленность, а в разделе по теологии — ее потустороннее духовно-интеллектуальное блаженство или страдание. Относительно же непросвещенных душ выдвигается учение об имагинативных (хайалиййа̣) реалиях (в качестве воздаяния на первоначальном этапе; о последующей перфекции см. нижеследующую рубрику «Оптимистическая интенция»): соединяясь с тонкой материей небесного мира, такие души оказываются способными вообразить те чувственные объекты, о которых учила религиозная традиция, в каковой они воспитывались, и подлинно испытывать соответствующие аффекты [10. С. 193—228; 25. С. 498—511; 26. С. 129—142, 148—156]. А в адресованном узкому кругу «Адхавийском трактате» (или, в другом наличном переводе, «Освещение») философ замечает, что чувственно-о́бразное изображение Рая и Ада в Законе (Коране и Сунне) рассчитано на ментальность широкой публики, наподобие встречающихся в нем антропоморфных описаний Бога [10. С. 210—211].
Автор «Исцеления» не останавливается на относящемся к универсальной эсхатологии вопросе о воскрешении тел. Различая здесь два источника знания о реалиях потусторонней жизни, он указывает, что в отношении будущей судьбы тела, его счастья или несчастья сведения можно получить только через религию/пророков; и релевантные реалии пространно и превосходно описаны в мусульманском Законе; воздаяние же для души таково, что оно и обосновывается разумом, и утверждается Законом [25. С. 498].
Вместе с тем авиценновское рассуждение о невозможности восстановления «уничтожившегося» (ма‘дӯм; т.е. ушедшего в небытие) [25. С. 55—56] служит словно скрытой полемикой с имеющей значительное хождение в традиционной теологии (особенно каламской) трактовкой телесного воскрешения как сотворения копии, идентичной прежнему земному телу. Высказывание же против второй традиционной трактовки воскрешения — как воссоединение рассеянных частиц прежнего тела (включая версию о нетленных «фундаментальных частицах», ’аджза̄’ ’ас̣лыййа̣) встречается только в вышеупомянутом «Адхавийском трактате». В частности, здесь выдвигается возражение, по которому воскрешенные тела не поддавались бы идентификации: мертвый превращается в прах, который далее претворяется в растения, а потом ассимилируется в организме другого человека (еще нагляднее — пример с людоедством); при трактовке воскресения как воссоединения частиц прежней плоти одни и те же частицы окажутся в нескольких телах одновременно! [10. С. 211—212]. В свою очередь, Ибн-Рушд приводит как традициональные, так и рациональные доводы в пользу тезиса о тамошней телесности как иной, отличной от здешней [28. С. 1038—1039].
Фальсафская концепция потусторонней жизни традиционно считалась гетеродоксальной. Нередко, вслед за вышеупомянутым сочинением аль-Газали [27. С. 256], в качестве ереси (куфр) квалифицировался атрибутиремый фальсафской теологии тезис об отрицании телесного воскрешения[22], а с ним и телесного воздаяния. Встав на защиту философов против таких нападок, Ш. аль-Марджани подчеркивает, что «в [фальсафской теологии] нет ничего такого, что шло бы вразрез со святым Законом или разрушало бы что-либо из Божьих установлений» [9. С. 333], (см. также: [29. С. 159]).
В опровержение конкретно указанного тезиса тот же аль-Марджани, как и другие реформаторы, ссылаются, среди прочего, на упомянутое выше высказывание Ибн-Сины о двух источниках сведений касательно потусторонней жизни [22. С. 232—233; 29. С. 122, 495; 30. С. 114]. Одновременно отмечается несостоятельность само́й традиционной теологической концепции телесного воскрешения, притом в обеих ее версиях. Во-первых, нет никаких однозначных свидетельств Корана или Сунны о будущем теле как об идентичном (‘айн) прежнему [12. С. 472; 30. С. 167; 31. С. 249]. Во-вторых, доказательным является тезис философов о невозможности восстановления уничтожившегося [29. С. 496—500; 31. С. 249; 32. С. 169]. В-третьих, учению о нетленных частицах тела, на основе которых оно будет восстановлено, противоречит ставший известным в наше время факт тотального обновления частей тела каждые несколько лет [12. С. 471, 473, 476; 33. С. 39], (см. также: [29. С. 501]). Развивая учение Ибн-Рушда об иной телесности в потустороннем мире[23], модернисты истолковывают эту телесность в духе авиценновской концепции об имагинативных реалиях [12. С. 472; 33. С. 38—39; 34. С. 527]. Но, полагаем, такой дискурс, идущий в русле эпистемологического дуализма фальсафы, скорее ориентирован на широкую публику.
В написанных с тех же эпистемологических позиций сочинениях М. Абдо «Глоссы»[24] и «Трактат о единобожии» говорится о необходимости верить в сказанное Законом о посмертных реалиях — воскрешении, блаженстве в Раю и страдании в Аду. Но если кто-нибудь, затрудняясь воспринять буквальное звучание вестей об этих реалиях, станет аллегорически истолковывать их, при вере в посмертную жизнь и тамошнее воздаяние за дела и убеждения, то такового никак нельзя обвинять в ереси, а подобает считать истинно верующим [20. С. 251; 35. С. 502].
Но в обращенном к более узкому кругу читателей трактате «[Мистические] инспирации» родоначальники модернизма воспроизводят сугубо фальсафско-суфийскую, духовно-интеллектуалистскую трактовку посмертной жизни [35. С. 20—21]. Еще более открытую приверженность фальсафскому подходу выражает автор «Нового калама» Ш. ан-Нумани (ум. 1914) [30. С. 284—290, 306—337][25]. В этой перспективе следует понимать мысль М. Икбала (ум. 1938) о том, что «Рай и Ад — состояния, а не местонахождения» [36. С. 121].
Оптимистическая интенция
При освещении модернизаторской рецепции универсалистко-плюралистических идей фальсафы (в первой статье настоящего цикла) был отмечен ряд положений реформаторского дискурса, в свете которых вечного спасения удостоятся: (1) следующие трем основоположениям (вере в Бога, вере в будущую жизнь и творению добра), вне зависимости от религиозно-конфессиональной принадлежности; (2) муджтахиды — «усердные» искатели истины; (3) те, до кого или не достигла Божья религии (в частности, ислам), или дошла до него в неприглядном и отталкивающем виде, или же тот не освоил ее аргументации [1. С. 63—66].
Модернисты развивают и другие установки характерного для фальсафы космолого-сотериологического оптимизма, вытекающего из учения о Боге как о всеблагом Первопринципе и о посмертном бытии как возвращении к Нему. Одновременно они разделяют фальсафскую трактовку Божьего предопределения-кадара, видя в ней альтернативу фатализму, с которым плотно переплетался критикуемый ими эсхатологизм.
Вера в предопределение выступает одним из основных принципов исламской догматики (наряду с верой в Бога, Его ангелов, пророков, писания, пророков и Судный день); а согласно доминирующему представлению, на Скрижали святохранимой (аль-Ляўх̣ аль-мах̣фӯз̣), задолго до сотворения неба, земли и людей, Бог начертал будущую судьбу всех тварей. Разработанная философами концепция предопределения зиждется на свойственном фальсафской метафизике каузальном детерминизме: предопределение, предначертанное на Скрижали, есть не что иное, как Богом установленный в мире причинно-следственный порядок (см.: [10. С. 130—142]). На схожий манер модернисты истолковывают кадар, в смысле «закономерностей» мира трактуя Божьи сунан (ед.ч. сунна̣), о неизменности которых неоднократно говорится в Коране (например — 3: 137; 33: 62; 35: 43) [8. С. 302—303; 17. С. 50; 21. С. 253; 37. С. 82—83; 38. С. 252].
С тех же каузально-детерминистских позиций Ибн-Сина и другие представители фальсафы объясняют наказание (‘ик̣а̄б) как эндогенную импликацию: оно налагается на душу за ее прегрешение, наподобие болезни, служащей карой телу за обжорство (cм.: [10. С. 133—134; 26. С. 399—400]). В том же духе рассуждают Р. Рида [12. С. 129—130; 39. С. 301, 394] и Ш. ан-Нумани [30. С. 284—287]. Как сказано у последнего, думать, будто наказание есть акт мести со стороны Бога, разгневавшегося из-за ослушания Его наставления, — это то же самое, что полагать страдание от болезни следствием пренебрежения рекомендациями врача.
Наказание в потусторонней жизни — не цель, а средство; оно призвано очистить душу, дабы она стала ближе к Богу и обрела подобающее блаженство. Согласно Ибн-Сине, наш мир есть лучший из возможных миров. В нем явно преобладает добро, а редко встречающееся здесь зло таково, что оно не является чем-то самостным, субстанциальным, а лишь акцидентальным, наличествуя в качестве необходимого конкомитанта субстанционального блага: если бы, например, огонь не был таковым, что при его соприкосновении с рубахой праведника он обязательно сожжет ее, то от огня не было бы общей пользы. Посему необходимо, чтобы возможное добро в таких вещах было добром лишь при допустимости появления подобного зла от него и вместе с ним; отказ от сотворения большого блага из-за опасения незначительного зла представляет собой «еще большее зло», нежели данное зло [25. С. 488—497][26].
Логическим завершением оптимистического взгляда на мироздание выступает мысль о вечном спасении, достижении высшего блаженства для подавляющего большинства людей[27](см.: [10. С. 223—228]). Вечной погибели заслуживают лишь упрямые отвергатели религиозных истин. Но и для таковых врата надежды остаются открытыми. С аллюзией на коранические свидетельства о милости Бога, всякую вещь охватывающей (7: 156; 40: 7), философ заповедует: «Не прислушивайся к тем, кто ограничивает спасение (наджа̄т) небольшим числом людей, отказывая в нем, притом навечно, людям невежества и греха, — лучше уповай на широкие просторы Божьей милости[28]!» (см.: [10. С. 228]).
Апокатастатическая концепция, впоследствии поддержанная не только крупнейшим теоретиком суфизма — Ибн-Араби (ум. 1240)[29], но и видными ханбалитами Ибн-Таймиййей (ум. 1328) и его учеником Ибн-аль-Каййимом (ум. 1350)[30], стала своего рода визитной карточкой модернистского дискурса. Следуя разработанной Ибн-Араби версии, Дж. аль-Афгани и М. Абдо учат о дуновении Божьей милости, превращающем тамошнее страдание в блаженство [35. С. 21][31]. Р. Рида [12. С. 71—99] одобрительно воспроизводит аргументацию Ибн-аль-Каййима в обоснование конечности Ада; на последнего ссылается и М. Шальтут [17. С. 43—44]). Как бы выражая общую для модернистов установку, М. Икбал заявляет: «В исламе нет вечного проклятия» [36. С. 122][32].
1 Настоящая публикация составляет четвертую, заключительную часть цикла о модернизаторском потенциале фальсафы, в который входит уже изданная статья «Фальсафские основы модернизаторской теологии диалога» [1], а также находящиеся в печати статьи «О модернистской рецепции фальсафской трактовки творения» (в № 1 жур. Minbar. Islamic Studies) и «Фальсафская профетология в модернистском дискурсе» (в № 2 жур. Ислам в современном мире).
2 Араб. термином фальсафа̣ обозначается и философия вообще; ниже ее представители будут фигурировать как «философы». При транскрипции арабских слов здесь применяется традиционная система диакритических знаков, но с такими модификациями: алиф максура (ى) — а̄, я̄; та марбута (ة) — а̣, я̣ (если не мудаф; вместе с предшествующей огласовкой фатха) или т (в остальных случаях).
Если не оговорено иное, Коран, Сунна и другие первоисточники цитируются в нашем переводе. При ссылке на Коран указывается номер суры-главы и (через двоеточие) номер айата-стиха; на шестикнижную Сунну — номер хадиса в цитируемом источнике.
3 Например, «Я был явлен [посланником одновременно] с Часом, как эти два (пальца — средний и указательный)» (بُعِثْتُ والسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ) [3. № 4963].
4 Араб.: (إِنِّي لَأَرْجُو أَلَّا تَعْجَزَ أُمَّتِي عِنْدَ رَبِّهَا أَنْ يُؤَخِّرَهُمْ نِصْفَ يَوْمٍ).
5 К этому мнению склонялся, в частности, ат-Табари (ум. 923); см.: [5. С. 16—17].
6 Согласно мусульманскому (лунному) календарю; здесь началом летоисчисления служит год хиджры — переселения Пророка из Мекки в Медину (622 г.).
7 Например, Али аль-Кари (ум. 1014/1606); см.: [6. К № 5514].
8 Подробнее об этом речь идет в статье, посвященной профетизму (см. примечание 1).
9 В области религиозной практики такими источниками традиционно считались Коран, Сунна, консенсус (иджма̄‘) и аналогия (к̣ыйа̄с); в сфере же догматики — только первые три.
10 До айата 4: 125 — толкования Абдо (в изложении Риды и с дополнениями от него); далее (до айата 12: 101) — толкования Риды.
11 Например, 17: 51 (عَسَى أَن يَكُونَ قَرِيبًا) и 42: 17 (لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ).
12 Критический разбор хадисов о восходе Солнца с Запада Р. Рида приводит в ходе комментария к айату 6: 158 [12. С. 207—213]; о втором пришествии Иисуса — на страницах того же журнала «аль-Манар», но в рамках ответа на вопрос одного читателя [13]; скепсис самого Абдо в отношении хадисов об этом пришествии — в его комментариях к айату [14. С. 317—318]; подробнее об этом высказывается видный его последователь Махмуд Шальтут (1893—1963; ректор аль-Азхара в 1958—1963 гг.) [15. С. 59—82].
13 Как мутава̄тир (многочисленно переданный) — это хадис, который во всех звеньях цепи передатчиков передан достаточно большим количеством людей, каковые не могут между собой сговориться во лжи; в противном случае хадис характеризуется как ’ах̣а̄д (одиночный).
14 В пользу их характеристики как «единичных» здесь приводится свидетельство вышеупомянутого ат-Тафтазани (см.: [16. С. 312]).
15 Текст цитируемого перевода существенно отредактирован нами — Т.И.
16 В этом русле следует понимать высказывание Р. Риды о том, что все принципы (’арка̄н) веры (’има̄н) и культа (’исля̄м) разъяснены в Коране и практической (‘амалиййа̣) Сунне [19. С. 699].
17 Как было сказано в первой статье данного цикла [1. С. 61—62], у родоначальников модернизма (вслед за философами) эти принципы часто сводятся к трем — первому, четвертому и пятому.
18 Перевод воспроизведен в нашей редакции. В оригинале далее цитируются айаты 7: 187; 22: 1; 40: 59; 42: 18. Обозначение «иное творение» фигурирует в айате 29: 20.
19 «Промежуток» между посюсторонним миром (ад-дунйа̣) и потусторонним (аль-’а̄хира̣). К барзахским реалиям относится своего рода суд над усопшим (могильный допрос-испытание) и последующее воздаяние ему (его телу и/или душе); см.: [23. С. 163—165].
20 В цитируемом нами переводе — «Крушение философов».
21 Под сказанным в Законе скорее подразумеваются коранические стихи, такие как: «Все тленно, кроме лика Его» (28: 88; كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ); «Всякая душа вкусит смерть» (29: 57; كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ).
22 Помимо «еретических» тезисов об извечности мира и о Божьем неведении партикулярий.
23 У самого Ибн-Рушда нет уточнений о природе этой телесности.
24 Как считают исследователи, опубликованные за авторством М. Абдо «Глоссы» и «Трактат о [мистических] инспирациях» [35] суть переработанные записи рассуждений учителя — Дж. аль-Афгани, который и обозначается как их автор или соавтор.
25 Здесь отмечается актуальность (для реконструкции как эсхатологии, так и профетологии) авиценновского учения об имагинативных реалиях, получившего фундаментальное развитие в концепции ас-Сухраварди (ум. 1191) о мире «висячих эйдосов» (мусуль му‘алляк̣а̣) — своего рода четвертом измерении бытия; к его реалиям относится Рай и Ад, а также ангелы, джинны и демоны; с ним связываются пророческие ви́дения и такие явления, как Небошествие (ми‘ра̄дж) пророка Мухаммада.
26 О рецепции тезиса касательно лучшего из возможных миров см., например: [31. С. 208; 38. С. 246; 40. С. 96]; касательно акцидентальности зла — [22. С. 203—204; 30. С. 221].
27 Ибн-Сина говорит о возможности посмертного интеллектуального совершенствования, в том числе для несведущих, но добродетельных душ. Подразумевая, надо полагать, именно эту перфекцию, в обоснование бессмертия души М. Абдо приводит следующий аргумент: таковая способна принимать бесконечное множество знаний, блаженств и совершенств, а посему ее жизнь не может ограничиться считанными днями или годами [18. С. 121—122].
28 Аллюзия на айаты 7: 156; 40: 7.
29 По версии теософа, Ад вечен, но мучения в нем прекратятся, для его обитателей обратившись в наслаждения.
30 О подробном изложении их аргументов см.: [41. С. 96—139].
31 В беседе с английским писателем В. Блентом М. Абдо говорил, что он не верит в вечное наказание [42. Р. 66].
32 В российском исламе ярким сторонником апокатастасиса был М. Бигиев (1874—1949).
Об авторах
Тауфик Ибрагим
Институт востоковедения РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: nataufik@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-1995-2760
доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник
Российская Федерация, 107031, Москва, ул. Рождественка, д. 12Список литературы
- Ибрагим Т., Ефремова Н.В. Фальсафские основы модернизаторской теологии диалога // Ориенталистика. 2022. Т. 5. № 1. С. 57-78. https://doi.org/10.31696/2618-7043-2022-5-1-057-078
- ас-Суйуты. Аль-Кашф ‘ан муджа̄вазат ха̄зихи аль-’умма̣ аль-’альф. Эль-Кувейт : Да̄р ад-Да‘ва̣, 1987.
- С̣ах̣ӣх̣ аль-Буха̄рӣ. Дамаск-Бейрут : Да̄р Ибн-Касӣр, 2002.
- Сунан ’Абӣ-Да̄ӯд. Эр-Рияд : Мактабат аль-Ма‘а̄риф, 2007.
- Та̄рӣх ат̣-Т̣абарӣ. Т. 1. Каир : Да̄р аль-Ма‘а̄риф, 1968.
- аль-Кари. Мирк̣а̄т аль-мафа̄тӣх̣. Т. 10. Бейрут : Да̄р аль-Кутуб аль-‘ильмиййа̣, 2001.
- аль-Магрби А. Джама̄ляддӣн аль-’Афга̄нӣ: зукрайа̄т ва-’ах̣а̄дӣс. Каир : Да̄р аль-Ма‘а̄риф, 1987.
- Абдо М. Ар-Радд ‘аля Фарах̣ ’Ант̣ӯн // Аль-’А‘ма̄ль аль-ка̄миля̣. Т. 3. Бейрут-Каир : Да̄р аш-Шурӯк̣, 1993. С. 257-368.
- аль-Марджани Ш. Кита̄б Вафиййат аль-’асля̄ф ва-тах̣иййат аль-’ахля̄ф: мук̣аддима̣. Казань : Тип. Г.М. Вячеслава, 1883.
- Ибрагим Т.К., Ефремова Н.В. Мусульманская религиозная философия: фальсафа. Казань : Изд-во Казанского ун-та, 2014.
- Абдо М., Рида Р. Тафсӣр аль-Кура’а̄н аль-х̣акӣм. Т. 9. Каир : Да̄р аль-Мана̄р, 1947.
- Абдо М., Рида Р. Тафсӣр аль-Кура’а̄н аль-х̣акӣм. Т. 8. Каир : Да̄р аль-Мана̄р, 1947.
- Рида Р. Фата̄ва̄ аль-Мана̄р. Аль-Мана̄р. 1928. Т. 28. № 10. С. 747-757.
- Абдо М., Рида Р. Тафсӣр аль-Кура’а̄н аль-х̣акӣм. Т. 3. Каир : Да̄р аль-Мана̄р, 1947.
- Шальтут М. Аль-Фата̄ва. Каир : Да̄р аш-Шурӯк̣, 2001.
- ат-Тафтазани. Шарх̣ аль-Мак̣а̄с̣ыд. Т. 5. Бейрут : ‘А̄лям аль-кутуб, 1998.
- Шальтут М. Аль-’Исля̄м: ‘ак̣ы̄да̣ ва-шарӣ‘а̣. Бейрут: Да̄р аш-Шурӯк̣; 1992.
- Абдо М. Трактат о единобожии. М. : Медина, 2021.
- Рида Р. Ан-Насх ва-’ахба̄р аль-’ах̣а̄д. Аль-Мана̄р. 1909. Т. 12. № 9. С. 693-699.
- Ибн-Рушд. О соотношении философии и религии // Мусульманская философия (фальсафа): антология. Казань : изд. ДУМ РТ, 2009. С. 547-581.
- Абдо М., Рида Р. Тафсӣр аль-Кура’а̄н аль-х̣акӣм. Т. 5. Каир : Да̄р аль-Мана̄р, 1947.
- аль-Марджани Ш. Зрелая мудрость в разъяснении догматов ан-Насафи. Казань : Татар. кн. изд-во, 2008.
- Ибрагим Т.К. Религиозная философия ислама: Калам. Казань : Каз. ун-т, 2013.
- Ибн-Сина. Ат-Та‘лӣк̣а̄т. Кум : Марказ-и интиша̄ра̄т-и дафтар-и таблӣга̄т-и ’исля̄мӣ, 2000.
- Ибн-Сина. Исцеление: теология. Т. 1. M. : ИВ РАН, 2022.
- Ибн-Сина. Исцеление: теология. Т. 2. M. : ИВ РАН, 2022.
- аль-Газали. Крушение позиций философов. М. : Ансар, 2007.
- Ибн-Рушд. О методах обоснования принципов вероучения. Часть пятая. Minbar. Islamic Studies. 2019. Т. 12. № 4. С. 1003-1049. https://doi.org/10.31162/2618-9569-2019-12-4-1003-1049
- аль-Афгани Дж., Абдо М. Ат-Та‘лӣк̣а̄т ‘аля̄ Шарх̣ ад-Давва̄нӣ ли-ль-‘Ак̣а̄’ид аль-‘ад̣удиййа̣. Каир : Мактаба аш-Шурӯк̣ ад-дувалиййа̣, 2002.
- ан-Нумани Ш. ‘Ильм аль-каля̄м аль-джадӣд. Каир : аль-Марказ аль-к̣аўмӣ ли-тарджама̣, 2012.
- аль-Марджани Ш. На полях книги: Х̣ашийат… аль-Каланбавӣ ‘аля̄ аль-Джаля̄ль. Т. 2. Стамбул : Да̄р ат̣-т̣иба̄‘а̣ аль-‘а̄мира̣, 1900.
- аль-Марджани Ш. На полях книги: Х̣ашийат… аль-Каланбавӣ ‘аля̄ аль-Джаля̄ль. Т. 1. Стамбул : Да̄р ат̣-т̣иба̄‘а̣ аль-‘а̄мира̣, 1900.
- Абдо М., Рида Р. Тафсӣр аль-Кура’а̄н аль-х̣акӣм. Т. 2. Каир : Да̄р аль-Мана̄р, 1947.
- Абдо М. Фальсафат Ибн-Рушд // аль-’А‘ма̄ль аль-ка̄миля̣. Т. 3. Бейрут-Каир : Да̄р аш-Шурӯк̣, 1993. С. 515-529.
- Абдо М. Риса̄ля аль-Ва̄рида̄т. Каир : Мат̣ба‘а аль-Мана̄р, 1925.
- Икбал М. Реконструкция религиозной мысли в исламе. М. : Вост. лит., 2002.
- аль-Афгани Дж. Аль-К̣ад̣а’ ва-ль-к̣адар // аль-Афгани Дж. Аль-’А̄са̄р аль-ка̄миля̣. Т. 2. Кум : Марказ аль-бух̣ӯс аль-’исля̄миййа̣, 2000. С. 79-88.
- Рида Р. Аль-Вах̣й аль-мух̣аммадӣ. Бейрут : Му’ассаса ‘Иззаддӣн, 1406.
- Абдо М., Рида Р. Тафсӣр аль-Кура’а̄н аль-х̣акӣм. Т. 11. Каир : Да̄р аль-Мана̄р, 1947.
- Ха̄т̣ыра̄т аль-’Афга̄нӣ. Каир : Мактабат аш-Шурӯк̣, 2002.
- Ибрагим Т.К. Коранический гуманизм. М. : Медина, 2015.
- Blunt W.S. My diaries. T. 2. N.Y. : A.A. Knopf, 1922.