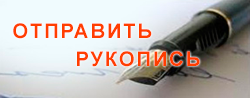Достоевский - Страхов - Толстой: к истории одного конфликта
- Авторы: Климова С.М.1
-
Учреждения:
- Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
- Выпуск: Том 25, № 1 (2021): ДОСТОЕВСКИЙ КАК МЫСЛИТЕЛЬ: К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
- Страницы: 72-88
- Раздел: ДОСТОЕВСКИЙ КАК МЫСЛИТЕЛЬ: К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
- URL: https://journals.rudn.ru/philosophy/article/view/25913
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-2302-2021-25-1-72-88
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Известный эпистолярно-экзистенциальный конфликт между Федором Достоевским и Николаем Страховым по поводу клеветы последнего об «ужасных грехах» великого русского писателя рассмотрен в статье с точки зрения философской антропологии, а также взаимоотношений не между двумя, а между тремя участниками этой истории: Достоевским, Страховым и Толстым. Данный конфликт рассмотрен сквозь антропологическую, экзистенциальную и сословную призмы описания, опирающиеся на реконструкцию страховского представления о человеке как о противоречивом, двойственном и неопределенном существе, отраженного затем в творчестве Достоевского. Обосновывается непосредственная связь между определением двойственной природы человека в работах Страхова и Достоевского и межличностными коллизиями внутри «пограничных форм литературы». Особое внимание уделено сословию семинаристов, объекту прицельной критики Достоевского, увидевшего их худшие характеристики в личности Страхова. Толстой в этом споре играет роль третейского судьи, оценивающего ситуацию, как с точки зрения литературной, так и с точки зрения экзистенциальной, и религиозной мысли. В ходе рассмотрения им данного конфликта, была обнаружена его неожиданная близость Достоевскому в оценке Страхова. Точкой их совпадения оказалось «розовое христианство» писателей, довольно схоже оправдывающих человека с точки зрения субъективного религиозного сознания.
Ключевые слова
Полный текст
Введение
«Чувство ужасной пустоты, бесценный Лев Николаевич, не оставляет меня с той минуты, когда я узнал о смерти Достоевского[1]. Как будто провалилось пол-Петербурга, или вымерло пол литературы. Хоть мы не ладили все последнее время, но тут я почувствовал, какое значение он для меня имел: мне хотелось быть перед ним и умным и хорошим, и то глубокое уважение, которое мы друг к другу чувствовали, несмотря на глупые размолвки, было для меня, как я вижу, бесконечно дорого. Ах, как грустно! Не хочется ничего делать, и могила, в которую придется лечь, кажется вдруг близко подступила и ждет. Все суета, все суета!» [1. С. 591]. Так искренне, с болью в сердце 3 февраля 1881 г. написал Н.Н. Страхов в письме своему давнему другу и многолетнему корреспонденту — Л.Н. Толстому — о потере близкого человека, с которым, хотя и имел «глупые размолвки», но был уважительно связан в течении почти сорока лет их тесного знакомства.
А спустя два года, 28 ноября 1883 г., он неожиданно признается все тому же корреспонденту, уже совсем в иных тональностях о других чувствах к своему покойному другу: «Я не могу считать Достоевского ни хорошим, ни счастливым человеком (что, в сущности, совпадает). Он был зол, завистлив, развратен, и он всю жизнь провел в таких волнениях, которые делали его жалким и делали бы смешным, если бы он не был при этом так зол и так умен…. Его тянуло к пакостям, и он хвалился ими…. Лица, наиболее на него похожие, — это герой „Записок из подполья“, Свидригайлов в „Преступлении и наказании“ и Ставрогин в „Бесах“. Одну сцену из Ставрогина (о растлении и пр.) Катков не хотел печатать, а Достоевский здесь ее читал многим. При такой натуре он был очень расположен к сладкой сантиментальности, к высоким и гуманным мечтаниям, и эти мечтания — его направление, его литературная муза и дорога. В сущности, впрочем, все его романы составляют самооправдание, доказывают, что в человеке могут ужиться с благородством всякие мерзости…» [1. С. 652].
Это письмо получило заслуженную нелицеприятную оценку в современном литературоведении. В.А. Туниманов справедливо назвал его «одним из самых больных и тягостных литературных документов XIX века» [2. С. 56]. В год, когда мы отмечаем значимую для всего мира дату — двухсотлетний юбилей со дня рождения Ф.М. Достоевского, имеет смысл еще раз взглянуть на этот печально-знаменитый «заочный» конфликт Н.Н. Страхова с Ф.М. Достоевским внутри «пограничных видов литературы» (Л.Я. Гинзбург) не с точки зрения историко-филологических и психологических, а также этических перипетий, связанных с ним, но с философско-антропологической и экзистенциальной позиции, попробовав осветить вопрос о том, а как, на самом деле, уживаются в человеке вместе «с благородством всякие мерзости»; иными словами, что такое человек и где проходит грань между допустимым и недопустимым в обсуждении его природы и сущности?
Конфликт Страхова и Достоевского невозможно представить полно, если не включить в него фигуру Л.Н. Толстого. Необходимо понять, почему именно ему Страхов раскрывает потаенные уголки не только своей, но и чужой — души Достоевского. Для этого необходимо сделать несколько предварительных оговорок.
Несмотря на то, что конфликт носит, скорее всего, психологический межличностный характер, его центральной проблемой являются вовсе не субъективные характеристики, степень гениальности или бездарности, порядочность или непорядочность и иные характеристики наших героев. Теоретической основой конфликта стала проблема человека, поиск ответа на вопрос: что он такое и каким он бывает в разные минуты своей жизни. Именно в этой точке находится внутренний центр напряжения внешней истории о сплетнях, пакостях, интригах между двумя близкими и, одновременно, чрезвычайно далекими друг другу, людьми. «Обобщающее слово» цельного Толстого, прежде всего, о сущности человека, о смысле его жизни, о Достоевском и о Страхове, становится важнейшим суждением — судом в понимании специфики данной полемики.
«Человек есть самое неопределенное из всех существ»
Целесообразно напомнить, что отношения между Достоевским и Страховым были неровными, постоянно менялись на протяжении всей жизни и стали весьма напряженными (глухо-враждебными) в итоге. Вначале же их творческого пути они обнаружили теоретическую и человеческую близость друг к другу, а затем, отдалились, прежде всего психологически, хотя их «почвенническая закваска» осталась в обоих навсегда.
Они сблизилась в начале 60-х гг. XIX в. и, наряду с М.М. Достоевским и А.А. Григорьевым, стали «знаменитой четверкой» основателей нового общественного течения и одновременно литературного направления — почвенничества. Страхов сотрудничал в журналах братьев Достоевских — «Времени» и «Эпохе». В начале 70-х гг. они заметно охладели друг к другу (многие связывают этот факт с увлечением Страхова личностью и творчеством Толстого), а в последние пять лет до смерти писателя, почти уже и не встречались из-за «глупых размолвок». Однако никогда не было между ними всем явленного разрыва или публичной оппозиционности. Один только факт о том, что именно Страхов был вызван запиской А.Н. Майкова в дом к Достоевским в первые же минуты после его кончины и стал, по просьбе Анны Григорьевны Достоевской, первым литературным биографом писателя, говорит сам за себя.
За этой внешней канвой дружеских контактов стоят и более важные теоретические пружины, связывающие их. Как утверждают некоторые исследователи [3. С. 302], в первые годы творческого и дружеского общения Страхов был «философским информатором» Достоевского, которого можно было даже назвать его «идеальным читателем» [4. С. 617]. Признание писателя, воспроизведенное в «Воспоминаниях» о Достоевском самим Страховым о том, «что половина моих идей — Ваши», находит свое подтверждение в пересечении тем и проблематики обоих [см.: 5—8]. 1861—1863 гг. были периодом их наиболее интенсивного сотрудничества; в центре оказалась проблема человека и почвы; обсуждается двойственная (больше амбивалентная, чем диалектическая) природа человека; идея «высшего человека» (сверхчеловека — или будущего человекобога), размышления о «жителях других планет», идеи «геологического переворота», «вечного возвращения» и т.д., то есть тот круг тем, которые появились и в статьях Страхова, и в художественных произведениях Достоевского.
Достоевский, которого, прежде всего, волновал разговор о природе, сущности и назначении человека, внимательно изучает страховские «Письма о жизни» (1861), в которых философ размышляет о человеке как самом «неопределенном» из всех существ, в котором есть «все в возможности». Эти тезисы чрезвычайно важны для формирования его концепции подпольной личности, образ которой вскоре (1864 г.) появится в «Записках из подполья».
Страхов этого периода — гегельянец с «почвеннической душой», признающий за диалектикой самый продуктивный метод познания, а за «духом» — наиболее универсальную форму рационального самосовершенствования. Однако это не мешает ему представлять синтез противоположных черт личности не диалектически, но сохраняя напряжение его изначальной двойственности в «неснятом виде». Он практически никогда не использовал понятие противоречия или борьбы противоположностей (см. [9. С. 22]) в своем диалектическом методе, с целью преодоления «антропологических противоположностей». «Страхов применяет гегелевский диалектический метод по отношению к психологии, чтобы объяснить процесс роста и познания, интегрирующий в себе противоположно направленные внутренние импульсы одной и той же личности. Выражением этой диалектики является целая серия противоположных движений, рождающихся в душе человека из подполья: желание дружбы перемежается с желанием иметь свободу от друзей, любовь к Лизе замещается ненавистью к ней» [4. С. 310]. Свои поиски возможного преодоления двойственной природы он переносит в область рационального целеполагания, которое человек, с его точки зрения, должен иметь в форме той деятельности, которую он ведет. Отдавая дань времени, под целью-деятельностью он подразумевает, прежде всего, стремление к совершенствованию и саморазвитию — вполне просветительские и рациональные характеристики.
И здесь мы находим ядро не только для схождения, но и будущего расхождения между ним, и не только Достоевским, но и Толстым. То, что Страхов обозначил абстрактно как цель-смысл жизни человека, связав ее исключительно с духовным саморазвитием, у Достоевского постепенно приобрело христианские очертания. Он, как известно, был ярым критиком идеалов Просвещения, и практически все его «совершенные» — развитые умственные герои в итоге оказываются несчастными, подпольными и бесцельными и бездеятельными диалектиками-антиномистами. Целью жизнью для них всегда была, хотя и по-разному понятая, абстрактная свобода нигилистического толка. Это было «экзистенциальное освобождение» от мира, от других людей, от Бога, от самих себя, наконец. Его герои так боятся как потенциального рабства малейшего подчинения/служения высшему идеалу, что готовы отказаться от любой жизненной ценности, будь то Бог, семья, отечество, мир, лишь бы сохранить свое право беспрепятственно «попить чаю» или безответственно любить абстрактных «ближних» — человека и человечество.
В то же время Достоевский показывает динамику перехода от крайностей бесцельной жизни как суррогата квази-свободы к идее ложно-понятой цели, которая делает человека реальным рабом — жертвой собственного рационального догматизма и бездушия — при внешней видимости и иллюзии свободы воли и свободы поступков. Этот феномен он обозначил нарицательным словом «шигалевщина» («Бесы»), сконцентрировав в идеологии героя весь ужас возможных последствий для человечества от такой политической деятельности революционеров-нигилистов. Здесь христианский голос протеста Достоевского звучит очень уверенно, и он уходит гораздо дальше своего философствующего друга, остановившегося на абстрактной идее противоречивой природы личности и провозгласившего умственную деятельность единственным способом преодоления в себе любой раздвоенности и амбивалентности. Если Страхов по-гегелевски верит, что «все разумное действительно», а значит и этически заряжено, то Достоевский, подведя разум к высшей точке отрицания — атеизму, социализму, аморализму — показывает чудовищную силу этого детонатора разрушения этой «действительности».
Страхов 60-х гг. гораздо ближе по своим просветительским идеям Толстому, которых также в этот период верит в совершенствование как в главный способ преодоления собственной раздвоенности и противоречивости, о чем и пишет неоднократно в своих ранних дневниках и первых романах, а позднее признается в «Исповеди». Он, подобно своему другу-философу, воспитан на идеалах Просвещения, и вера в разум, его высший «свет», несмотря на переход в конце 70-х — начале 80-х гг. на позиции нового религиозного сознания, никогда не покидала его. Поэтому не удивительно, что уже в 1872 г., читая книгу Страхова «Мир как целое», он весьма критически отнесется к его главному тезису — о совершенствовании человека. «Для сознания человека, т.е. для мысли человека, устремленной на самого себя, может быть совершенство только относительное, но не абсолютное… Совершенство зоологическое, на кот[ором] вы настаиваете, даже умственное, [которое] вытек[ает] из зоологического, — есть совершенство только относительное, вытекающее из того, что человек сам на себя смотрит. Муха такой же центр и апогей всего создания. Но есть совершенство нравственное, религиозное — (буддизм, христианство), которое ничем не доказывается, кот[орое] несомненно и которое] даже не может быть сравниваемо ни с чем, почему и не может быть называемо совершенством (понятие совершенства вытекает из понятия степеней). Короче, это понятие добра. … Оно есть у человека, оно сущность всей жизни, и потому его не может быть ни больше, ни меньше» [10. С. 87].
Итак, Страхов ставит проблему о сущности человека, описав ее через идею двойственности, неопределенности, цели-деятельности и идеалистического самосовершенствования, а Толстой и Достоевский, с двух противоположных сторон, пытаются понять, что происходит с человеком-разумным, которым или овладевает ложная цель — головная идея, которая ведет к утверждению своей мощи (человекобожество) через борьбу с Богом и с миром (ярчайший пример — Кириллов и Ставрогин из «Бесов») — подход Достоевского; или, как у Толстого, появляется истинная идея о единстве и неразрывности цели (смысла) и самой жизни — как ее предмета, понятая как деятельное — практическое служение Богу.
Цель жизни не может быть умственной, идеологической или социальной. Достоевский и Толстой в своих поисках пришли в итоге к Христу как единственному гаранту человеческой целостности и спасения. При этом Христа и христианство они представляли очень по-разному.
Страхов же, осуществив саму постановку проблемы о человеке, который «есть все в возможности» и о «содержании человеческой жизни», о готовности человека не только к самоудовлетворению, но и саморазрушению, не показал, как разрешить эти коллизии; причина была и в том, что Страхов, при всем желании, не находил этого центра ни в самом себе, ни во внешнем мире, ни в Христе.
«Происхождение никуда не денешь»
Гораздо сложнее оказались переплетены нити личных отношений, связывающие Достоевского и Страхова; нам тяжело и неловко судить об их разногласиях спустя столетие; но так случилось, что история идей именно личные отношения сделала объектом научного анализа для гуманитариев. Попробуем также разобраться в этом с учетом вышевысказанных представлений о человеке.
Изначальная тесная дружба Достоевского со Страховым стала основой для проявления чувства ревности и обиды, которые в итоге стал испытывать писатель к своему другу и соратнику в один из самых тяжелых, и материально, и психологически, периодов своей жизни за границей в 1867—1871 гг. Это явно чувствуется в его письме к Страхову от 26 февраля 1869 г.
Достоевский обозначил в нем много разных тем-сюжетов; одна из них была связана со спецификой русского философствования. Писатель рассуждал о русской литературе, немыслимой вне парной конфигурации ее представителей: писатель — литературный критик; он прекрасно осознавал философски-значимую роль «штатного критика» при любом талантливом русском писателе; конкретно показал такую современную ему связку: «Страхов — Толстой», сравнивая ее значимость с уже устоявшимися в литературной жизни парами: «Белинский — Гоголь» и «Григорьев — Островский». «Именно то, что Вы говорите, в том месте, где говорите о Бородинской битве, и выражает всю сущность мысли и Толстого и Вашу о Толстом. Яснее бы невозможно, кажется, выразиться. Национальная, русская мысль заявлена почти обнаженно…. Ясно, логично, твердо-сознанная мысль, написанная изящно до последней степени. … В конце концов я считаю Вас за единственного представителя нашей теперешней критики, которому принадлежит будущее» [11. С. 17].
Трудно поверить, что все комплименты, произнесенные в письме своему корреспонденту, абсолютно объективны и бесстрастны. Подспудно Достоевский переживает отсутствие в его собственной жизни такого парного «критика». Кроме того, что этот факт означает для него кажущуюся второстепенность его места в русской литературе, он затрудняет встраивание творчества писателя в философскую исследовательскую обойму того времени. Для писателя, чье творчество почти целиком состоит из философских идей и религиозного настроения, это было не просто обидно, это было почти физически невыносимо.
Безусловно, многолетняя дружба и сотрудничество давали ему право искать и найти «своего критика» в лице старого друга. Более того, некоторые достоевсковеды убедительно показали, что Страхов-критик и Страхов-мыслитель-почвенник теоретически и мировоззренчески был гораздо ближе Достоевскому, чем Толстому, которого, по его самоощущению, можно было бы назвать писателем-одиночкой, настолько он был вне кружков и направлений и не нуждался в штатных критиках или спутниках-интерпретаторах. К слову сказать, не уважая критику в принципе, статьи Страхова о себе Толстой читал без видимого неудовольствия, ценя ум и поддержку своего «милого критика».
Далее, в письме Достоевского через пару страниц появляются извинительно-просительные интонации, выдавая человека в чрезвычайной нужде; ему нужна была помощь и поддержка самых на тот момент близких ему людей: Н.Н. Страхова и А.Н. Майкова. Интонации письма лишний раз демонстрируют ту степень интимности, которая, несомненно, была между ними в это время: «Благодарю Вас очень, добрейший и многоуважаемый Николай Николаевич, что мною интересуетесь. Я здоров по-прежнему, то есть припадки даже слабее, чем в Петербурге. В последнее время, 1,5 месяца назад, был сильно занят окончанием „Идиота“. Напишите мне, как Вы обещали, о нем Ваше мнение; с жадностию ожидаю его» 2.
Другой важной точкой их принципиального расхождения было отношение Страхова-критика к поэтике писателя. «Симпатия к содержанию романов Достоевского (что естественно — общее «почвенническое» направление) сосуществовала рядом с неприятием его поэтики, того, что представлялось Страхову чрезмерным, хаотичным, утрированным. Почти все реплики Страхова о Достоевском-художнике в письмах к Толстому прохладные или отрицательные. Это относится и к отдельным произведениям, и к стилю, и к героям» [2. C. 49]. И здесь Страхов находит в лице Толстого несомненную поддержку и понимание в критических оценках художественного начала у Достоевского.
В этом пункте я хочу опереться на суждения Толстого о поэтике художественного текста в целом и поэтике Достоевского в частности. По воспоминаниям А.Ф. Кони, Толстой выделял в любом литературном произведении наличие трех элементов: содержание, любовь автора к предмету и технику. «У Тургенева (здесь и далее выделено А.К.), в сущности, немного содержания в произведениях, но большая любовь к своему предмету и великолепная техника. Наоборот, у Достоевского огромное содержание, но никакой техники; а у Некрасова есть содержание и техника, но нет элемента действительной любви» [12. C. 512]. Отдавая дань разнообразию идей в романах Достоевского, Толстой в этом же пункте обнаружил и главную проблему для его стиля и письма. Из воспоминаний А.В. Цинглера, приведшего слова Толстого: «Достоевский никогда не умел писать именно потому, что у него всегда было слишком много мыслей, ему слишком много нужно было сказать своего... И все-таки Достоевский — это самое истинное художество» [12. C. 455].
Подобные мысли есть и у Страхова. В письме Достоевскому от 12 апреля 1871 г. он пишет: «Очевидно — по содержанию, по обилию и разнообразию идей Вы у нас первый человек, и сам Толстой сравнительно с Вами однообразен… Но очевидно же… Вы загромождаете Ваши произведения, слишком их усложняете. Если бы ткань Ваших рассказов была проще, они бы действовали сильнее» [13. C. 271]. Страхов также откровенно восхищался антинигилистической критикой писателя (главным образом — публицистическими текстами), и его собственные «Письма о нигилизме» весьма схожи и интонационно, и идейно с антинигилистическим пафосом романов Достоевского.
В то же время он не ценил в нем художника. После знаменитой «Пушкинской речи» писателя, посвященной церемонии открытия памятника русскому поэту 6 июня 1880 г., Страхов воспел мощь его публицистического слова и понял всю харизматичность фигуры Достоевского, ставшей в одночасье магической для широкой публики.
При этом Страхов верно почувствовал единство художественного и религиозного начал в Толстом. В «Толках о Толстом» он прозорливо назвал его натуру целостной, хотя, высоко ценя в нем художника и «гений художественный», он был весьма сдержан в высказывании своей точки зрения по поводу христианских идей писателя. Ему был чужд Христос Толстого; он никогда не был толстовцем, а за глаза не раз критиковал писателя, несмотря на всю искренность своей любви к нему. «Толстой очень плохо пишет все, что у него касается отвлеченного изложения христианства; но его чувства, которых он вовсе не умеет выразить и которые я знаю прямо по лицу, по тону, по разговорам, — имеют необыкновенную красоту. В нем много всего, но я поражен и навсегда остаюсь пораженным его натурою, христианскими чертами» [14. С. 120].
Еще одним немаловажным основанием для личного конфликта писателя с критиком стали нелицеприятные высказывания Достоевского в адрес своего друга, скорее всего найденные Страховым в черновых записках писателя, которые он разбирал после его смерти. Ключевым словом в оскорблении стало слово «семинарист,» в которое писатель всегда вкладывал что-то негативное:
«/Здѣсь/ Но семинаристъ дѣйствуетъ [гуртомъ] /всѣмъ/ гуртомъ. Семинаристъ всегда въ гуртѣ. Это скотина /лицо/ /существо/ стадная /ое/» (тетрадь 1875—1876 гг., на полях слева крест).
«— Левиты, семинаристы, это — это нужникъ общества».
«— Семинаристы какъ status in statu (государство в государстве — лат.) —внѣ народа» (на полях слева два восклицательных знака и два креста).
«NB. — Семинарiи надо поскорее возвысить до гимназiи, т.е. такъ-сказать обратить въ гимназiи, уже и потому что тѣмъ уничтожится разсадникъ нигилятины… Я обнаружу врага Россiи, — это семинаристъ» (тетрадь 1874—1875 гг.)» [Цит. по: 15. С. 61, 63].
Прошелся он в своих записках и по Страхову-семинаристу[3]: «Чистейшая семинарская черта. Происхождение никуда не спрячешь. Никакого гражданского чувства и долга, никакого негодования к какой-нибудь гадости, а напротив, он и сам делает гадости; несмотря на свой строго нравственный вид, втайне сладострастен и за какую-нибудь жирную грубо-сладострастную пакость готов продать всех и всe, и гражданский долг, которого не ощущает, и работу, до которой ему все равно, и идеал, которого у него не бывает, и не потому, что он не верит в идеал, а из-за грубой коры жира, из-за которой не может ничего чувствовать»[16. C. 239—240] 4. Н.А. Тарасова [15. C. 55] в 2011 г., опираясь на архивные данные, внесла правку в знаменитую записку Достоевского о Страхове, указав, что фразу «продать... работу», корректно читать как «предать.. родину», что делает его отрицательное чувство к Страхову-семинаристу еще более нетерпимым и категоричным и вовсе не случайным[5].
Хотя нет никаких прямых доказательств, однако большинство ученых склоняются к тому, что тот самый «тягостный документ XIX века» — письмо Страхова к Толстому о стыдных грехах Достоевского — стал эмоциональным итогом знакомства с вышеприведенной записью писателя, а также узнавания себя в собирательном образе «семинаризма», о котором неоднократно высказывался Достоевским в своих рабочих тетрадях [15]. Именно здесь и заложен ключ к объяснению той страстной ненависти, которую философ излил в отношении уже покойного писателя, к тому же уже издав вполне комплементарные «Воспоминания» о нем. Некоторые исследователи даже представляют Страхова эдаким суперзлодеем «во времени», который якобы написал письмо-пасквиль в расчете отомстить Достоевскому «в веках» [17].
«Спускаясь в ад» души человеческой
Если убрать все резкие инвективы и оценочные суждения из процитированной записки Достоевского, то можно с удивлением заметить, что его суждения о друге несколько схожи с суждениями о философе, высказанные ему открыто Толстым. Что же так не терпит Достоевский в человеке и какие его отрицательные качества он распространил на Страхова?
Писатель ненавидит беспочвенность, отсутствие связи человека с родом, семьей или страной, отвлеченное мышление — все те черты, которые он нашел у семинаристов, пополнивших ряды самых радикальных разночинцев во второй половине XIX в. Объективно говоря, этому сословию в России не на кого было надеется; приходилось бороться за свое место в обществе, делать карьеру, не имея традиционных привилегий потомственных дворян и всякого рода природных comme il faut. Эти люди стали теоретиками и практиками нигилизма, и именно в них Достоевский узрел классовую опасность для России и традиционной религии.
«— Фадѣевъ 174 стр. Верховная власть безъ преданнаго cocлoвiя (дворянства), на однихъ равнодушныхъ грабителяхъ и лѣнивыхъ чиновникахъ — [не удержится] съ народомъ, /не имѣющимъ политической идеи и/ развращаемымъ /въ чувствѣ своемъ/ семинаристами [и не имѣю] — не удержится, долго и не уѣдетъ далеко. Самодержавiе, разрушая дворянство, подняло на себя руку» [Цит. по: 15. С. 62—63].
Мышление семинаристов было отвлеченным, то есть, по сути, интернациональным, с его точки зрения; поставив во главу угла карьеру и эгоизм, они стали изживать русский менталитет и национально-патриотическое сознание, пропагандировать головную идеологию и пустую любовь к ближнему, втираться в доверие к простодушному русскому народу; они были аморалистами, не понимая разницы между богом и дьяволом, добром и злом. Эту нравственную коррозию они несли в массы. Если русский человек, каким бы отрицательным не было его поведение, зачастую ведет себя безбожно, то он всегда, с точки зрения Достоевского, знает истинную цену своему поведению, умеет различать добро от зла, знает меру своей низости и подлости. В русском человеке всегда есть духовный барометр истинности — это образ Христа. Семинаристы же, с его точки зрения, как бы не русские люди; это абсолютно безнравственный типаж; они готовы оправдать любую подлость, ради своей выгоды, карьеры, славы, или даже просто так — назло миру и даже самим себе.
В Страхове он почему-то разглядел такого семинариста-«отщепенца», человека без жизненной позиции и моральных принципов; он отнес его к разряду «отвлеченных людей» — то есть тех, кому все равно, каким богам поклоняться и какие идеалы воспевать. Для него Страхов — некий беспочвенный пустоцвет, не имеющий своей самобытности, ни к частной, ни к общественной жизни; в некотором смысле, он очень похож на Степана Трофимовича Верховенского («Бесы») — приживальщика-интеллигента, имеющего благородный вид и пару интересных мыслей, но смешного, ничтожного и беспринципного при столкновении с реальной жизнью. Зная биографию Страхова, а также его упорную многолетнюю «почвенническую борьбу с Западом», его патриотическую защиту исконно-русской национальной самобытности[6], с такими инвективами Достоевского просто невозможно согласиться. Все более ясно, что Достоевский имеет какую-то личную причину/обиду столь резкой оценки друга. О некоторых из них, я упомянула.
Однако, было в характере Страхова нечто такое, что уничижительные характеристики Достоевского делает не одним лишь плодом раздражения, но и результатом глубокого психологического прозрения некоторых сторон его личности.
Возможно, именно Толстой сможет пролить свет на эти оценки-характеристики друга. В течение их двадцатипятилетней переписки он неоднократно пенял Страхову на его «отвлеченность», назвав ее «объективностью» или «мундиром» мыслителя. Читая его письма, статьи и критику, он видит ум своего друга-философа очень хорошо. Но ему все время не хватает его души, искренности, сердечного переживания, субъективного. Поэтому Толстой во второй половине 70-х гг. в переписке постоянно призывал его «высказаться и открыть себя», стать искренним по отношению к тем вопросам и проблемам, которые Страхов так теоретически последовательно и убедительно, но так внутренне индифферентно, анализирует. Ему не хватает в Страхове-философе откровенности.
Упреки Толстого Страхов воспринял, как призыв к исповеди. Исповедь он понял вполне традиционно — как полное самообнажение грехов, желание очиститься и получить прощение… от своего кумира. 17 ноября 1879 г. он пишет ему письмо, в котором вдруг начинает исповедоваться… на языке героев Достоевского. Он говорит и бичует себя с той же интонацией и сердечной мукой, которая характерна для главных героев писателя. По сути, он осуществляет акт саморазоблачения на литературный манер подпольного человека. Именно эта исповедь открывает нам реальную близость Страхова не только героям, но и ранее приведенным отрицательным оценкам Достоевского в отношении его персоны. Подобно Подпольному — знаменитому герою Достоевского — Страхов признается в слабости душевной жизни и силе внутреннего воображения и пустой мечтательности. Недостаток реальных переживаний он компенсирует бесплодными (как ему кажется) фантазиями о славе, любви, уважении и восхищении окружающих. Он вечно раздвоен и противоречив: то пылает любовью к людям, то ненавидит их и боится. «…Порывы ненависти, глубочайшего эгоизма и малодушия иногда являются в моей душе, и хотя я им не верю и гоню их, я огорчаюсь до отчаяния уже тем, что мне знакомы эти отвратительные явления, что так или иначе моя душа породила их. Если бы я стал жаловаться на судьбу, то, кажется, всего больше жаловался бы не на действительные страдания, а на это множество гадких чувств, так долго меня мучивших, находивших на меня против моей воли и противных мне в высшей степени» [1. С. 541—542].
Это саморазоблачение-самокопание он называл состоянием «спускаться в ад», — хорошо известное практически всем героям Достоевского.
Отослав такое откровенное письмо, он, видимо, готов был нарваться на боль осуждения, презрения или даже брезгливости, но в то же время, как и подпольные герои Достоевского, ожидал получить и похвалу-прощение (и может быть даже сочувствие) своей умственной исключительности и такой психологической сложности его натуры. Толстой прекрасно это понял и написал откровенно и нелицеприятно:
«По-моему, вы больны духовно. И ваша болезнь вот какая. В нас две природы — духовная и плотская… Всё в том мире, в котором мы жили, так перепутано — всё плотское так одето в духовный наряд, всё духовное так облеплено плотским, что трудно разобрать… Вы хотите добра, а жалеете, что в вас мало зла, что в вас нет страстей…» [1. С. 545—546]. Далее Толстой переходит к своей христианской проповеди, указывая Страхову религиозный путь к разрешению его психологических проблем: «Верьте, перенесите центр тяжести в мир духовный, все цели вашей жизни, все желания ваши выходили бы из него, и тогда вы найдете покой в жизни. Делайте дела Божии, исполняйте волю Отца, и тогда вы увидите свет и поймете» [Там же].
Так, Толстой одновременно показал своему другу истинный — христовый путь к спасению и указал конкретный жизненный выход из «болезней ума», не столько для Страхова, сколько для всех нигилистических героев Достоевского. Его слова можно назвать и христианской критикой, как в отношении литературных подпольных героев, которые «любили тьму» своих выморочных теорий больше всего на свете, так и в отношении светлых христианских образов Достоевского, по-женски, терпеливо и молчаливо, делавших дела Божьи.
Проблема Страхова связана с отсутствием в нем религиозного ядра; но Толстой верит в друга и многие годы надеется на рождение божественного света в его душе. И.А. Паперно прекрасно показала, что эта вера, однако, в итоге иссякла после 1879 г., когда Толстой, прочно встав на путь христианской жизни, перестал обсуждать ее особенность со Страховым; он понял, что это не тема русского философа [18].
Мне кажется, что упрёки Достоевского в отношении Страхова имеют схожую подоплеку: зная его долгие годы, писатель в итоге пришёл к выводу об отсутствии религиозного роста у Страхова, о неизменности его подполья в душе. Это и стало основой его нелицеприятной, но скрытой критики. Не исключен здесь и личный мотив: Достоевский так и не обрел в его лице поддержки своему гению, не нашел сочувствия своим художественным творениям. Он был обижен.
В известной статье Страхова «Наблюдения», которую Л.М. Розенблюм ввела в научный оборот, философ воспроизводит извечную непримиримость с ним Достоевского, но не столько за мировоззренческую отвлеченность, неспособность мыслить вне общепринятых истин, сколько за его душевную неспособность сочувственного сопереживания к субъективности, слабостям, противоречиям, ошибкам других людей. Страхов «не верит в человека», не верит в себя, в другого, в мир вокруг себя. «Остается сказать еще одно, — заявляет Страхов в заключение, — я не верю ни в философию, ни в экономию, и вообще ни в одну сторону цивилизации, потому что я не верю в человека» [19. С. 19]. В этом восклицании вновь слышны отголоски протестов подпольного человека.
Удивительна и позиция Достоевского. Он, который был готов найти «зерно истины» в поступках и переживаниях своих самых низких героев, сочувствует и своему неверующему в человека Ивану Карамазову, чуть ли не прощает Николая Ставрогина, не спешит понять и оправдать Страхова, который «не верит в человека», скорее всего, потому, что не верит в Бога. «Христианство без веры в человека представлялось Достоевскому жестоким и оскорбительным, что он позднее покажет в системе Великого инквизитора. Достоевский был художником, который в своих произведениях постоянно развертывал «картину современного человечества»; в отличие от Страхова на вопрос «хорош ли человек» он затруднялся ответить «тотчас». Но с самой юности, вдохновленной идеалами утопического социализма, и до конца дней Достоевский сохранял веру в человека» [19. С. 19]. На примере его взаимоотношений со Страховым мы видим, что эта вера носит скорее идеальный, чем реально-практический характер.
Страхов сам своим главным недостатком считал безжизненность в себе, нежелание «выбрасывать знамена», становиться кем-то большим, чем ему уготовила судьба. В его самоосуждении не cтолько равнодушие, в том числе и к самому себе, сколько боль, страдание умного человека, для которого всякое «сознание — это болезнь», всякое понимание себя — ад; эту-то боль и это страдание, кажется, не хочет замечать в нем тонкий психолог и сердцевед Достоевский. Толстой же, найдя свой путь к спасению, оставляет позади тех, кто остается в духовном бездействии и нерешительности.
Вместо заключения
Кажется, Страхов не верит в себя до конца, как не верит он в Достоевского, слишком хорошо зная и его страстную, мятущуюся и, безусловно, тоже подпольную натуру. Он верит лишь в одного Толстого как в высшего человека, меряя им свои переживания и рациональные прозрения. Но религиозная вера и путь Толстого так и не стали ему близки. Уж очень совпал Толстой в своем оправдании человека как изначально доброго существа с Достоевским. Не принимая их «розового христианства» (определение К.Н. Леонтьева), Страхов, безусловно, в понимании сущности человека скорее на стороне Достоевского, для которого подпольный человек — реальный, существующий тип личности.
Достоевский потому так хорошо понял и так зло разоблачил Страхова, что и сам нес в себе черты своих героев, также был склонен к противоречиям и крайностям поведения. Возможно, что Страхов, сравнивая Достоевского с его худшими героями в «разоблачительном» письме к Толстому, воспроизводил наивную по нынешним временам литературоведческую теорию о единстве автора и героя; но он был прав в одном: вряд ли писатель смог бы так гениально написать своих падших и безнравственных героев, если бы в его душе не было зачатков схожих переживаний и коллизий.
Схожесть Страхова и Достоевского невольно была обнаружена все тем же Толстым. Когда-то Достоевский называл Страхова «человеком со складкой», то есть с двойным дном, с потаенными мыслями, неискреннего и т.д., а Толстой уже самого Достоевского определил как «человека с заминкой», отметив в ответном письме от 6 декабря 1883 г., что «он трогателен, интересен, но поставить на памятник в поучение потомству нельзя человека, который весь борьба» [1. С. 655]. Беда Страхова, как и многих иных, с его точки зрения, в ложном и фальшивом отношении к Достоевскому-публицисту, к его восприятию в качестве учителя и пророка для нескольких поклонений молодежи. Для Толстого, принципиально чуждого радикальному аморализму русской интеллигенции, идеологии политической борьбы и религиозно-патриотической риторики, публицистика Достоевского могла рассматриваться лишь как один из ложных вариантов патриотического дискурса.
1 Ф.М. Достоевский скончался в 8 часов 38 минут вечера 28 января 1881 г.
2 Страхов только однажды и вскользь похвалил первые главы романа; однако ругал за стиль, в итоге так и не написал никакой объективной критики романа для публикации.
3 Страхов учился в Костромской духовной семинарии (1839—1843), на отделении риторики, а затем философии.
4 «Записная тетрадь 1876—1877 гг.». Запись расположена среди заметок к «Дневнику писателя» за 1876 г. [16].
5 Для Достоевского семинарист — имя нарицательное, означает атеист, и беспочвенник, готовый предать родину в любой момент. Некоторые исследователи видят в семинаристе Ракитине прямой намек на Страхова [2, 20].
6 В этом отношении показательна его полемика с В.С. Соловьевым по поводу идей Н.Я. Данилевского.
Об авторах
Светлана Мушаиловна Климова
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
Автор, ответственный за переписку.
Email: sklimova@hse.ru
доктор философских наук, профессор, Школа философии и культурологии
Российская Федерация, 101000, Москва, ул. Мясницкая, 20Список литературы
- Толстой Л.Н, Страхов Н.Н. Полное собрание переписки: в 2 т. / Оттавский ун-т. Славян. исследоват. группа; Гос. музей Л. Н. Толстого; сост. Громова Л.Д., Никифорова Т.Г.; ред. Донсков А.А. М.; Оттава : 2003. Т. 2.
- Туниманов В.А. Достоевский, Страхов, Толстой (лабиринт сцеплений). Русская Литература. 2006. № 3. С. 38-96.
- Чижевский Д.И. Гегель в России. СПб., 2007.
- Орвин Д. «Мир как целое» Н. Страхова: недостающее звено между Достоевским и Толстым // Толстой. Новый век: журн. размышлений: о Толстом, о мире, о себе / Гос. мемор. и природ. заповедник Музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна». Перевод с англ. Donna Orwin. Strakhov's World as a Whole: A Missing Link between Dostoevsky and Tolstoy. Ясная Поляна, 2006. № 2. С. 197-221.
- Долинин А.С. Достоевский и Страхов // Долинин А.С. Достоевский и другие: статьи и исследования о русской классической литературе. Ленинград, 1989. С. 234-270.
- Чижевский Д.И. Черт Ивана Карамазова и Николай Николаевич Страхов // Вопросы философии. 2014. № 5. С. 110-115. Перевод с нем. М. Кармановой; публикация и комментарии А.В. Тоичкиной.
- Тоичкина А.В. «И как пишет критик Страхов…» (Тема спиритизма в публицистике Достоевского, Н.Н. Страхова и в романе «Братья Карамазовы») // Достоевский и журнализм / Под ред. В.Н. Захарова, К.А. Степаняна, Б.Н. Тихомирова. СПб. : Дмитрий Буланин, 2013. (Dostoevsky monographs; вып. 4). С. 299-315
- Снетова Н.В. Философия Н.Н. Страхова (опыт интеллектуальной биографии): монография. Пермь : Пермский ун-т, 2010. 250 с.
- Бросова Н.З. Страхов как историк философии // Credo. 2000. № 1. С. 23-32.
- Толстой Л.Н., Страхов Н.Н. Полное собрание переписки: в 2 т. / Оттавский ун-т. Славян. исследоват. группа; Гос. музей Л. Н. Толстого; сост. Громова Л. Д., Никифорова Т.Г.; ред. Донсков А.А. М.; Оттава : 2003. Т. 1.
- Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Л. : Наука, 1986. Т. 29. Кн. 1. С. 14-22.
- Кони А.Ф. Из воспоминаний «Лев Николаевич Толстой» 1887 // Ремизов В.Б. Толстой и Достоевский. Братья по совести. М. : РГ-Пресс, 2019.
- Шестидесятые годы / Ред. Н.К. Пиксанова и О.Н. Цехновицера. М., 1940.
- Аксаков И.С. - Страхов Н.Н. Переписка / Под ред. Марины Щербаковой. Оттава, 2007.
- Тарасова Н.А. «Дневник писателя» Ф.М. Достоевского (1876-1877): критика текста. М. : Квадрига; МБА, 2011.
- Достоевский Ф.М. Полн. собр. соч.: в 30 т. Т. 24. Л. : Наука, 1982. С. 239-240
- Кирпотин В.Я. Мир Достоевского. Статьи. Исследования. 2-е изд., доп. М. : Советский писатель, 1983.
- Paperno I. Leo Tolstoy's Correspondence with Nikolai Strakhov: The Dialogue on Faith» // Anniversary Essays on Tolstoy / Ed. by Donna Tussing Orwin. Cambridge: Cambridge University Press, 2010. P. 96-119.
- Розенблюм Л.М. «…Их надо обличать и обнаруживать неустанно» // Неизданный Достоевский. Записные книжки и тетради 1860-1881 гг. / АН СССР, Ин-т мировой лит.; гл. ред. В.Р. Щербина. М., 1971. С. 16-23. Т. 83
- Кибальник С.А. К разгадке одной писательской диффамации: почему Н.Н. Страхов оклеветал Ф.М. Достоевского? // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2018. № 55. С. 191-211.