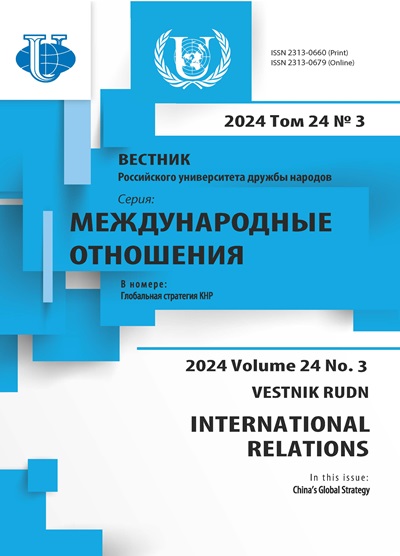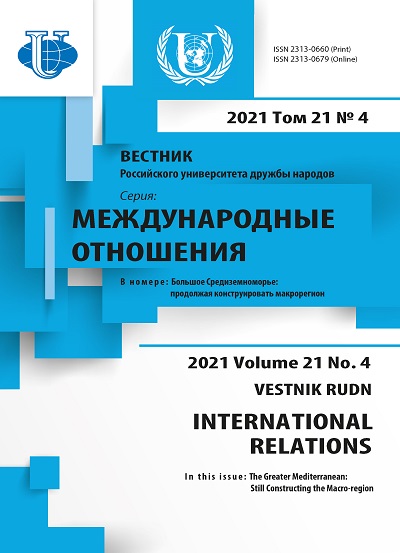«Мы из Биафры». Студенты-игбо в СССР во время гражданской войны в Нигерии в 1967-1970 гг.
- Авторы: Мазов С.В.1
-
Учреждения:
- Институт всеобщей истории РАН
- Выпуск: Том 21, № 4 (2021): Большое Средиземноморье: продолжая конструировать макрорегион
- Страницы: 822-834
- Раздел: МЕЖДУНАРОДНОЕ АКАДЕМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
- URL: https://journals.rudn.ru/international-relations/article/view/29823
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-0660-2021-21-4-822-834
Цитировать
Полный текст
Аннотация
На основе документов из российских архивов исследуется советская политика в отношении студентов-игбо, учившихся в СССР во время гражданской войны в Нигерии (1967-1970 гг.). Они приняли сторону самопровозглашенной Республики Биафры (Восточная Нигерия), отделившейся от Нигерии в мае 1967 г. СССР поддержал сохранение территориальной целостности Нигерии, оказал военную помощь федеральному правительству в его противостоянии с Биафрой. В конфликте же между нигерийским посольством в Москве и студентами-игбо советские власти соблюдали нейтралитет. Они не высылали студентов из СССР по требованию посольства как «пособников сепаратистов», каждый случай тщательно разбирался, не препятствовали деятельности биафрского землячества. Поскольку распространение материалов биафрских пропагандистов в СССР было запрещено, они пытались пробиться к советской аудитории через обращения студентов-игбо, обучавшихся в СССР. В обращениях не звучали главные темы биафрской пропаганды на Запад: обвинения федерального правительства в геноциде игбо нацистскими методами и изображение гражданской войны как религиозного конфликта - джихада мусульманского Севера против христиан игбо. Доминирующим был тезис о природе гражданской войны как о борьбе «социалистического» Востока - Биафры - против «феодально-капиталистического» Севера - центрального правительства. Студенты призывали советских официальных лиц публично признать законность стремления биафрцев к самоопределению, прекратить поставки оружия центральному правительству и стать посредником в мирном урегулировании. Обращения оставались без ответа и не предавались гласности. Опираясь на архивные документы, автор установил, что советское руководство обоснованно опасалось, что Биафра станет вотчиной главных геополитических противников - США и Великобритании. Чтобы не допустить этого, Советский Союз пошел на альянс с федералами. Расчет состоял в том, чтобы упрочить советское влияние во всей Нигерии, пусть и с «реакционным» правительством, нежели поддержать «прогрессивную» отколовшуюся Восточную Нигерию (Биафру) и остаться ни с чем.
Полный текст
Введение
20 января 1960 г. ЦК КПСС принял секретное постановление «О расширении культурных и общественных связей с негритянскими народами Африки и усилении влияния Советского Союза на эти народы». Одним из главных инструментов советского проникновения в Африку должна была стать образованная африканская молодежь. В первом пункте постановления признавалось «целесообразным увеличить прием учащихся студентов и аспирантов из негритянских стран Африки для обучения в высших учебных и средних специальных заведениях Советского Союза». ЦК обязал исполнительную власть довести число стипендий для студентов из Африки до 300 и распространить на них материальное обеспечение, предусмотренное для студентов из колониальных и зависимых стран (Россия и Африка…, 1999, с. 165—166).
Количественные показатели были выполнены и перевыполнены быстро. По данным Министерства высшего и среднего специального образования СССР (Минвуз), численность студентов из Черной Африки составляла: в 1961/1962 учебном году — 1027, 1962/1963 — 1235, 1963/1964 — 2327, 1964/1965 — 2794, 1966/1967 — 4101, 1967/1968 — 4309, 1968/1969 — 4458, 1969/1970 — 4459 (Катсакиорис, 2008, с. 214). Эту статистику нельзя считать полной, поскольку она не учитывала африканцев, обучавшихся в закрытых учреждениях, — Ленинской школе, военных училищах.
В работах историков об иностранцах, обучавшихся в СССР, показано, что появление в СССР тысяч африканских студентов породило закономерные, но ставшие неожиданными для советских властей негативные последствия, в том числе проблемы отбора «благонадежных» абитуриентов в африканских странах, конфликты на почве бытового расизма и их последствия, антисоветские настроения среди студентов, трудности их адаптации к советским реалиям. Эти темы и оказались в фокусе внимания исследователей (Hessler, 2006; Matusevich, 2008; Катсакиорис, 2008; de Saint Martin et al., 2015; Katsakioris, 2019a; Иванова, Мазов, 2019).
В СССР государственным органам приходилось заниматься не только улаживанием конфликтов между африканскими студентами и советскими гражданами, но и реагировать на случавшиеся коллизии в отношениях между властями африканских государств и учившимися в СССР оппозиционно настроенными студентами из этих стран. Студенты занимались политической деятельностью, устраивали протестные акции. Единственный более или менее изученный с привлечением архивных материалов случай — антиправительственная деятельность сомалийских студентов в СССР в 1961—1962 гг. (Мазов, 2008, с. 337—338, 367—370). О других конфликтах из работ можно почерпнуть лишь краткую информацию (Matusevich, 2003, p. 127; Katsakioris, 2019b).
В данной статье впервые на основе документов из российских архивов исследовано, как советские власти реагировали на конфронтацию между нигерийским посольством в Москве и студентами-игбо, поддержавшими отделение Биафры от Нигерии.
СССР и гражданская война в Нигерии
В искусственных границах британской колонии Нигерия, ставшей независимой 1 октября 1960 г., оказались более 250 этнических групп, которые являли собой редкое даже для Африки разнообразие языков, культур, конфессий, социальных и политических структур. Вокруг трех основных и неродственных друг другу народов Нигерии сложились относительно гомогенные этнокультурные зоны. Большинство населения севера Нигерии составляют хауса, чья религия — ислам суннитского толка. Крупнейшая этническая группа запада и юго-запада — йоруба, которые преимущественно исповедуют христианство. На юго-востоке в дельте Нигера преобладают игбо — христиане и анимисты.
Британская колониальная политика (косвенное управление с упором на регионализм) способствовала обособленности Северной и Южной Нигерии, нарастанию трений между этническими группами и политическими силами. Перед независимостью Нигерия представляла собой рыхлую федерацию, состоящую из трех областей (Северная, Восточная и Западная), где региональные правительства и парламенты обладали широкими полномочиями, и федеральной территории Лагос (столица).
Восточная область занимала всего 8 % территории Нигерии (76 тыс. км2), но была наиболее развитым в экономическом отношении регионом, где сосредоточились 4/5 запасов нефти, существовала развитая транспортная инфраструктура, находилось 90 % квалифицированной рабочей силы. В 1966 г. в Восточной Нигерии было добыто 15 млн т нефти (60 % всей добычи нефти в Нигерии). После независимости в нефтяную отрасль пришли американские нефтяные компании, составив конкуренцию изначальному монополисту — англо-голландской Shell-BP1.
Поскольку модернизация восточно-нигерийского общества проходила быстрее, чем на Севере и Западе, происходило перераспределение избыточной рабочей силы — квалифицированных кадров из Восточной области — в другие регионы. Игбо составляли наиболее значительную часть пришлого населения городских центров Северной и Западной Нигерии2. При массовой неграмотности северян для квалифицированных и предприимчивых игбо в северо-нигерийских городах находились доходные вакансии в административном секторе и торгово-экономической сфере. Поселяясь в чужом городе или районе, мигранты даже во втором поколении оставались чужаками, их землячествам была свойственна замкнутость. Северяне относились к пришлым свысока, считали их людьми второго сорта, потомками тех, кого их предки захватывали в плен во время набегов и обращали в рабство.
Нигерийские политические партии создавались и функционировали как этнорегиональные организации (De St. Jorre, 1972). На выборах в парламент в декабре 1959 г., накануне независимости, победу одержал Северный народный конгресс (СНК) — партия вождей и эмиров Северной Нигерии, отстаивавшая исламские ценности и интересы северян. Премьер-министром стал хауса Абубакар Балева. Его правительство оказалось неспособным справиться с многочисленными проблемами и укрепить единство страны.
15 января 1966 г. группа молодых офицеров-игбо осуществила попытку военного переворота. Заговорщики убили всех ключевых фигур правившего режима, включая А. Балеву, и многих старших офицеров. Уцелевший волею случая командующий вооруженными силами генерал-майор Джонсон Агийи-Иронси (игбо) установил контроль над армией и подавил путч. Власть в Нигерии перешла к военному правительству, его главой стал Дж. Агийи-Иронси. Он запретил политические партии и организации, упразднил федеральное устройство Нигерии, имея в виду создание унитарного государства, что могло лишить привилегий эмиров и вождей Северной Нигерии. За правительством Дж. Агийи-Иронси на Севере утвердилась репутация «проигбовского». В мае 1966 г. в Северной Нигерии прошли антиправительственные выступления, в ходе которых были убиты сотни проживавших там игбо.
29 июля 1966 г. произошел новый военный переворот, в ходе которого Дж. Агийи-Иронси был убит, а власть перешла к подполковнику Якубу Говону, христианину, ангас (одно из этнических меньшинств Северной Нигерии). В конце сентября 1966 г. в Северной и Западной Нигерии прокатилась вторая волна погромов игбо. Точных цифр убитых (от 5 до 30 тыс.) и тех, кто вынужден был бежать на Восток (от 700 тыс. до 2 млн), нет (Červenka, 1971, рр. 37—38).
27 мая 1967 г. Я. Говон подписал указ, упразднивший деление Нигерии на четыре провинции. Вместо них было создано 12 штатов (Forsyth, 2015). На Севере и Западе их границы совпадали с расселением основных этнических групп. Восточные же штаты были нарезаны таким образом, что крупные нефтяные месторождения располагались в штатах, где игбо не составляли бы большинство населения. Я. Говон заявил, что на территории Нигерии вводится чрезвычайное положение, и он сосредоточивает в своих руках «всю полноту власти» (Kirk-Greene, 1971, рр. 444—449).
Губернатор Восточной Нигерии подполковник Чуквуэмека Оджукву отказался признавать Я. Говона главой военного федерального правительства. В области было создано региональное военное правительство, аналогичное центральному, сформирована армия, введен самостоятельный сбор налогов и пошлин без отчислений в федеральный бюджет.
30 мая Ч. Оджукву «торжественно провозгласил, что территория и регион, известный как Восточная Нигерия, вместе с его континентальным шельфом и территориальными водами, отныне является суверенным независимым государством, называемым “Республика Биафра”» (Kirk-Greene, 1971, p. 452). 6 июня 1967 г. федеральная армия вступила на территорию Биафры. Я. Говон назвал это «полицейской операцией» (Kirk-Greene, 1971, p. 459). По плану штаба нигерийской армии она должна была закончиться через месяц взятием столицы Биафры — Энугу.
Биафре удалось продержаться два с половиной года. В мае 1968 г. пал ее последний морской порт — Порт-Харкорт. Началась блокада мятежной территории, там разразился массовый голод. Бедственное положение игбо стало одной из главных тем мировых СМИ. В июне 1969 г. Биафра представляла собой изолированную от внешнего мира территорию площадью 2 тыс. км2, где было сосредоточено 5 млн человек, терпящих лишения и голод. В декабре последовало решающее наступление федералов, биафрская армия была разгромлена, Ч. Оджукву бежал в Кот-д’Ивуар. 15 января 1970 г. был подписан акт о безоговорочной капитуляции Биафры.
СССР не признал отделившуюся Биафру, не занял позицию нейтралитета, оказав весьма нужную и своевременную военную и иную помощь федеральному правительству. 29 июля 1967 г. в Москве было подписано секретное советско-нигерийское соглашение «о поставке Нигерии на коммерческой основе военной техники (самолеты и сторожевые катера на сумму 3,8 млн рублей) и командировании советских специалистов для обучения нигерийцев эксплуатации поставленной военной техники»3. Таких сделок было несколько — СССР поставил федеральной армии стрелковое оружие, гаубицы, боеприпасы.
Соглашений «о военном сотрудничестве и об оказании Нигерии военной помощи» не заключалось. СССР воздержался от «каких-либо обязательств, которые могли бы вовлечь советскую сторону во внутренний конфликт, возникший в Нигерии»4.
Международная реакция на нигерийский кризис явила не блоковый, уникальный и атипичный для холодной войны расклад позиций. Федеральное правительство поддержали Великобритания, СССР, социалистические страны Восточной Европы, арабские страны (Stremlau, 1977). Великобритания поставляла Нигерии различные виды вооружений, оказывала нажим на Я. Говона, добиваясь смягчения его позиции на переговорах с представителями Ч. Оджукву, и стремилась стать посредником в мирном урегулировании.
Президент США Линдон Джонсон заявил в июле 1966 г., что США не намерены вмешиваться во внутренние дела Нигерии. На практике США поддерживали обе стороны. В частности, администрация не препятствовала американским фирмам оказывать финансовую и военную помощь сепаратистам, а игбовской диаспоре в США — вести пропагандистскую кампанию против федерального правительства.
На стороне Биафры, гласно или негласно, были Франция, Португалия, Южно-Африканская Республика, Китайская Народная Республика, Израиль. Четыре африканские страны (Габон, Замбия, Кот-д’Ивуар, Танзания) официально признали независимость Биафры. Из неафриканских государств то же сделало Гаити.
«Мы из Биафры»
По состоянию на 1 января 1967 г. в СССР учились 554 нигерийских студента5, сколько среди них было игбо точно неизвестно. Студенты-игбо не остались в стороне от трагических событий на родине. Они считали себя гражданами Биафры. В обращении в советские инстанции они сообщили, что больше не находятся «под покровительством нигерийского посольства в Москве. Мы из Биафры, молодой Республики, борющейся за существование и политическую независимость»6.
Нигерийское посольство попыталось не допустить распространения сепаратистских настроений в студенческой среде. 10 сентября 1967 г. посольство организовало в одном из своих помещений собрание студентов. Им всем были разосланы приглашения. Явившихся к посольству студентов-игбо на его территорию не пустили. На прошедшем без игбо собрании была создана новая организация нигерийских студентов. В ответ игбо устроили демонстрацию в поддержку Биафры7.
Студенты-игбо носили значки с символикой Биафры. Они создали собственную организацию, биафрское землячество, которое выпускало печатный бюллетень и направляло петиции в советские официальные инстанции. В одной из них землячество потребовало позволить выпускникам из Восточной Нигерии самим выбирать обратный маршрут из Москвы, нельзя было «спроваживать» их в Лагос, где они, «очевидно, будут убиты»8. Обратный маршрут студенты-игбо вольны были выбирать сами.
Землячество расценивало отношение нигерийского посольства в Москве к студентам-игбо как «бесстыдную дискриминацию и остракизм». Посол Джордж Курубо на периодически проводимых студенческих собраниях возмущался, что в СССР студентам из Восточной Нигерии «дали слишком много свободы», призывал срывать биафрские значки, записывать имена тех, кто их носит, и передавать в посольство9.
Жалобы не были лишены оснований. Ректор Университета дружбы народов (УДН) С.В. Румянцев считал, что нигерийские дипломаты «создавали вокруг сторонников Биафры обстановку травли, шантажа и запугивания». Руководство созданной 10 сентября организации нигерийских студентов в СССР «неоднократно обращалось в Университет с настойчивой просьбой (практически требованием) о непризнании права студентов из племени игбо на объединение, поставить их перед необходимостью идти с повинной в данную организацию»10.
Эффективным средством борьбы со сторонниками Биафры посольство считало их высылку в Нигерию. 24 февраля 1968 г. очередное собрание нигерийских студентов приняло резолюцию с требованием выслать всех активных участников биафрского землячества из СССР. Посол Дж. Курубо заявил, что никаких проблем с этим не будет, поскольку русские якобы «готовы оказать содействие»11.
Судя по архивным документам, посол выдал желаемое за действительное. Каждое требование посольства о высылке внимательно рассматривалось советской стороной и далеко не всегда удовлетворялось. 25 августа 1967 г. посольство направило ноту в МИД СССР, где утверждалось, что студент УДН Окечукву Эмоди «установил контакты с некоторыми иностранными посольствами в Москве, выдавая себя за представителя так называемой “Республики Биафра”». Посольство просило принять меры для возвращения О. Эмоди в Нигерию, «прежде чем ему удастся нанести какой-либо вред», тем более что пребывание этого студента в СССР формально было незаконным, поскольку он «закончил курс обучения на экономическом факультете» и по «сложившейся практике» должен вернуться на родину12. 4 сентября заместитель министра иностранных дел Я.А. Малик направил ноту заместителю министра высшего и среднего специального образования СССР Н.Н. Софинскому и ректору УДН С.В. Румянцеву с просьбой «сообщить мнение Министерства по существу поднятого в упомянутой ноте вопроса»13.
Дело оказалось не столь простым и очевидным, как представлялось в ноте, и руководству УДН потребовалось время, чтобы разобраться. В беседе между О. Эмоди и сотрудником УДН М.Ф. Клушиным выяснилось следующее. Нигерийскому посольству стало известно, что некий студент-игбо с довольно распространенным уменьшительным именем «Оке» «посетил ряд посольств в Москве, в том числе посольства Великобритании и США, и пытался установить с этими посольствами официальные связи как представитель Биафры». В посольство был вызван для беседы студент Московского геодезического института Оке. Сотрудники посольства хотели выяснить, не он ли тот самый самозваный представитель сепаратистской Биафры. Когда студент доказал, что это не он, его спросили, «не был ли этим человеком» студент УДН О. Эмоди, которого в «студенческой среде» тоже называют Оке.
Оке из геодезического института передал содержание разговора в посольстве О. Эмоди, Оке из УДН. Последний пришел на прием к советнику посольства и заявил, что ни в какие иностранные посольства он не ходил, все это «клеветнические слухи», он готов пойти в сопровождении сотрудника нигерийского посольства в любое из иностранных посольств, где подтвердят или опровергнут, является ли он, О. Эмоди, «представителем Биафры, который посетил эти посольства». Это предложение осталось без ответа, «никакого намека» на то, чтобы он уезжал на родину, не последовало.
На высказанное М.Ф. Клушиным предположение, что слухи о посещении О. Эмоди иностранных посольств «могли иметь основание и что дыма без огня не бывает», тот «с обидой» заявил, что был около посольств Великобритании и США «единственный раз как участник демонстрации, протестуя против империалистического вмешательства в дела Конго». Сам М.Ф. Клушин сделал вывод, что О. Эмоди «не посещал иностранные посольства в Москве», а нигерийское посольство стремится от него «отделаться» «путем высылки из СССР через советские официальные органы»14.
С.В. Румянцев сообщил Н.Н. Софинскому, что УДН не располагает сведениями о контактах О. Эмоди с иностранными посольствами в качестве представителя Биафры. Ректор охарактеризовал студента весьма положительно: он «проявил себя способным студентом, принимал активное участие в общественной жизни. К СССР и советскому народу всегда относился с большой симпатией». Вопреки утверждениям нигерийского посольства О. Эмоди находился на территории СССР законно: был рекомендован для зачисления в аспирантуру Института Африки Академии наук СССР «в связи с наличием вакантных мест». Ректорат УДН не видел оснований «для принятия мер по отправке на родину Окечукву Эмоди» и считал «неправильным становиться на сторону поддержки одной части нигерийских студентов против другой»15. Н.Н. Софинский направил Я.А. Малику копию письма С.В. Румянцева в качестве ответа на просьбу предоставить информацию по вопросу, поднятому в ноте нигерийского посольства16. Содержание ответной ноты автору установить не удалось, но вряд ли мнение УДН о непричастности О. Эмоди к пособничеству Биафре не было принято во внимание.
О. Эмоди не выслали в Нигерию. Он продолжал учиться в Москве, но после летних каникул 1968 г. туда не вернулся и поступил в аспирантуру американского Университета в Индианаполисе. В США он участвовал в пропагандистских мероприятиях Национального союза студентов Биафры (Biafran National Union of Students), направленных на создание в американском общественном мнении позитивного образа Биафры (Katsakioris, 2019b).
11 декабря 1967 г. посол Дж. Курубо сообщил заведующему II Африканским отделом МИД СССР Б.И. Караваеву, что сторонники Биафры из СССР присутствовали на недавнем совещании студентов из Восточной Нигерии в Лиссабоне, «где сейчас находится центр восточно-нигерийских сепаратистов». Три участника совещания возвратились в Москву, «получив инструкции по организации беспорядков против правительства Нигерии и по распространению ложной информации о положении в Нигерии». В качестве примера посол привел «случай в одном из высших учебных заведений Советского Союза», где был пущен слух, что «один из восточно-нигерийцев, окончивший это учебное заведение и вернувшийся в Нигерию, был убит федеральными войсками».
Дж. Курубо передал Б.И. Караваеву копию ноты, которую он направил в Минвуз, где «сообщил о деятельности студентов из Восточной Нигерии в Советском Союзе и привел фамилии организаторов кружка “биафранцев” в Москве». Б.И. Караваев принял ноту без комментариев и стал обсуждать другие вопросы, поднятые Дж. Курубо17.
Советская сторона нейтрально относилась к действиям студентов-игбо в поддержку Биафры, если они не приводили к правонарушениям. 23 июня 1969 г. Н.Н. Софинский уведомил МИД о просьбе ректората Азербайджанского института нефти и химии отчислить студента 5-го курса Самуэля Эзе и просьбе ректората Кубанского медицинского института отчислить студента 2-го курса Майкла Эзенву. Оба подлежали «выдворению из Советского Союза». С. Эзе «неоднократно нарушал правила поведения, установленные в учебных заведениях» СССР, «в беседах с советскими студентами и гражданами допускал клеветнические выпады в адрес Советского Союза, внешней и внутренней политики советского правительства». 11 ноября 1968 г. он «был задержан органами милиции за совершение валютной сделки». М. Эзенва валютчиком не был, но «нарушал правила проживания в студенческом общежитии, допускал хулиганские действия в отношении советских и иностранных студентов». Он демонстрировал «враждебное отношение к советской действительности», делал «злобные, политически вредные высказывания в адрес советского народа и его руководителей», «тенденциозно отзывался о внешней политике СССР». Лишь в конце записки и не в качестве основания для выдворения Н.Н. Софинский сообщал, что С. Эзе и М. Эзенва — «активные сторонники сепаратистов из Биафры»18. МИД «в том, что его касается», не имел возражений против отчисления и высылки этих студентов19.
Правительство СССР должно стать «посредником в достижении мирного соглашения между Нигерией и Биафрой»
В обращениях студентов-игбо к советским властям затрагивались не только проблемы их отношений с посольством Нигерии, но и более глобальные темы. Понимая, что у Биафры практически нет шансов на военную победу, Ч. Оджукву придавал огромное значение пропаганде. В начале 1968 г. было создано Управление пропаганды, которому удавалось выигрывать информационную войну у федерального правительства (Stremlau, 1977, p. 116). Поскольку распространение продукции биафрских пропагандистов в Советском Союзе было запрещено, они пытались пробиться к советской аудитории через обращения общественных организаций игбо, отдельных граждан и студентов-игбо, обучавшихся в СССР.
Пропаганда Биафры в СССР имела свои особенности не только по форме, но и по содержанию. В обращениях не звучали главные темы биафрской пропаганды на Запад: обвинения федерального правительства в геноциде игбо нацистскими методами и изображение гражданской войны как религиозного конфликта — джихада мусульманского Севера против игбо как наиболее многочисленной и организованной христианской общины Нигерии. Доминирующим в обращениях был тезис о природе гражданской войны как о «борьбе социалистов против феодально-капиталистического Севера», «борьбе прогресса против реакции»20.
В этом отношении характерно обращение «Биафрского бюро по человеческим отношениям» к председателю Совета Министров А.Н. Косыгину, подписанное его секретарем, студентом УДН А.У. Аносике. Оно причисляло студентов-игбо к «прогрессивным биафрцам», которые «проложили путь» в СССР для нигерийских студентов, «страстно агитировали за развитие отношений между Советским Союзом и Нигерией», «создали Рабоче-крестьянскую партию Нигерии», «изучали великие работы великого Ленина», «верили в социализм». Они боролись с «феодалами Севера» — «врагами прогресса» и ярыми поборниками «капиталистического образа жизни», которые запрещали нигерийцам выезд в СССР, «тормозили расширение связей с Восточной Европой» 21.
Находясь вдали от родины, где бушует «жестокая и бессмысленная» война, студенты-игбо с гневом и болью следят за новостями о том как «армия федерального правительства уничтожает мирных жителей, насилует и вырезает беременных женщин, убивает невинных детей, в том числе и не старше трех лет, сжигает дома, грабит, уничтожает собственность». И все это происходит под лозунгом «Сохраним Нигерию единой», который уже дискредитирован в глазах мировой общественности22.
Обращение призвало советскую молодежь, «всех членов комсомола» осознать «весь ужас положения», в котором оказалась Биафра, и обратиться к советскому правительству с просьбой «пересмотреть свою политику и сыграть отеческую роль», стать «посредником в достижении мирного соглашения между Нигерией и Биафрой»23.
Аргументация авторов документа была не лишена логики и убедительности. В Восточной Нигерии были сильны профсоюзы, пользовались влиянием левые организации. Политики-игбо заняли последовательную позицию в споре между сторонниками и противниками установления дипломатических отношений между СССР и Нигерией и не дали правительству северянина А. Балевы затянуть этот процесс (Мазов, 2008, с. 132—138). Игбо составляли большинство нигерийских студентов, обучавшихся в СССР, костяк руководства и актива Общества советско-ниге-рийской дружбы. Среди игбо было много членов Социалистической рабоче-крестьянс-кой партии Нигерии, имевшей доверительные отношения с КПСС.
Журналист Е.А. Коршунов, побывавший в Восточной Нигерии незадолго до провозглашения Биафры, отмечал в своем репортаже, что там многое может порадовать глаз советского человека. Особенно в «красном» городе Аба, где «сильны профсоюзы, сильны левые организации», где находится «одно из крупнейших в стране отделений общества нигерийско-советской дружбы». В Абе советский человек встретит единомышленников и друзей. Там живет Поль Нвокеди («Пи Кей») — «известный адвокат, член руководства запрещенной еще при правительстве Иронси Социалистической рабоче-крестьянской партии Нигерии, президент Общества советско-нигерийской дружбы». В городе практиковал доктор Е.А. Охиаери, обучившийся профессии в Германской Демократической Республике. Он хотел учредить в городе «социалистический госпиталь» и заявлял, что «цель социалистической медицины лечить людей, а капиталистической — зарабатывать деньги на их несчастьях»24.
Аналогичное впечатление сложилось у сотрудников советского посольства в Лагосе, совершивших поездку по Восточной Нигерии с 21 апреля по 4 мая 1967 г.: «Отделения Общества советско-нигерийской дружбы работают в этой части страны весьма активно. Важную роль в этом отношении играет тот факт, что их, как правило, возглавляют члены Социалистической рабоче-крестьянской партии, обучавшиеся в СССР, и что их деятельность в целом направляется руководством партии. В Восточной Нигерии существуют в настоящее время благоприятные условия для широкого развития пропаганды социалистических идей и имеются для этого хорошо подготовленные, инициативные кадры, состоящие в основном из партийных работников и руководителей прогрессивных профсоюзов, входящих в Нигерийский конгресс профсоюзов»25.
Перед руководством СССР встала непростая дилемма: поддержать отделение Восточной Нигерии, где были сильны позиции левых сил, или федеральное правительство, в котором доминировали представители Северной Нигерии и правили «консервативные феодальные элементы»26.
Решение о советской позиции в отношении независимости Биафры Политбюро ЦК КПСС приняло 29 мая. Соответствующее постановление было коротким: «Согласиться с предложениями МИД СССР, изложенными в записке по Нигерии от 22 мая 1967 г.»27. Записка28 была подготовлена II Африканским отделом МИД.
Авторы документа критиковали обе стороны конфликта — и федеральное правительство, и власти Восточной Нигерии. Правительство Я. Говона «до сих пор не смогло выработать какой-либо четкой программы действий и не располагает реальными силами, способными контролировать положение в стране». Среди федералов задают тон «феодально-помещичьи круги и племенная знать мусульманского Севера Нигерии». Северяне рассчитывают при поддержке англичан добиться такого государственного устройства, «при котором они могли бы и далее оказывать решающее влияние на определение внутренней и внешней политики Нигерии»29.
О политической ориентации властей Восточной Нигерии в записке ничего не говорилось, отмечались сепаратистские устремления Ч. Оджукву и его окружения. Губернатор Восточной провинции, «выступая на словах за сохранение единства страны на базе конфедерации, фактически уклоняется от встреч с руководителями федерального военного правительства и со своей стороны не предпринимает усилий для достижения какого-либо компромиссного решения», ведет дело к «созданию самостоятельного государства»30.
Главной угрозой интересам СССР называлось неминуемое усиление позиций США и Великобритании в отделившейся Биафре. Американцы «имеют значительные интересы в нефтяной отрасли», «поощряют сепаратистские тенденции», рассчитывая «занять доминирующее положение в экономике Восточной Нигерии», потеснив англичан. Те вели свою, враждебную СССР, игру: «Англия, занимающая господствующее положение в экономике Нигерии, обеспокоена последними событиями и активностью американцев в этой стране, однако до сих пор она не выступила открыто в поддержку федерального правительства и не осудила сепаратистских действий военных властей Восточной Нигерии. Придерживаясь такой позиции, англичане, по некоторым данным, исходят из того, что правительство Говона будет вынуждено обратиться к ним за военной помощью, что откроет возможность ввести в Нигерию английские войска»31.
Советская позиция формулировалась так: исходить из того, что «в обстановке активизации сил реакции и империализма на Африканском континенте весьма важным для Нигерии было бы сохранение ее единства»32.
Поддержка Советским Союзом федерального правительства Нигерии была обусловлена в первую очередь вполне обоснованными опасениями, что Биафра станет вотчиной главных геополитических противников — США и Великобритании. Чтобы не допустить этого, СССР пошел на альянс с «реакционными» федералами.
Второй причиной, побудившей СССР поддержать территориальную целостность Нигерии, была личность лидера Биафры. Ч. Оджукву был антиподом африканских политиков, которые провозгласили социалистическую ориентацию, пользовались покровительством советского руководства и получали от СССР существенную экономическую помощь. Он — сын одного из богатейших нигерийцев, сделавших многомиллионное состояние на транспортных перевозках и торговле; получил высшее гуманитарное и военное образование в Англии; прозападно настроенный игбовский националист, никогда не увлекавшийся левыми идеями.
Ч. Оджукву время от времени заявлял, что «видит лишь один путь развития [Нигерии. — Прим. авт.] — социалистический, и что общество должно быть построено так, чтобы в нем не было ни богатых, ни бедных»33. В конце 1950 — начале 1960-х гг. этого, может быть, оказалось достаточным, чтобы сойти за сторонника социалистической ориентации. Но не в 1967 г.
После неудач в Гвинее (высылка советского посла Д.С. Солода в конце 1961 г. и последовавшее охлаждение советско-гвинейских отношений) и Гане (свержение левого режима Кваме Нкрумы в феврале 1966 г.), а также поражения в схватке за «сердце Африки» — Конго (Леопольдвиль) (1960—1965 гг.) советское руководство стало более тщательно и осторожно выбирать потенциальных союзников в Африке. В советской политике в Африке наступило время «нового реализма» (Legvold, 1970, p. 275), когда приоритет идеологических императивов сменился прагматическим подходом.
Посол СССР в Нигерии А.И. Романов считал, что контакты с Биафрой контрпродуктивны, поскольку «сепаратистские тенденции в Нигерии явились следствием политических и экономических интриг американцев, англичан и их союзников», а «сепаратистский режим» Ч. Оджукву, «в какую бы тогу он ни рядился и какие бы пропагандистские заявления ни делал, является прежде всего креатурой американского империализма, которая ведет борьбу против федерального правительства на американские деньги»34.
Призывы студентов-игбо к руководству СССР занять нейтральную, посредническую позицию в нигерийском кризисе шли вразрез с его геополитическими устремлениями и политикой в Африке. Обращение «Биафрского бюро по человеческим отношениям» к А.Н. Косыгину осталось без ответа, как и другие обращения биафрцев в советские инстанции. Они не предавались гласности, оставались в учреждениях, куда направлялись, и сдавались в архив.
Заключение
Исходя из геополитических соображений и логики холодной войны, СССР поддержал сохранение территориальной целостности Нигерии и оказал военную помощь федеральному правительству в его противостоянии с Биафрой. Это не сказалось на отношении советских властей к учившимся в СССР нигерийским студентам, принявшим сторону Биафры. Власти придерживались нейтральной позиции в отношении конфликтов, периодически возникавших между посольством Нигерии в Москве и студентами-игбо. Просьбы посольства о высылке из СССР студентов за участие в «сепаратистской деятельности» не удовлетворялись. Студенты обращались во властные инстанции с призывами признать законность стремления биафрцев к самоопределению, прекратить поставки оружия центральному правительству и стать посредником в мирном урегулировании. Обращения оставались без ответа и не предавались гласности.
1 Архив внешней политики Российской Федерации (АВП РФ). Ф. 0579. Оп. 12. П. 16. Д. 10. Л. 8—9. Справка II Африканского отдела МИД СССР «К вопросу о “Республике Биафра”». 31 июля 1968 г.
2 АВП РФ. Ф. 579. Оп. 12. П. 14. Д. 7. Л. 109. Л.Н. Прибытковский, Н.Б. Кочакова, И.В. Следзевский. Нигерийский кризис: причины и перспективы. 17 ноября 1969 г.
3 АВП РФ. Ф. 0579. Оп 11. П. 14. Д. 7. Л. 7. II Африканский отдел МИД СССР. Советско-нигерийские отношения. (Краткая справка). 18 октября 1967 г.
4 АВП РФ. Ф. 0579. Оп 11. П. 14. Д. 7. Л. 12. II Африканский отдел МИД СССР. Советско-нигерийские отношения. (Краткая справка). 24 ноября 1967 г.
5 АВП РФ. Ф. 0579. Оп. 11. П. 14. Д. 7. Л. 7. II Африканский отдел МИД СССР. Советско-нигерийские отношения. (Краткая справка). 18 октября 1967 г.
6 АВП РФ. Ф. 579. Оп. 11. П. 13. Д. 5. Л. 48, 49. Студент Киевского государственного университета Нуанчуку С. Океке и др. — Министерство высшего и среднего специального образования СССР. Копии: Министерство иностранных дел СССР, ВЦСПС, Общество солидарности с народами борющейся Азии и Африки (правильно: Советский комитет солидарности стран Азии и Африки. — Прим. авт.), Комитету советских женщин. Меморандум от биафранского землячества в СССР по вопросу войны между Нигерией и Биафрой со ссылкой на деятельность биафранско-нигерийского землячества в СССР. 24 марта 1968 г. (далее — Меморандум).
7 АВП РФ. Ф. 579. Оп. 10. П. 12. Д. 3. Л. 28. Из дневника Караваева Б.И. Запись беседы с послом Федеративной Республики Нигерия Дж. Т. Курубо. 11 декабря 1967 г.
8 АВП РФ. Ф. 579. Оп. 11. П. 13. Д. 5. Л. 49. Меморандум.
9 Там же. Л. 48, 51.
10 АВП РФ. Ф. 579. Оп. 11. П. 14. Д. 12. Л. 20—21. Ректор УДН С.В. Румянцев — заместителю министра высшего и среднего специального образования СССР Н.Н. Софинскому. 5 октября 1967 г.
11 АВП РФ. Ф. 579. Оп. 11. П. 13. Д. 5. Л. 52—53. Меморандум.
12 АВП РФ. Ф. 579. Оп. 11. П. 14. Д. 12. Л. 26.
13 Там же. Л. 25.
14 АВП РФ. Ф. 579. Оп. 11. П. 14. Д. 12. Л. 30—31. Запись беседы начальника группы учета студенческих кадров Клушина М.Ф. с выпускником факультета экономики и права Окечукву Эмоди (Нигерия). 10 сентября 1967 г.
15 АВП РФ. Ф. 579. Оп. 11. П. 14. Д. 12. Л. 28—29. Румянцев — Софинскому. 14 сентября 1967 г.
16 АВП РФ. Ф. 579. Оп. 11. П. 14. Д. 12. Л. 27. Софинский — Малику. 22 сентября 1967 г.
17 АВП РФ. Ф. 579. Оп. 10. П. 12. Д. 3. Л. 28—30. Запись беседы Караваева с Курубо. 11 декабря 1967 г.
18 АВП РФ. Ф. 579. Оп. 13. П. 17. Д. 8. Л. 62—63. Н.Н. Софинский — Заместителю министра иностранных дел СССР Л.Ф. Ильичеву. 23 июня 1969 г.
19 АВП РФ. Ф. 579. Оп. 13. П. 17. Д. 8. Л. 64. Ильичев — Софинскому. 25 июня 1969 г.
20 АВП РФ. Ф. 579. Оп. 10. П. 12. Д. 5. Л. 112—113. Практикант посольства СССР в Нигерии А. Буевич. Обзор нигерийской прессы за период с 7.XI.—9.XII.67 г. 12 декабря 1967 г.
21 АВП РФ. Ф. 579. Оп. 11. П. 13. Д. 5. Л. 33—39. Biafrian Bureau for Human Relations USSR (BBHRU) — The Chairman, Soviet Council of Ministers. Published by Biafrian students, USSR. “Our Humble Appeal”. 25 марта 1968 г.
22 Там же.
23 Там же.
24 Коршунов Е. Там, за рекой Нигер // За рубежом. 1967. № 24. 9—15 июня. С. 16—17.
25 АВП РФ. Ф. 0579. Оп. 11. П. 14. Д. 7. Л. 91, 97—98. [Советник посольства СССР в Нигерии] А. Красов, [Второй секретарь посольства СССР в Нигерии] Ю. Дедов «Отчет о поездке в Восточную Нигерию с лекциями о Советском Союзе». 11 мая 1967 г.
26 АВП РФ. Ф. 047. Д. 49. П. 193. Л. 112. И.о. директора Института Африки АН СССР Г.Б. Старушенко — Заместителю министра иностранных дел СССР Я.А. Малику. Аналитическая справка «Африка после переворотов». 8 сентября 1966 г.
27 АВП РФ. Ф. 0579. Оп. 11. П. 14. Д. 7. Л. 45. Проект постановления ЦК КПСС «О записке МИД СССР по Нигерии». 23 мая 1967 г.
28 АВП РФ. Ф. 0579. Оп. 11. П. 14. Д. 7. Л. 41—44. А. Громыко — ЦК КПСС. 22 мая 1967 г.
29 Там же.
30 Там же.
31 АВП РФ. Ф. 0579. Оп. 11. П. 14. Д. 7. Л. 41—44. А. Громыко — ЦК КПСС. 22 мая 1967 г.
32 Там же.
33 Коршунов Е. Там, за рекой Нигер // За рубежом. 1967. № 24. 9—15 июня. С. 17.
34 АВП РФ. Ф. 0579. Оп 11. П. 14. Д. 7. Л. 33. Посол СССР в Нигерии А. Романов — министру иностранных дел СССР А.А. Громыко. О некоторых соображениях по дальнейшему развитию советско-нигерийских отношений. 31 августа 1967 г.
Об авторах
Сергей Васильевич Мазов
Институт всеобщей истории РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: s.mazov@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-6502-751X
доктор исторических наук, главный научный сотрудник Центра африканских исследований
Москва, Российская ФедерацияСписок литературы
- Иванова Л.В., Мазов С.В. Африканские студенты в СССР, 1960-е гг. // Африка в судьбе России, Россия в судьбе Африки / под ред. А.С. Балезина, А.Б. Давидсона, С.В. Мазова. М.: Политическая энциклопедия, 2019. С. 430-482.
- Катсакиорис К. Африканские студенты в СССР. Учеба и политика во время деколонизации, 1960-е годы // Социальная история. Ежегодник 2008 / отв. ред. Н.Л. Пушкарева. СПб.: Алетейя, 2008. С. 209-228.
- Мазов С.В. Воспитывать «людей с прогрессивными взглядами, искренних друзей Советского Союза». Государственная политика в отношении обучавшихся в СССР африканцев, первая половина 1960-х годов // Pax Africana: континент и диаспора в поисках себя: сборник научных статей / отв. ред. А.Б. Давидсон. М.: Издательский дом Государственного университета - Высшей школы экономики, 2009. С. 331-432.
- Мазов С.В. Политика СССР в Западной Африке, 1956-1964. Неизвестные страницы истории холодной войны. М.: Наука, 2008.
- Россия и Африка. Документы и материалы. XVIII в. - 1960 г.: в 2 т. Т. 2: 1918-1960 гг. / под ред. А.Б. Давидсона, С.В. Мазова. М.: ИВИ РАН, 1999.
- Červenka, Z. (1971). The Nigerian war 1967-1970. History of the war. Selected bibliography and documents. Frankfurt am Main: Bernard & Graefe Verlag Für Wehrwesen.
- De Saint Martin, M., Ghellab, G. S., & Mellakh, K. (Eds.). (2015). Étudier à l’Est. Expériences de diplômés africains. Paris: Karthala.
- De St. Jorre, J. (1972). The brothers’ war. Biafra and Nigeria. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Forsyth, F. (2015). The Biafra story. The making of an African legend. Barnsley, UK: Pen & Sword.
- Hessler, J. (2006). Death of an African student in Moscow. Race, politics, and the Cold War. Cahiers du monde russe, 47(1-2), 33-63. https://doi.org/10.4000/monderusse.9591
- Katsakioris, C. (2019a). The Lumumba University in Moscow: Higher education for a Soviet-Third World alliance, 1960-91. Journal of Global History, 14(2), 281-300. https://doi.org/10.1017/S174002281900007X
- Katsakioris, C. (2019b). Nationalismes dans la patrie du socialisme: Mobilisations nationales des étudiants du tiers-monde en Union soviétique. Diasporas. Circulations, Migrations, Histoire, (34), 91-108. https://doi.org/10.4000/diasporas.4387
- Kirk-Greene, A. H. M. (1971). Crisis and conflict in Nigeria: A documentary sourcebook 1966-1969. Vol. I: January 1966 - July 1967. New York: Oxford University Press.
- Legvold, R. (1970). Soviet policy in West Africa. Cambridge, Mass.: Harvard University Press.
- Matusevich, M. (2003). No easy row for a Russian hoe: Ideology and pragmatism in Nigerian-Soviet relations, 1960-1991. Trenton, NJ: Africa World Press.
- Matusevich, M. (2008). Journeys of hope: African diaspora and the Soviet society. African Diaspora, 1(1-2), 53-85. https://doi.org/10.1163/187254608X346033
- Stremlau, J. (1977). The international politics of the Nigerian Civil War, 1967-1970. Princeton: Princeton University Press