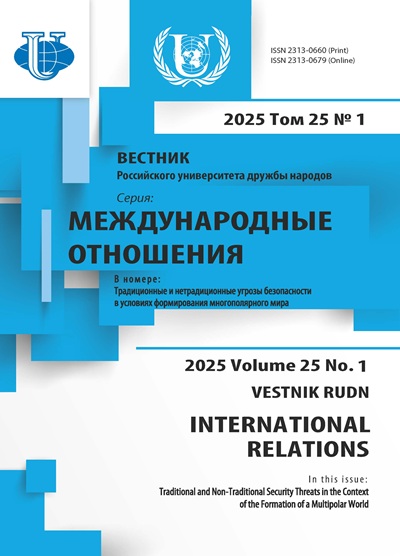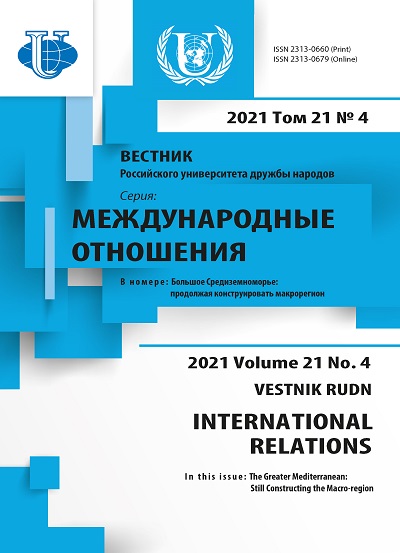Проблема энергетической безопасности в контексте мирового «энергетического перехода»
- Авторы: Боровский Ю.В.1
-
Учреждения:
- Московский государственный институт международных отношений МИД России
- Выпуск: Том 21, № 4 (2021): Большое Средиземноморье: продолжая конструировать макрорегион
- Страницы: 772-784
- Раздел: МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
- URL: https://journals.rudn.ru/international-relations/article/view/29820
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-0660-2021-21-4-772-784
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В начале 2020-х гг. переход международного сообщества от углеродоемкой к климатически нейтральной энергетике уже является объективным, труднообратимым процессом. В результате избрания Дж. Байдена на пост президента США не только вернулись в Парижское соглашение по климату, но и стали (наряду с ЕС и КНР) ключевым драйвером этого процесса. В результате в мире сложился консенсус относительно «энергетического перехода»: этот процесс потребует немалых усилий и может занять несколько десятилетий. Тем не менее уже сегодня актуальным является вопрос, как «энергетический переход» повлияет на традиционные подходы государств к обеспечению энергетической безопасности, которые во многом сформировались в контексте мировых нефтяных кризисов 1970-1980-х гг. и построены вокруг поставок углеродного топлива. Предпринята попытка дать ответ на поставленный вопрос, опираясь на терминологический аппарат теории международных отношений и фактологический материал. Основные выводы исследования можно представить следующим образом. «Энергетический переход» в конечном итоге обесценит «углеродную парадигму», с 1970-х гг. лежащую в основе государственной политики обеспечения энергетической безопасности. Широкомасштабное внедрение возобновляемых и иных низкоуглеродных источников энергии снимет ключевые риски для стран - импортеров нефти, газа и угля и, возможно, позволит достичь им энергетической независимости. Однако не исключено появление новых рисков, порожденных постуглеродной эпохой. Для стран, экономика которых зависит от экспорта углеводородов, «энергетический переход» может обернуться не только утратой привычных рынков сбыта и значительной части доходов, но и новыми вызовами в области энергетической безопасности. Они связаны с высокими финансовыми и технологическими издержками декарбонизации энергетики, в том числе из-за риска введения санкций против стран-экспортеров. Для некоторых экспортеров, особенно с высокой долей топливной ренты в ВВП и недостаточными финансовыми резервами, «энергетический переход» может также обернуться серьезными социально-экономическими и политическими потрясениями. В усилиях ЕС и США, касающихся «энергетического перехода», отражаются положения всех трех основополагающих теорий международных отношений, в том числе реалистской. Это дает основания ожидать довольно жесткой и агрессивной политики Брюсселя и Вашингтона, направленной на глобальное продвижение климатической повестки, что является дополнительным вызовом для других государств. КНР как третий ключевой драйвер «энергетического перехода» пока придерживается либерального курса, который, однако, может измениться в будущем.
Ключевые слова
Полный текст
Введение
Ресурсно-сырьевой и технологический уклад мировой энергетики, в рамках которого международное сообщество опирается главным образом на ископаемое углеродное топливо, сложился в XIX—XX вв. (Smil, 2010) и сохранится в качестве превалирующего еще несколько десятилетий. На его смену придет постуглеродный — таков консенсус-прогноз ведущих аналитических центров1. Несмотря на то что в 2019 г. в мировом энергобалансе на нефть, газ и уголь приходилось еще 84 %2, к концу 2010 — началу 2020-х гг. движение человечества к преимущественно безуглеродной, «зеленой» энергетике существенно ускорилось. В нем принимают участие все 193 страны — члена ООН и Европейский союз, подписавшие Рамочную конвенцию об изменении климата и Парижское соглашение по климату. Они фактически согласились с тем доводом, что глобальное потепление, грозящее миру катастрофическими последствиями, вызвано антропогенными выбросами парниковых газов (ПГ). Их радикальное сокращение возможно только при условии сведения к минимуму потребления ископаемых углеродных ресурсов или их углеродного следа.
На фоне набирающего обороты «энергетического перехода» особенно актуальным является вопрос, какое воздействие вероятные фундаментальные трансформации мировой экономики и энергетики окажут на энергетическую безопасность стран мира, уже много десятилетий базирующуюся на «углеродной парадигме». Соответственно, цель данного исследования — обозначить ключевые процессы, связанные с движением человечества к низкоуглеродной, климатически нейтральной энергетике, а также рассмотреть их в качестве потенциальных вызовов современным практикам государств в области энергетической безопасности.
Терминологически-теоретический базис
Термин «энергетическая безопасность» (energy security) получил широкое распространение в 1970—1980-х гг., когда произошли первые мировые нефтяные кризисы3, и отражает зависимость мировой экономики и отдельных стран от ископаемого углеродного топлива (Sovacool, 2011; Борисов, 2020). С тех пор в международном сообществе энергетическая безопасность рассматривается в трех трактовках.
Страны, не располагающие собственными запасами нефти, газа и угля, склонны отождествлять энергетическую безопасность с безопасностью энергоснабжения (security of energy supply) (Winzer, 2011) и энергетической независимостью (energy independence) (Hakes, 2015). В первом случае речь идет о гарантированных, достаточных по объему и приемлемых по цене поставках импортных углеродных энергоносителей. Для решения этой задачи используется целый набор инструментов: от диверсификации поставщиков и маршрутов поставок и создания стратегических запасов до выстраивания «особых отношений» с экспортерами и даже применения силы. Во втором — об энергетической самодостаточности или энергетическом суверенитете, то есть о способности страны опираться на собственные источники энергии, а не на импорт (Schelly et al., 2020). Государства, которые, напротив, располагают топливными ресурсами в объемах, достаточных не только для удовлетворения собственных нужд, но и экспорта, рассматривают энергетическую безопасность как безопасность спроса на энергию (security of energy demand). Приоритетом для них является гарантированный, приемлемый по объему и цене сбыт углеродных энергоносителей на внешних рынках (Romanova, 2013).
Термин «энергетический переход» (energy transition) был предложен и разработан чешско-канадским ученым В. Шмилом (Smil, 2010). Под «энергетическим переходом» следует понимать постепенную трансформацию системы энергообеспечения мира. Главной особенностью текущего «энергетического перехода» является то, что международное сообщество во главу угла ставит не экономические и технологические, как это было раньше, а экологические приоритеты. Как следствие — огромные разведанные и неразведанные нефтегазовые и угольные запасы планеты, в том числе в Арктическом регионе, фактически объявлены «нежеланными» и даже опасными с точки зрения их пагубного влияния на климат и окружающую среду.
Главный лейтмотив современного «энергетического перехода» — декарбонизация мировой энергетики во что бы то ни стало, поскольку на кону, согласно международному консенсусу, судьба всего человечества и Земли, которые могут серьезно пострадать в результате изменения климата (Sovacool, 2021). Если взять в качестве ориентира соотношение доказанных запасов нефти к текущим показателям добычи, то среди ведущих экспортеров в наибольшей степени от такого подхода пострадают страны ОПЕК, Канада и Казахстан. Их запасов хватило бы соответственно на 94, 83 и 43 года. У России, США, Бразилии и Норвегии аналогичные показатели скромнее — 25, 11, 12 и 13 лет соответственно4.
Основополагающие теории международных отношений в их классических и современных трактовках позволяют интерпретировать политику государств и межгосударственных объединений в области энергетической безопасности и «энергетического перехода». Согласно реалистской парадигме, государства видят в энергетике источник своей политической силы или, напротив, слабости в международном контексте (Luft & Korin, 2009). При этом они могут придерживаться либо оборонительной, либо наступательной линии поведения.
Оборонительная линия поведения касается исключительно стран-импортеров, которые склонны резервировать дефицитные энергоносители на экстренный случай, диверсифицировать источники и маршруты их поставки, искать им доступную альтернативу (например, в виде возобновляемых источников энергии, ВИЭ), заниматься энергосбережением, принимать «защитные» национальные законы, формировать альянсы для совместного противодействия угрозам в энергетической сфере и т. д.
Наступательная линия поведения может быть свойственна как государствам-импортерам, так и экспортерам. Они могут вводить запреты на поставку или покупку энергоносителей, пытаться силовым путем получить доступ к зарубежным энергоресурсам, применять санкции в отношении топливно-энергетических комплексов (ТЭК) других стран, заниматься льготным или дискриминационным энергоснабжением своих политических партнеров или соперников (Česnakas, 2010).
Однако задача-максимум любого государства, критически зависимого от импорта энергии, — достижение энергетической независимости или обеспечение энергетического суверенитета (Schelly et al., 2020). Только тогда, с точки зрения политического реализма, оно сможет быть относительно полноценным и неуязвимым игроком на международной арене. Продолжая эту логику, следует допускать, что декарбонизация энергоснабжения в контексте решения климатической проблемы должна восприниматься реалистами как возможность для государств, критически зависимых от импорта нефти, газа или угля, достичь энергетической независимости (Luft, Korin & Gupta, 2011).
Для сторонников либеральной парадигмы энергетика — это сфера экономических отношений, которая должна развиваться в логике свободного рынка, а также поле для взаимовыгодного сотрудничества. Государственное или наднациональное вмешательство в энергетику допускается либералами, но только для развития и защиты рыночных отношений. В отличие от реалистов либералы не только не озабочены проблемой зависимости государств от импортных углеводородов, но и видят особую ценность во взаимозависимости между экспортерами и импортерами, которая, по их мнению, способствует стабилизации международных отношений (Luft & Korin, 2009). В вопросах международной безопасности либерализм основывается на идее коллективной безопасности, особенно при возникновении новых глобальных вызовов (Худайкулова, 2020). Даже приверженцы американского гегемонизма понимают, что США в одиночку не могут решить ключевые глобальные проблемы (Dunford & Qi, 2020). Таким образом, в числе приоритетов «либералов» находится именно коллективное обеспечение энергетической безопасности, а также решение проблемы глобального потепления.
Последователи конструктивизма исходят из того, что основные характеристики международных отношений, в том числе касающиеся энергобезопасности и изменения климата, являются в большей степени продуктом субъективной интерпретации реальности конкретными участниками международных процессов в конкретный период времени (Ozcan, 2013). В центре конструктивистских теоретических построений находится секьюритизация, или процесс, в ходе которого некий вопрос, явление или актор политизируются и начинают восприниматься участниками международных отношений в качестве угрозы их безопасности. При этом проблемные рамки безопасности могут охватывать самые разные области, включая экономику, энергетику или экологию (Buzan & Hansen, 2009; Гайдаев, 2021). В этом смысле конструктивистский подход, в отличие от реалистского и либерального, позволяет фокусировать анализ непосредственно на энергетической и климатической проблематике (Heinrich & Szulecki, 2019; Grant, Crim & Jensen, 2015).
Ключевые процессы текущего «энергетического перехода»
Почти 140 государств (страны ЕС, США, КНР, Россия, Великобритания, Канада, Япония, Бразилия, Саудовская Аравия и др.)5, а также около 3 тысяч транснациональных компаний уже поставили перед собой цель достичь чистой углеродной нейтральности6 к середине текущего столетия или раньше. По всему миру запущено свыше 60 систем торговли выбросами парниковых газов межгосударственного, национального и субнационального уровней; около 30 стран и 9 регионов ввели углеродные налоги7. Для подсчета углеродного следа правительства согласились с методикой ООН, корпоративный мир — с GHG Protocol или правилами, разработанными западными неправительственными институтами. Хотя многие государства и компании еще не пообещали стать углеродно-нейтральными к середине века, они также начали задумываться о сокращении своего углеродного следа, декларируя определенные планы и цели. Это касается в том числе других стран, чьи доходы в значительной степени связаны с экспортом углеродных энергоресурсов8.
Конечно, текущий «энергетический переход» в немалой степени стал саморазвивающимся процессом, однако его главными драйверами являются ЕС, США и КНР, от которых во многом зависит судьба всего этого начинания (Froggatt & Quiggin, 2021; Гаранина, 2021).
В декабре 2019 г. новый состав Еврокомиссии во главе с У. фон дер Ляйен, провозгласив «Европейский зеленый курс» (European Green Deal)9, запустил процесс фундаментальной перестройки всей жизнедеятельности ЕС, установив в качестве цели чистое энергоснабжение и углеродную нейтральность не позднее 2050 г. (Гаранина, 2021). То есть в ближайшие десятилетия странам-членам предложено практически полностью отказаться от ископаемого углеродного топлива. Уже к 2030 г. выбросы ПГ в ЕС должны составлять не более 55 % от уровня 1990 г.10
В рамках «зеленого курса» Брюссель предложил другим государствам сотрудничать с Европейским союзом и следовать его примеру. Для защиты общеевропейской экономики от дешевого импорта из стран, не ставящих перед собой столь же амбициозных задач в области чистой энергетики и климата, ЕС внедрит специальные компенсирующие механизмы (например, углеродные налоги), которые, без сомнения, ощутимо ударят по «незеленым» экспортерам, в том числе нефти и газа11. Однако эта мера, помимо ее основных защитных функций, позволит Брюсселю побуждать торговых партнеров ЕС также стремиться к углеродной нейтральности.
Тем же путем, что и ЕС, пытаются следовать Соединенные Штаты Америки. Однако для них главным препятствием является то обстоятельство, что в стране традиционно присутствуют две политические силы — Демократическая и Республиканская партии. Они совершенно по-разному подходят к проблеме «энергетического перехода» и изменения климата (Chinn et al., 2020).
Республиканец Д. Трамп, сменивший демократа Б. Обаму в качестве главы Белого дома, в корне не согласился с курсом предшественника. Своим решением он вывел США из Парижского соглашения по климату (ПСК) и на протяжении своего президентского срока оказывал всевозможную поддержку нефтегазовой и угольной промышленности страны, отказавшись от планов достижения углеродной нейтральности. Однако торжество республиканцев было недолгим. Дж. Байден, выигравший выборы в 2020 г., уже в самом начале 2021 г. распорядился вернуть страну в ПСК. Пользуясь своими президентскими полномочиями, а также получением демократами контроля над обеими палатами Конгресса, он решил пойти гораздо дальше своих предшественников из Демократической партии.
В январе 2021 г. Дж. Байден подписал правительственное распоряжение12, в котором преодоление глобального климатического кризиса впервые было определено в качестве одного из приоритетов внешней политики и национальной безопасности США. Данное решение мотивировалось тем, что глобальное изменение климата стало проблемой, неспособность решить которую поставит Соединенные Штаты и все человечество перед угрозой катастрофических последствий. Согласно документу, США ставят перед собой две стратегические цели: достичь чистых нулевых выбросов ПГ не позднее 2050 г. и создать полностью безуглеродную электроэнергетику не позднее 2035 г. Вашингтон также заявлял о намерении всячески стимулировать международные усилия в области «энергетического перехода». В январе 2021 г. президент Байден приостановил выдачу новых лицензий на бурение нефтяных и газовых скважин на американских федеральных землях, а в апреле 2021 г. дополнительно объявил, что уже к 2030 г. США сократят выбросы ПГ по крайней мере вдвое по сравнению с уровнем 2005 г.13
В упомянутом январском распоряжении Дж. Байден призвал всех прислушиваться к научным оценкам климатических изменений14. Многие американские мозговые центры (Center for American Progress, Center for Strategic and International Studies, Center for Climate and Security, Center for a New American Security и др.) дают алармистские прогнозы относительно влияния глобального потепления, в особенности на США (засуха, дефицит пресной воды, деградация сельского хозяйства, продовольственный кризис, затопление прибрежных территорий, климатическая миграция, стихийные бедствия и т. д.)15, а также полагают, что «изменение климата является важнейшим компонентом соперничества США с Китаем и Россией»16. Причем Россия, по мнению американских стратегов, может, напротив, существенно выиграть от глобального потепления (таяние вечной мерзлоты и расширение пахотных земель, рост урожайности растительных культур, изобилие пресной воды, приток мигрантов, освоение Арктики и использование Северного морского пути)17.
В ряде исследований к числу стран — драйверов глобальной климатической гонки и «энергетического перехода» относят Китай (Гаранина, 2021), который до 2011 г. категорически отказывался брать на себя какие-либо обязательства по ограничению выбросов и даже настаивал на том, чтобы развитые страны признали свою историческую ответственность за изменение климата Земли, но затем фактически стал конкурентом ЕС и США в движении к углеродной нейтральности. В 13-м пятилетнем плане (2016—2021 гг.) экологическая модернизация была включена в число семи приоритетных направлений развития страны (Ковалев, Поршнева, 2021). В апреле 2021 г. лидер КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай достигнет самого значительного в мире сокращения интенсивности выбросов углерода, причем в беспрецедентно короткие сроки18. Подчеркивая важность двустороннего и многостороннего сотрудничества в области «энергетического перехода», Пекин пообещал достичь пика выбросов ПГ к 2030 г., а углеродной нейтральности — к 2060 г.19, несмотря на масштабы своей экономики и сильную зависимость от углеродного топлива (Бобылев, Барабошкина, Джу, 2020).
«Энергетический переход» как новый вызов энергетической безопасности
Переход человечества к климатически нейтральной энергетике не может не воздействовать на традиционные подходы государств к обеспечению энергетической безопасности, которые во многом сформировались в контексте мировых нефтяных кризисов 1970—1980-х гг. и построены вокруг поставок углеродного топлива, нередко политизированных (Sovacool, 2011). При этом если разделить мир на государства, преимущественно импортирующие или экспортирующие углеродное топливо, интерпретация понятия «энергетическая безопасность» приобретает дополнительные нюансы.
Импортеры, переходя на доступные им климатически нейтральные, низкоуглеродные источники энергии (например, ветряные или солнечные), меньше зависят от импорта топливных ресурсов, и значит, увеличивают безопасность своего энергоснабжения в традиционном смысле. В конечном итоге они могут добиться энергетической независимости, когда им больше не нужно будет думать о диверсификации поставщиков и маршрутов поставок углеродного топлива, создавать его стратегические запасы, налаживать «особые отношения» с экспортерами и проч. (Hakes, 2015). Подобная логика вполне очевидна, хотя нельзя исключать, что текущий «энергетический переход» принесет нынешним странам-импортерам новые проблемы и вызовы, включая существенное удорожание энергии, обременительную и политизированную зависимость от импортных редкоземельных металлов (литий, никель, кобальт и др.), оборудования, технологий и услуг, необходимых для электрификации, цифровизации и декарбонизации энергетики. Иными словами, нет никаких гарантий трансформации экологичности и углеродной нейтральности в энергетическую безопасность и тем более энергетическую независимость (Axon & Darton, 2021; Борисов, 2020).
Экспортеры при общемировом переходе на потребление углеродно-нейтральной энергии, напротив, лишаются привычных рынков сбыта и экспортной выручки, порой невосполнимой, а также сталкиваются с необходимостью декарбонизации и кардинальной трансформации энергетики, что требует от них как существенных финансовых средств, так и технологий. Им также могут грозить удорожание энергии, а также обременительная и политизированная зависимость от импорта сырья, технологий и услуг, связанных с «зеленой», низкоуглеродной энергетикой. В случае сохранения опоры на собственное доступное и недорогое углеродное топливо есть также риск столкнуться не только с международным порицанием, но и высокими углеродными налогами и даже жесткими санкциями со стороны лидеров «энергетического перехода»20. Данные риски уже не носят исключительно теоретический характер, а во многом осознаны ведущими экспортерами, о чем, в частности, свидетельствует Доктрина энергетической безопасности РФ от 2019 г.21
С точки зрения экономики государства, экспортирующие углеродное топливо, обладают неодинаковой степенью готовности к осуществлению «энергетического перехода». В исследовании, опубликованном IRENA и основанном на данных Всемирного банка, страны подразделены на четыре группы. К группе 1 относятся государства, у которых отношение топливной ренты к ВВП превышает 20 %, а финансовых резервов недостаточно для декарбонизации энергетики и диверсификации экономики (Ливия, Ангола, Республика Конго, Восточный Тимор, Южный Судан и др.). В группу 2 входят государства, где топливная рента также превышает 20 % ВВП, но имеются финансовые возможности для кардинальной перестройки энергетики и экономики (Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и др.). К группе 3 принадлежат страны, у которых топливная рента по отношению к ВВП составляет менее 20 %, а экономика уже достаточно диверсифицирована и критически не зависит от экспорта углеродного сырья (Россия, Иран, Алжир, Казахстан, Венесуэла и др.). И наконец, группа 4 представлена государствами с топливной рентой менее 10 % ВВП и достаточно диверсифицированной экономикой (Малайзия, Бахрейн, Колумбия, Норвегия и др.)22.
Как видно, только страны первой группы могут с большой долей вероятности столкнуться с экономическими и социальными потрясениями, чреватыми политическими последствиями. Государства из других групп способны осуществить «энергетический переход», сохранив экономическую стабильность.
В других исследованиях ключевым индикатором служит доля доходов от экспорта углеводородов в финансировании социальных программ, в том числе с учетом себестоимости добычи, что важно в условиях прогнозируемого снижения цен на топливные ресурсы на фоне «энергетического перехода». В этом смысле наиболее уязвимыми признаются такие страны, как Ливия и Венесуэла (Goldthau & Westphal, 2019).
В целом нынешний «энергетический переход» может деполитизировать и десекьюритизировать мировую систему энергоснабжения, существенно ослабив традиционные угрозы энергетической безопасности (одностороннее прекращение поставок, ценовой сговор, уязвимость транзита и морской транспортировки, пиратство и т. д.). Как только в основе мировой энергетики окажутся технологии, а не ископаемые ресурсы, последние перестанут быть ключевым фактором мировой политики и геополитики (Борисов, 2020). Однако такой сценарий возможен только в случае, если не появятся новые политические риски, связанные уже с постуглеродным энергоснабжением (Goldthau & Westphal, 2019).
Нельзя исключать, что по мере «энергетического перехода» параллельно со снижением геополитической значимости стран — экспортеров углеводородов будет расти роль экспортеров редкоземельных металлов, а также государств — лидеров в развитии возобновляемой энергетики. Более того, основная уязвимость (в том числе с политической точки зрения) мирового энергоснабжения перейдет из реального (например, транзит нефти и газа через Ормузский пролив или Украину) в киберпространство (Борисов, 2020), поскольку к 2050 г. в силу развития ВИЭ за счет электричества будет удовлетворяться половина, а возможно, бóльшая часть потребностей человечества в энергии23.
Если говорить о вызовах «энергетического перехода», исходящих непосредственно от главных драйверов этого процесса, то прослеживается следующая логика. В подходах ЕС к «энергетическому переходу» можно усмотреть положения сразу трех основополагающих теорий международных отношений.
С одной стороны, намерение Брюсселя добиться экологически чистого и климатически нейтрального энергоснабжения связано с секьюритизацией глобального изменения климата и деградацией экологии. После Парижского климатического саммита 2015 г. цель достижения углеродной нейтральности была поставлена подавляющим большинством стран мира. В этом смысле климатическая политика ЕС может не иметь скрытой политической повестки.
С другой стороны, готовность Европейского союза решать проблему «энергетического перехода» в сотрудничестве с другими участниками международных отношений, а также с учетом рыночных принципов (Froggatt & Quiggin, 2021) недвусмысленно говорит о его приверженности либеральным установкам. Вместе с тем для ЕС, почти на 85 % (по состоянию на 2019 г.) зависящего от импорта нефти, газа и угля24, стремление к углеродной нейтральности означает автоматическое решение проблемы энергетической безопасности или безопасности энергоснабжения в традиционном ее понимании. Сократив эту зависимость, Европейский союз сможет стать полноценным международным игроком, способным продвигать свою политическую линию без оглядки на экспортеров топливных ресурсов, что уже соответствует установкам реалистской парадигмы. Такая трактовка «энергетического перехода» вполне может допускать жесткость, принципиальность и даже агрессивность Брюсселя в продвижении своего «зеленого» курса в отношении третьих стран и их энергетической безопасности (Гаранина, 2021).
При президенте Дж. Байдене Вашингтон стал активно лоббировать переход США и всего мира к климатически нейтральной энергетике, в чем можно усмотреть определенный парадокс. Еще с 1970-х гг. (период мировых нефтяных кризисов) Соединенные Штаты приоритизируют обеспечение собственной энергетической безопасности, обычно трактуемой в смысле энергетической независимости (Hakes, 2015). В американских правящих кругах как республиканского, так и демократического толка факт критической зависимости США от импорта углеводородов, особенно из нестабильных и тем более враждебных стран, традиционно воспринимается в качестве стратегической угрозы. Такой подход к энергетической безопасности страны в большей мере соответствует реалистской парадигме, поскольку, с точки зрения «либералов», взаимозависимость любого характера, в том числе в энергетике, способствует стабилизации международных отношений (Harsem & Claes, 2013).
Благодаря сланцевой революции конца 2000-х гг. Соединенные Штаты не только обрели долгожданную энергетическую независимость, но и стали превращаться в доминирующего игрока на мировых нефтегазовых рынках. Если республиканец Д. Трамп и его предшественник демократ Б. Обама всячески этому способствовали, то демократ Дж. Байден выбрал другой подход к энергетической безопасности страны — через отказ от углеродного топлива и форсированное развитие «зеленой» энергетики (такая перестройка детально изложена в Американском плане создания рабочих мест25), невзирая на наличие в США существенных запасов нефти, газа и угля. Этот шаг фактически расколол американскую элиту и общество. Большинство республиканцев предпочли остаться в рамках традиционной парадигмы энергетической безопасности, кажущейся им выигрышной в свете случившейся «сланцевой революции». Большинство демократов сделали ставку на развитие страны без опоры на углеродное топливо, осознавая серьезность климатических рисков, с которыми она может столкнуться26.
Налицо торжество конструктивистской парадигмы: демократическая команда Дж. Байдена, вероятно, прислушалась к алармистским прогнозам части научного сообщества и фактически секьюритизировала проблему планетарного изменения климата в США, с чем не согласились многие республиканцы. Следовательно, если не выходить за рамки конструктивизма, нет необходимости искать в текущей климатической политике США скрытые политические вызовы для других участников международных отношений. Обращает на себя внимание и ставка администрации Дж. Байдена в духе либеральной теории на международное сотрудничество в осуществлении «энергетического перехода», о чем, в частности, свидетельствует организованный ею Климатический саммит лидеров в апреле 2021 г.
Тем не менее правящие демократы, сделав своим ключевым приоритетом борьбу с климатическими рисками, не планируют отказываться от энергетической независимости США и их доминирующего положения на мировой арене, правда уже в новой постуглеродной реальности27. При этом в Вашингтоне понимают, что переход всего человечества на углеродно-нейтральную энергетику лишит недружественных Америке экспортеров углеродного топлива, прежде всего Россию, Иран и Венесуэлу, важного источника доходов и геополитического ресурса. Они наверняка учитывают, что в долгосрочном плане глобальное потепление может привести к стратегическому ослаблению США и усилению России. В этом смысле политику Дж. Байдена в области «энергетического перехода» и климата трудно отделить от политического реализма. Следовательно, в будущем она вполне может обрести жесткий и бескомпромиссный характер (Гаранина, 2021). В этой связи интересно, что президент Дж. Байден намерен поручить Госдепартаменту выпускать ежегодный Отчет о глобальном изменении климата (Global Climate Change Report), в котором будет даваться оценка соответствующей политики всех государств. Не исключено, что выводы Госдепартамента станут обоснованием для введения санкций или углеродных налогов, что станет серьезным вызовом для других стран, в том числе в области энергетической безопасности28.
КНР, которая, подобно ЕС, сильно зависит от нефтегазового импорта и не может, как США, рассчитывать на «сланцевую революцию», видит в «энергетическом переходе» реальный шанс не только обрести энергетическую независимость, но и решить по-настоящему острые экологические проблемы, а также реализовать собственный инновационный потенциал (Бобылев, Барабошкина, Джу, 2020). Пока Пекин явно делает ставку на сотрудничество и конструктивный диалог в соответствии с либеральной парадигмой, что, однако, в будущем может измениться.
Заключение
Представляется, что в течение нескольких десятилетий «энергетический переход» может снизить значимость «углеродной парадигмы», которая с 1970-х гг. определяет политику государств в области энергетической безопасности. Рост потребления энергии из возобновляемых и иных низкоуглеродных источников может привести к снижению ключевых рисков, с которыми сегодня сталкиваются импортеры нефти, газа и угля и, возможно, позволит им стать энергетически независимыми.
Однако не исключен сценарий, когда на смену рискам, связанным с поставками углеродного топлива, придут новые, порожденные постуглеродной эпохой. Для стран, экономика которых в значительной степени зависит от экспорта углеродных энергоресурсов, «энергетический переход» не только приведет к потере традиционных рынков сбыта и доходов, но и может вынудить их проводить затратную и технологически сложную декарбонизацию энергетики в том числе для того, чтобы избежать возможных санкций. Для ряда стран-экспортеров, особенно с высокой топливной рентой в ВВП и недостаточными финансовыми резервами, он может также обернуться социально-экономи-ческими и политическими потрясениями.
В политике ЕС и США в области «энергического перехода» отражены положения всех трех рассматриваемых теорий международных отношений, в том числе реалистской. Это означает, что их политика на этом направлении может быть жесткой и агрессивной, что станет серьезным дополнительным вызовом для остальных стран и их энергетической безопасности. Китай, будучи третьим ключевым драйвером «энергетического перехода», пока привержен либеральному курсу, что, однако, может измениться в будущем.
1 См.: Energy Outlook: 2020 Edition // BP. 2020. URL: https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/energy-outlook/bp-energy-outlook-2020.pdf (accessed: 28.06.2021); World Energy Outlook 2020 // International Energy Agency. 2020. URL: https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2020 (accessed: 28.06.2021).
2 Statistical Review of World Energy 2020 // BP. 2020. URL: https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2020-full-report.pdf (accessed: 28.06.2021).
3 Два кризиса 1973—1974 гг. и 1979—1981 гг. были связаны с дефицитом и резким подорожанием нефти, от чего серьезно пострадали импортеры, особенно в лице западных стран. Кризис середины — второй половины 1980-х гг., напротив, возник из-за сильного перенасыщения нефтяного рынка и падения цен, что уже ударило по экспортерам.
4 Statistical Review of World Energy 2020 // BP. 2020. URL: https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2020-full-report.pdf (accessed: 28.06.2021).
5 См.: Race to Net Zero: Carbon Neutral Goals by Country // Visual Capitalist. June 8, 2021. URL: https://www.visualcapitalist.com/race-to-net-zero-carbon-neutral-goals-by-country/ (accessed: 28.06.2021); Путин: Россия будет добиваться достижения углеродной нейтральности не позднее 2060 года // ТАСС. 13.10.2021. URL: https://tass.ru/ekonomika/12651091 (дата обращения: 26.10.2021).
6 Чистая углеродная нейтральность — с учетом поглощения углерода природными поглотителями (прежде всего лесами), а также улавливания и захоронения углерода.
7 State and Trends of Carbon Pricing 2021 // World Bank Group. May 25, 2020. URL: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/35620 (accessed: 28.06.2021).
8 Fattouh B. Saudi Oil Policy: Continuity and Change in the Era of the Energy Transition // OIES PAPER. January, 2021. URL: https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2021/01/Saudi-Oil-Policy-Continuity-and-Change-in-the-Era-of-the-Energy-Transtion-WPM-81.pdf (accessed: 28.06.2021).
9 The European Green Deal. Communication from the Commission to the European Parliament, the Council of December 11, 2019. COM (2019), Brussels // European Commission. December 11, 2019. URL: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/european-green-deal-communication_en.pdf (accessed: 28.06.2021).
10 European Climate Law: Council and Parliament Reach Provisional Agreement: Press Release of the Council of the EU, 5 May 2021 // European Council. May 5, 2021. URL: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/05/05/european-climate-law-council-and-parliament-reach-provisional-agreement/ (accessed: 28.06.2021).
11 Morozov M., Danilova E., Loginova V., Yudina T. EU Border Carbon Tax: A Challenge for the Russian Economy // ECONS. December 21, 2020. URL: https://econs.online/en/articles/opinions/eu-border-carbon-tax-a-challenge-for-the-russian-economy/ (accessed: 29.06.2021).
12 U.S. President’s Executive Order on Tackling the Climate Crisis at Home and Abroad // The White House. January 27, 2021. URL: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/27/executive-order-on-tackling-the-climate-crisis-at-home-and-abroad/ (accessed: 29.06.2021).
13 Biden Pledges to Slash Greenhouse Gas Emissions in Half by 2030 // CNBC. April 22, 2021. URL: https://www.cnbc.com/2021/04/22/biden-pledges-to-slash-greenhouse-gas-emissions-in-half-by-2030.html (accessed: 30.06.2021).
14 U.S. President’s Executive Order on Tackling the Climate Crisis at Home and Abroad // The White House. January 27, 2021. URL: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/presidential-actions/2021/01/27/executive-order-on-tackling-the-climate-crisis-at-home-and-abroad/ (accessed: 29.06.2021).
15 См.: A Climate Security Plan for America // The Center for Climate and Security. September, 2009. URL: https://i2.wp.com/climateandsecurity.org/wp-content/uploads/2019/09/a-climate-security-plan-for-america_report-cover.png?ssl=1 (accessed: 30.06.2021); Rickett S, Goldfuss C., Barnes A. The Biden Administration Brings State Climate Leadership to the White House // Center for American Progress. January 19, 2021. URL: https://www.americanprogress.org/issues/green/reports/2021/01/19/494753/biden-administration-brings-state-climate-leadership-white-house/ (accessed: 30.06.2021).
16 Vinci A. Biden’s Intelligence Community Must Focus on Climate Crisis // Breaking Defense. December 15, 2020. URL: https://breakingdefense.com/2020/12/bidens-intelligence-community-must-focus-on-climate-crisis/ (accessed: 01.07.2021).
17 Lustgarten A. How Russia Wins the Climate Crisis // New York Times. December 16, 2020. URL: https://www.nytimes.com/interactive/2020/12/16/magazine/russia-climate-migration-crisis.html (accessed: 01.07.2021).
18 Китай взял курс на «зеленую» экономику // RG.ru. 27.04.2021. URL: https://rg.ru/2021/04/27/mezhdunarodnyj-klimaticheskij-sammit-pokazal-ambicii-knr-v-ekovoprosah.html (дата обращения: 01.07.2021).
19 Energy in China’s New Era // The State Council Information Office of the People’s Republic of China. December, 2020. URL: http://www.scio.gov.cn/zfbps/32832/Document/1695135/1695135.htm (accessed: 02.07.2021).
20 Mulder N. Can ‘Climate Sanctions’ Save the Planet? // The Nation. November 18, 2019. URL: https://www.thenation.com/article/archive/climate-green-new-deal/ (accessed: 02.07.2021).
21 Доктрина энергетической безопасности Российской Федерации. Утверждена указом Президента РФ от 13.05.2019 // Министерство энергетики Российской Федерации. 13.05.2019. URL: https://minenergo.gov.ru/node/14766 (дата обращения: 15.07.2021).
22 A New World: The Geopolitics of the Energy Transformation // International Renewable Energy Agency. January, 2019. URL: https://irena.org/publications/2019/Jan/A-New-World-The-Geopolitics-of-the-Energy-Transformation (accessed: 07.07.2021).
23 Energy Outlook: 2020 Edition // BP. 2020. URL: https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/energy-outlook/bp-energy-outlook-2020.pdf (accessed: 28.06.2021).
24 Statistical Review of World Energy 2020 // BP. 2020. URL: https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2020-full-report.pdf (accessed: 28.06.2021).
25 Fact sheet: The American Jobs Plan // The White House. March 31, 2021. URL: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/03/31/fact-sheet-the-american-jobs-plan/ (accessed: 06.07.2021).
26 Joe Biden’s Plans to Combat Climate Crisis Have — Predictably — Provoked GOP Backlash // The Guardian. February 4, 2021. URL: https://www.theguardian.com/us-news/2021/feb/04/joe-biden-climate-crisis-republican-backlash (accessed: 06.07.2021).
27 Wynn A. President Biden and Congress Must Maintain America’s Energy Independence // Morning Consult. June 7, 2021. URL: https://morningconsult.com/opinions/president-biden-and-congress-must-maintain-americas-energy-independence/ (accessed: 06.07.2021).
28 Lazard O. Moscow’s Climate Change Dilemma // Carnegie Moscow Center. February 9, 2021. URL: https://carnegie.ru/commentary/83842 (accessed: 06.07.2021).
Об авторах
Юрий Викторович Боровский
Московский государственный институт международных отношений МИД России
Автор, ответственный за переписку.
Email: yuribor@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-8855-5147
кандидат исторических наук, доцент кафедры международных отношений и внешней политики России
Москва, Российская ФедерацияСписок литературы
- Бобылев С.Н., Барабошкина А.В, Джу С. Приоритеты низкоуглеродного развития для Китая // Государственное управление. Электронный вестник. 2020. № 82. С. 114-139. doi: 10.24411/2070-1381-2020-10095
- Борисов М.Г. Энергетический переход и геополитика // Восточная аналитика. 2020. № 1. С. 7-16. doi: 10.31696/2227-5568-2020-01-007-016
- Гайдаев О.С. Теория секьюритизации, или Хорошо забытое старое: к вопросу о теоретико-философских истоках и зарождении теории // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. 2021. Т. 21. № 1. С. 64-78. doi: 10.22363/2313-0660-2021-21-1-20-32
- Гаранина О.Л. Повестка энергетического перехода: вызовы для России в контексте пандемии // Российский внешнеэкономический вестник. 2021. № 4. С. 40-52.
- Ковалев Ю.Ю., Поршнева О.С. Страны БРИКСвмеждународной климатической политике // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Международные отношения. 2021. Т. 21. № 1. С. 64-78. doi: 10.22363/2313-0660-2021-21-1-64-78
- Худайкулова А.В. Объясняя безопасность глобального Юга: западные и незападные подходы // Вестник Санкт-Петербургского университета. Международные отношения. 2020. Т. 13. № 3. С. 394-417. doi: 10.21638/spbu06.2020.307
- Axon, C. J., & Darton, R. C. (2021). Sustainability and risk - a review of energy security. Sustainable Production and Consumption, (27), 1195-1204. https://doi.org/10.1016/j.spc.2021.01.018
- Buzan, B., & Hansen, L. (2009). The evolution of international security studies. Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511817762
- Česnakas, G. (2010). Energy resources in foreign policy: A theoretical approach. Baltic Journal of Law & Politics, 3(1), 30-52.
- Chinn, S., Sol Hart, P., & Soroka, S. (2020). Politicization and polarization in climate change news content, 1985-2017. Science Communication, 42(1), 112-129. https://doi.org/10.1177/1075547019900290
- Dunford, M., & Qi, B. (2020). Global reset: COVID-19, systemic rivalry and the global order. Research in Globalization, (2), 1-12. https://doi.org/10.1016/j.resglo.2020.100021
- Froggatt, A., & Quiggin, D. (2021). China, EU and US cooperation on climate and energy. An ever-changing relationship. Chatham House Research Paper. Retrieved from https://www.chathamhouse.org/sites/default/ files/2021-03/2021-03-26-china-eu-us-cooperation-froggatt.pdf
- Goldthau, A., & Westphal, K. (2019). Why the global energy transition does not mean the end of the petrostate. Global Policy, 10(2), 279-283. https://doi.org/10.1111/1758-5899.12649
- Grant, S., Crim, C. C., & Jensen, P. K. M. (2015). Climatization: A critical perspective of framing disasters as climate change events. Climate Risk Management, 10, 27-34. https://doi.org/10.1016/j.crm.2015.09.003
- Hakes, J. (2015). A declaration of energy independence. New Jersey: Wiley.
- Harsem, Ø., & Claes, D. H. (2013). The interdependence of European-Russian energy relations. Energy Policy, 59, 784-791. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2013.04.035
- Heinrich, A., & Szulecki, K. (2019). Energy securitization: Applying the Copenhagen school’s framework to energy. In K. Szulecki (Ed.), Energy security in Europe. Divergent perceptions and policy challenges (pp. 33-61). London: Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-3-319-64964-1_2
- Luft, G., & Korin, A. (2009). Realism and idealism in the energy security debate. In G. Luft & A. Korin (Eds.), Energy security challenges for the 21st century: A reference handbook (pp. 335-349). Santa Barbara: Praeger
- Luft, G., Korin, A., & Gupta, E. (2011). Energy security and climate change: A tenuous link. In B. Sovacool (Ed.), The Routledge handbook of energy security (pp. 43-56). New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203834602
- Ozcan, S. (2013). Securitization of energy through the lenses of Copenhagen school. West East Journal of Social Sciences, 2(2), 57-72. Retrieved from http://www.westeastinstitute.com/journals/wp-content/uploads/2013/10/Sezer_Ozcan.pdf
- Romanova, T. A. (2013). Security of energy demand: Security for suppliers? In H. Dyer & M. J. Trombetta (Eds.), International handbook of energy security (pp. 239-258). Cheltenham: Edward Elgar Publishing
- Schelly, C., Bessette, D., Brosemer, K., Gagnon, V., Arola, K. L. et al. (2020). Energy policy for energy sovereignty: Can policy tools enhance energy sovereignty? Solar Energy, 205, 109-112. https://doi.org/10.1016/j.solener.2020.05.056
- Smil, V. (2010). Energy transitions: History, requirements, prospects. Oxford: Praeger
- Sovacool, B. (2011). Introduction: Defining, measuring, and exploring energy security. In B. Sovacool (Ed.), The Routledge handbook of energy security (pp. 1-42). New York: Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203834602
- Sovacool, B. (2021). Who are the victims of low-carbon transitions? Towards a political ecology of climate change mitigation. Energy Research & Social Science, 73, 1-16. https://doi.org/10.1016/j.erss.2021.101916
- Winzer, C. (2011). Conceptualizing energy security. University of Cambridge EPRG Working Paper, 1123, 1-36. https://doi.org/10.17863/CAM.5563