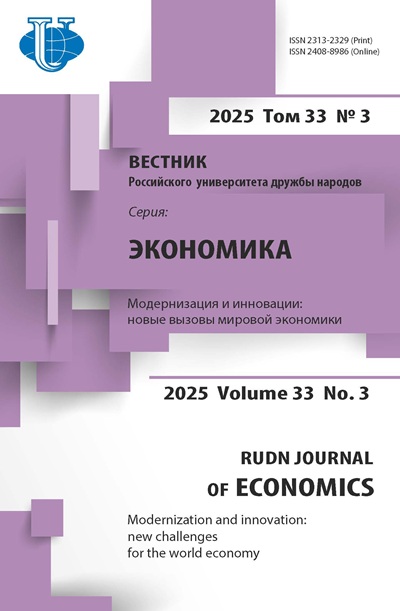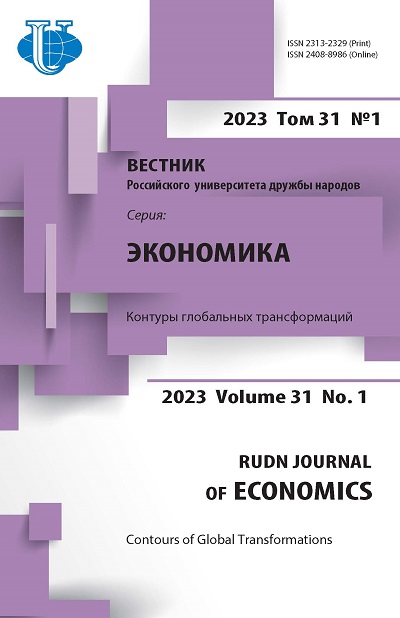«Новая нормальность» и модель «двойной циркуляции» по-китайски: к вопросу о «современном этапе» развития мирового хозяйства
- Авторы: Коновалова Ю.А.1
-
Учреждения:
- Российский университет дружбы народов
- Выпуск: Том 31, № 1 (2023): КОНТУРЫ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ
- Страницы: 7-29
- Раздел: Экономика развитых и развивающихся стран
- URL: https://journals.rudn.ru/economics/article/view/34240
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-2329-2023-31-1-7-29
- EDN: https://elibrary.ru/RYTNYZ
- ID: 34240
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Исследованы множественные подходы к термину «новая нормальность», который в научном экономическом сообществе появился после кризиса 2008 г. и стал вновь актуальным с провозглашением «новой экономической эпохи» в Китае, «вхождением» мирового сообщества в эру антропоцена и столкновением мира с проблемой глобального значения - вирусом COVID-19. Актуальность темы обусловлена также и современными условиями: турбулентностью мировой экономики, в которую она вступила не только с момента начала пандемии, но и в результате тех «тектонических» сдвигов в системе международных экономических отношений, которые произошли после начала Россией специальной военной операции. Необходимость дополнения и расширения термина «новая нормальность» исходит из следующих вопросов. Если возникает термин «новая нормальность» или «норма», то что является «старой нормой»? Применительно к каким явлениям или процессам используется данный термин и какой существует набор определений и подходов к нему? Цель исследования состоит в выявлении основных черт «новой нормальности» в контексте фазы роста и развития, в которую вступила китайская экономика в 2014 г. в частности. «Новая нормальность» по-китайски базируется на достижении более диверсифицированной структуры национальной экономики, обеспечении устойчивого роста и более равномерном распределении выгод. Рассмотрена этимология и развитие термина «новая нормальность». Несмотря на множественность подходов, единого определения к рассматриваемому термину так и не сложилось, ни в рамках экономической науки, ни в рамках других направлений. Подробно анализируются предпосылки, лежащие в основе «новой нормы» по-китайски, в том числе послужившие основой для пересмотра модели экономического развития страны и имплементации модели, известной сегодня как модель «двойной циркуляции». Автором ставится вопрос о необходимости развития подхода к термину также и в ключе происходящих в настоящее время событий, тектонических сдвигов в мировом хозяйстве и системе международных экономических отношений, которые объективно могут характеризоваться как «кризис» современного этапа развития мирового хозяйства, известного как глобализация, или переходный период, переходная стадия на новый, совершенно иной этап развития мирового хозяйства. Основной вывод исследования заключается в следующем: современный этап развития мирового хозяйства, то есть глобализация, переживает острую фазу турбулентности, которая, очевидно, началась задолго до последнего экономического кризиса 2008 г. События последних нескольких лет показывают, что эффекты от глобализации в определенной степени перестают себя оправдывать: усиление международной конкуренции, усиление политик протекционизма и увеличение числа торговых споров в рамках ВТО, эскалация «торговых войн», COVID-19 и его влияние на всю систему международных экономических отношений, разрыв и перестройка производственных и логистических цепочек, а также выход с российского рынка ТНК в результате проведения специальной военной операции, - все это свидетельствует о том, что современный этап развития мирового хозяйства является переходным периодом не в силу тех эффектов и процессов, которые происходят под влиянием определенных событий, а по причине перестройки всей мировой экономической и геополитической архитектуры. Все вышеперечисленное, в свою очередь, требует адекватного ответа и со стороны экономических школ в виде необходимости развития теоретических подходов к вопросу транзитивного характера современного этапа развития мирового хозяйства и перехода на иной этап.
Полный текст
Этимология вопроса и обзор литературы Пандемия COVID-19 и «столкновение» мировой экономики с вызовом глобального значения в виде нового агрессивного вируса в конце 2019 г., с одной стороны, отодвинули на второй план все другие проблемы; с другой стороны, обозначили необходимость разработки совершенно разных, адаптированных под конкретные социально-экономические условия, мер по преодолению возникших угроз и приспособлению к новой «постковидной» реальности, которая сложилась в широкий термин «новой нормальности» или «новой реальности». Дополнительным фактором, который свидетельствует о чрезвычайной актуальности данного вопроса, являются изменения, происходящие сегодня в мировой экономике в результате специальной военной операции, которую с февраля 2022 г. проводит Россия: на фоне жестких санкций и «выхода» транснационального бизнеса из России происходят перестройка глобальной экономической архитектуры, разрыв глобальных цепочек стоимости: процессы, которые могут изменить мировой экономический порядок и которые требует разработки новой научной гипотезы. Несмотря на то, что термин «новая нормальность» (New Normal) был введен в понятийный экономический кругооборот после финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг., его применение в современных условиях может быть значительно расширено. Под «новой нормальностью» можно понимать становление общепринятыми и обычными тех событий и условий, которые до определенного момента не считались нормой. Важным является не только понимание современного подхода к сущности «новой нормальности», но и эволюция складывания самого понятия. Считается, что впервые термин «новая нормальность» был введен в оборот Биллом х. Гроссом и Мохаммедом Эль-Эрианом (El-Erian, 2010; Гусаков и др., 2021; Ушанов, Решад, 2020) - экономистами инвестиционной компании, гиганта на рынке облигаций, - «Pimco». Термин появился сразу после финансово-экономического кризиса 2008-2009 гг. и приобрел популярность среди финансистов. Однако, по словам авторов, смысловая нагрузка, которую он несет, была неправильно трактована сообществом. Тогда многие рассчитывали, что мировая экономика быстро восстановится и достигнет докризисных показателей, но этого не случилось. Экономисты писали, что мировому сообществу придется смириться с тем фактом, что темпы экономического роста и иные показатели уже не будут увеличиваться на привычных скоростях, велика вероятность высокого уровня безработицы и бедности. Более того, авторы говорили о процессе деглобализации, который может лежать в основе этой «новой нормальности» (Craft, 2010). «Драйверы восстановления» мировой экономики в посткризисный период перестают быть эффективными, поэтому в узком смысле «новая нормальность» - это невозможность восстановления мировой экономики после экономических кризисов также быстро и полноценно, как это было до кризиса 2008-2009 гг. Переход от «старой нормальности» к «новой нормальности» произошел в тот момент, когда в 2008 г. гигант финансового рынка компания Lehman Brothers подала заявление о признании себя банкротом, спровоцировав тем самым лавинообразное падение всех мировых рынков. В своем исследовании ведущие экономисты Кармен М. Реинхарт и Кеннет С. Рогофф («На этот раз все будет иначе» / «This Time Is Different») на основе анализа финансовых кризисов за период с 1800 по 2008 г. попытались выявить их общие черты и определить механизмы предотвращения и минимизации последствий кризисных явлений в мировой экономике. Было обнаружено, что в основе зарождения кризисных явлений лежит либерализация финансовых рынков, а методы, которыми правительства справляются с кризисами, традиционны и заключаются в крупных займах для стимулирования спроса и обеспечения ликвидности. Об угрозе надвигающегося кризиса скорее будут свидетельствовать такие показатели, как резкое ускорение роста цен на залоговые активы, то есть реальной цены на недвижимость, и реальных курсов акций или резкий приток внешнего капитала. Более того, в условиях «новой нормальности» наиболее успешными будут инвесторы, которые проводят политику диверсификации активов, тем самым распределяя риски, и вкладывают в долгосрочные инструменты (Reinhart, 2009). В разгар кризиса 2008-2009 гг. эксперты McKinsey писали, что: «Для некоторых организаций вопрос о краткосрочном выживании является единственным пунктом повестки дня. Другие всматриваются сквозь туман неопределенности, думая о том, как позиционировать себя, когда кризис пройдет и все вернется на круги своя. Вопрос в том: „Как будет выглядеть нормальное состояние?“. хотя никто не может сказать, как долго продлится кризис, то, что мы обнаружим на другой стороне, не будет похоже на норму последних лет». Факторы, заложившие основу для складывания «новой нормальности», появились задолго до финансово-экономического кризиса, всего лишь обострившего их. Очевидным является факт, что финансовые рычаги в преодолении последствий финансово-экономических кризисов глобального масштаба перестают быть эффективными, сокращается их значимость. Главным вопросом, по мнению эксперта, является: «В какой момент долг за счет финансовых инноваций (новых инструментов и способов ведения бизнеса, снижающих риски) перетекает в кредитный пузырь?». Определяющей чертой «новой нормальности» должно стать усиление роли государства, при этом «существует риск новой эры финансового протекционизма» (Sneader, Singhal, 2020). Как далее показала практика, внешнеэкономическая политика Д. Трампа в период его президентства характеризовалась именно усилением протекционизма (Коновалова, Ушанов, Зарубин, 2020). В середине 1990-х гг. с развитием цифровых и информационно-коммуникационных технологий приобрела популярность идея «смерти дистанции / смерти расстояния», смысловая нагрузка которой заключается в том, что ИКТ и цифровизация мировой экономики позволяют сокращать физическое расстояние между людьми и приобретают характер инклюзивности, вовлеченности. Развитие и массовое распространение технологий дало возможность снизить стоимость передачи информации, увеличить ее объемы и скорость передачи данных. Дополнительным фактором к популяризации указанной идеи явилось развитие электронной торговли. Пандемия COVID-19 привела к тому, что наличие дистанции между людьми оказалось необходимым, были введены ограничения на перемещения как внутри национальных экономик, так и перемещения между странами, в ряде государств был объявлен 2-недельный и более длительный по продолжительности локдаун. Одновременно возникли вопросы: «Какие режимы перемещения людей останутся и как они трансформируются после того, как мир справится или хотя бы преодолеет пик заболеваемости и тенденция пойдет на спад? И как ограничения повлияют на объемы международных экономических отношений? Как изменятся трудовое законодательство и стратегии бизнеса в вопросах присутствия и экспансии на национальных и зарубежных рынках? и т.д.». Уже в 2009 г. стало очевидно, что в текущей модели роста мировой экономики происходят сбои, выраженные в процессах деглобализации, перерегуляции и делеверинга. Мировая экономика приближается к тому, что в «PIMCO» назвали «новой нормой», основными характеристиками которой являются значительно медленные темпы восстановления и роста, относительная статичность показателей прибыли, высокая роль государственного сектора. «Потребительская этика» США и рост эмиссии казначейских бумаг, обеспечивающих это потребление, не могут быть бесконечными, поскольку темпы роста мировой экономики замедляются и этот рост будет все медленнее (Gross, 2009). Совершенно иначе «новая норма» представлена в контексте достижения целей в области устойчивого развития ООН (ЦУР ООН), а именно: «новая норма» фактически есть кардинальный пересмотр подходов и переход к более ответственному потреблению и производству с ориентацией на экологию и окружающую среду, что позволит достичь ЦУР[1]. Данный подход тесно коррелирует с термином «антропоцен», введенным Юджином Ф. Стормером и активно используемым Паулем Крутценом[2] и ПРООН[3]: эпоха «антропоцена» поддерживает главенствующую роль человека и результатов его деятельности, изменяющих окружающую среду и экологическую обстановку. Точкой отсчета и началом эпохи «антропоцена» принято считать 1784 г., «когда совершенствование шотландским инженером Дж. Уаттом паровой машины Ньюмена позволило использовать ископаемое то пливо и положило начало промышленной революции»[4], с тех пор воздействие человека на окружающую среду и планетарная нагрузка только увеличивались. «Сигнальные огни» общества и планеты (в том числе и через COVID-19) свидетельствуют о том, что негативные результаты деятельности человека на планету чрезмерно высоки и наступает «новая реальность». Таким образом, пандемия COVID-19, по мнению авторов доклада («Доклад о человеческом развитии - 2020»)[5], всего лишь острие копья и первый звонок кризисных явлений и потенциальных угроз. Заключение, к которому пришли эксперты, сводится к тому, что важно развить не только дискурс на тему трансформации подходов и практик потребления и производства, но и на глобальном уровне сократить нагрузку на планету, снизив негативное влияние на экологическую обстановку и окружающую среду. В экономическом контексте данная трансформация выражена в смене моделей экономического роста и развития, к которым приступили Китай и Индия, активно транслируя переход к «новой норме», а также США в период президентства Д. Трампа. В апреле 2020 г. эксперты McKinsey & Company, размышляя на тему о «следующей норме», писали, что предпосылкой к ее формированию, безусловно, явился COVID-19, который приведет к неминуемой перестройке глобального экономического порядка. «Новая нормальность» в условиях пандемии рассматривается как принятие того факта, что с 2019 г. и условно с момента начала «пост-ковидной эры» мир будет и дальше все чаще сталкиваться с новыми неизвестными и, возможно, более агрессивными вирусами. «Вирусная» нагрузка на социальную сферу, выраженная, в первую очередь, в росте числа заболевших, благополучно справившихся с вирусом и приобретших иммунитет, а также росте числа умерших, оказывает негативное влияние на демографические показатели, влияя на возрастную структуру и соотношение числа экономически активного населения к общей численности людей. Это также влияет на экономические показатели, сокращая доходную часть как граждан, так и национальных экономик, приводит к перераспределению формирования ВВП стран, требует значительного увеличения ассигнований на сферу здравоохранения, химическую и фармацевтическую промышленность, требует увеличения затратной части на закупку импорта необходимых товаров, вакцин, в том числе и средств индивидуальной защиты, активных фармацевтических ингредиентов и т.д. По данным Всемирной организации здравоохранения, в настоящее время находится в разработке более 200 вакцин-кандидатов[6]. По состоянию на середину 2021 г. в мире уже успешно применяется порядка 8 вакцин от коронавируса. Даже при их наличии возникло несколько острых вопросов: y Какие вакцины (по стране производителю) признаются в других государствах? y Какова доступность по передвижению граждан, привитых вакцинами, не признаваемых в отдельно взятых странах? y Доступны ли известные и используемые вакцины для всех стран, пострадавших от вируса? y Все ли категории граждан, вне зависимости от дохода и социального статуса, могут получить вакцину? y Какие существуют мнения, в том числе предвзятое отношение и «анти-прививочные» настроения в отношении вакцин и вируса? и т.д. Пандемия, как глобальный вызов, особенно остро обозначила «новую нормальность» не только как складывающийся тренд, но и движение в сторону разработки новой научной парадигмы в отношении этапов развития мирового хозяйства: в данном случае имеется в виду тот факт, что глобализация, известная сегодня как последний, четвертый этап развития мировой экономики, движется не линейно (как показало возникновение вируса - непредсказуемо, хаотично), и прогнозы, разработанные ранее и разрабатываемые международными институтами сегодня в условиях «эры COVID», теряют свою смысловую нагрузку, несмотря на их вариативность. В любом случае, после решения проблемы с вирусом, придется неизбежно восстанавливать экономики, и к вопросу восстановления экономических систем придется подходить индивидуально: с учетом социально-экономических особенностей, демографических и т.д. Отдельного внимания будут заслуживать вопросы профилактики вирусных заболеваний, формирования более внимательного отношения к гигиене, соблюдения профилактических мер, уровня развития химической и фармацевтической промышленности, проблема зависимости от импорта активных фармацевтических ингредиентов и необходимости проведения политики импортозамещения, обеспечения безопасности страны. Прежде всего перечисленные вопросы адресованы странам с высоким уровнем демографической нагрузки, к которым относятся Китай и Индия. Но если в Китае высокий уровень организованности при определяющей роли госсектора, то в Индии все еще существует проблема дискриминации по кастовому признаку, отсутствует вовлеченность в экономику отдельных социальных слоев, наблюдается высокий уровень приверженности традиционным основам и альтернативной медицине. Поэтому разрабатываемые и реализуемые политики в странах с высокой демографической нагрузкой должны исходить из инди видуальных характеристик субъекта мирового хозяйства. Данные о заболеваемости и смертности от COVID-19 и следующих его мутаций показывают, что по состоянию, например, на 10.08.21 наибольший процент привитых к общей численности населения на Мальте (89,75 %), в то время как в Индии - только 8,93 %, численность зараженных в Индии (на 10.08.21) - более 32 млн человек («лидер» - США - более 36 млн человек), число умерших - более 429 тыс. человек («лидер» - США - более 618 тыс. человек). Ровно через год на 10.08.2022 в США было зафиксировано всего 92,7 млн заражений, в Индии 44,2 млн, во Франции и Бразилии по 34 млн; более 1 млн смертей было зафиксировано в США на указанную дату, в Бразилии - более 681 тыс., в Индии - более 526 тыс., в России - более 375 тыс.[7] Но если причина «лидерства» США по данному заболеванию объясняется особенностями системы американского здравоохранения и страхового обеспечения, а кроме того, американская медицина не рассчитана на предоставление массовой неотложной помощи, то Индийская Республика является наиболее ярким примером того, что подход к решению таких глобальных и острых проблем в странах с повышенной демографической нагрузкой должен быть иным. Это же относится и к моделям социально-экономического развития в отношении таких стран. Меняющийся под воздействием пандемии COVID-19 мир не стоит, по мнению экспертов Всемирного экономического форума, рассматривать через призму «новой нормальности», поскольку «новой норме» должна предшествовать «старая норма», а значит, «ладно/одинаково» функционирующий мир для всех, в то время как «нормальность» его функционирования для всех окажется неодинаковой. «Новую норму», как терминологическое объяснение, нецелесообразно использовать для объяснения всех возникающих «дискомфортных» явлений и процессов, неопределенности. Переход в «новую нормальность» требует если не складывания новой научной парадигмы, то переосмысления того, «где мы были раньше по сравнению с тем, где мы находимся сейчас и как это современное состояние принять за современный стандарт»[8]. Практическая сторона «новой нормальности» и модели «двойной циркуляции»: на примере Китая Термин «новая нормальность» в экономическом смысле активно используется уже в Китае: в 2014 г. стало понятно, что темпы экономического роста китайской экономики будут снижаться (в 2013 г. рост ВВП составил - 7,7 %, в 2014 г. - 7,4 %, в 2015 - 7,04 %, в 2016 - 6,8 %, в 2017 - 6,9 %, 2018 - 6,7 %, 2019 - 5,9 %, 2020 - 2,2 %, 2021 - 8,1 %)[9]. Некоторые эксперты, как утверждает профессор ху Аньган, уже в 2014-2015 гг. были достаточно скептически настроены относительно перспектив восстановления экономического роста Китая, доказывая, что «модель роста, основанная на промышленном производстве, больше нежизнеспособна, и… Китай „вскоре упрется в свою Великую стену“»[10]. Данное мнение оказалось ошибочным, и китайская экономика не вступила в фазу рецессии, несмотря на все известные факторы. Именно следующую фазу роста и развития китайской экономики в 2014 г. президент Китая Си Цзиньпин обозначил как «новую нормальность», экономическая сущность которой заключается в достижении более диверсифицированной структуры китайской экономики, обеспечении устойчивого роста и более равномерном распределении выгод. В 2017 г. на Мировом экономическом форуме в Давосе (Швейцария) он заявил: «…экономика Китая вошла в то, что мы называем „новой нормой“, в которой происходят серьезные изменения с точки зрения темпов роста, модели развития, экономической структуры и движущих сил роста. Но экономические основы, поддерживающие устойчивое развитие, остаются неизменными… мы будем адаптироваться к „новой нормальности“, оставаться на шаг впереди и предпринимать скоординированные усилия для поддержания устойчивого роста, ускорения реформ, корректировки экономической структуры, повышения уровня жизни людей и предотвращения рисков…»[11]. ху Аньган считает, что замедление китайской экономики было неизбежным: после трех десятилетий активного экономического роста дальнейшее наращивание китайской экономики стало затруднительным, постоянно поддерживать экономический рост невозможно: высокие темпы роста требуют все больших поставок и потребления минеральной продукции и энергоносителей, нанося при этом вред окружающей среде, постоянного увеличения числа рабочих мест и иной нагрузки на экономику. Предпосылки, лежащие в основе перехода Китая к «новой норме», складывались давно. Одной из таких предпосылок является демографическая ситуация и политика Китая. По данным за 2019 г., население Китая составило 1,4 млрд человек, 17,8 % от общей численности населения приходится на граждан в возрасте 0-14 лет, 12 % - на возрастную группу от 15 до 24 лет, самая многочисленная возрастная группа - граждане в возрасте от 25 до 64 лет, на них приходится 58,8 %, 11,5 % составляют люди старше 65 лет. Прогнозы, составленные экспертами ООН (Департамент по экономическим и социальным вопросам), показывают, что (без учета развернувшейся пан демии) после 2025 г. ожидается сокращение общей численности населения Китая: основное сокращение будет по группе в возрасте 25-64 года, динамика остальных возрастных групп также будет придерживаться нисходящей тенденции[12]. По итогам 2022 г. численность Китая все еще будет превосходить численность населения Индии: 1,426 млрд человек против 1,412 млрд человек, однако, по прогнозам, к 2050 г. численность населения Индии уже более чем на 300 млн будет превосходить население Китая: 1,668 млрд человек против 1,317 млрд человек[13]. Демографическая политика, получившая название «Одна семья - один ребенок», была провозглашена в КНР в 1979 г., основы политики были сведены к жесткому контролю за воспроизводством численности населения страны перед угрозой демографического взрыва. Экономические реформы 50-60-х гг. XX в. привели к резкому росту численности населения, и его дальнейший прирост необходимо было сдерживать. Политика подразумевала достижение показателя в 1,2 млрд человек к 2000 г. (данные ООН свидетельствуют о том, что в 2000 г. численность населения Китая составила уже 1,29 млрд чел.)[14]. Ограничение распространялось на семьи, проживающие в городе, они могли иметь только одного ребенка (исключая случаи многоплодной беременности). Двух детей разрешалось иметь семьям, проживающим в сельской местности, и гражданам, являющимся национальными меньшинствами, в том случае, если первый ребенок девочка. Пропагандировалось позднее вступление в брак и поздние беременности, была введена система штрафов. В 2000-е гг. демографическая политика была смягчена, в 2007 г. были введены допущения иметь второго ребенка для тех семей, члены которых сами являются единственными детьми в своих семьях. Смягчение политики происходило постепенно: в 2013 г. право на второго ребенка получили семьи, где один из родителей является единственным ребенком в своей семье[15]. В 2016 г. политика «Одна семья - один ребенок» фактически была отменена решением 5-го Пленума ЦК КПК 18-го созыва. Ее упразднение напрямую было связано с демографическим перекосом (в том числе и гендерными диспропорциями), а также старением населения. Политика привела к гендерным диспропорциям, закрепленным с традиционными основами, склоняющими женщин прерывать беременность на ранних сроках, когда становится возможным определить пол ребенка, если плод девочка. После отмены демографической политики в 2016 г. общество разделилось на два лагеря: одни выступали «за» расширение гражданских прав и возможностей отдельно взятых семей, другие выступали «против», подкрепляя мнение доводами о потенциальном увеличении нагрузки на социальную сферу (здравоохранение, образование, систему пенсионного обеспечения и т.д.) и экономику в целом (Гулеева, 2016). Экономически активное население Китая с 2010 по 2019 г. в абсолютном выражении увеличилось с 775,1 млн человек до 811,04 млн человек[16], однако показатели 2013 г. свидетельствуют о снижении темпов прироста экономически активного населения в стране, что совпало с падением темпа роста экономики. Расчеты экспертов показали, что тенденция может носить негативный характер: с 2011 г. уровень занятости в стране начал сокращаться[17], это поставило под угрозу экономическую мощь Китая и заставило обратиться к политике смягчения, поскольку в долгосрочной перспективе сокращение рождаемости, сокращение экономически активного населения и рабочей силы в итоге приведет к падению макроэкономических показателей страны и перестанет обеспечивать экономические интересы государства. По расчетам Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН доля городского населения Китая к 2050 г. может уже составить 80 % против 20 % сельского. Если в 1990 г. городов в Китае с населением от 10 млн чел. и более не существовало, число городов с населением от 5 до 10 млн чел. составило 2 города, с 1 до 5 млн чел. - 32 города, с 500 тыс. до 1 млн чел. - 37 городов, с 300 тыс. до 500 тыс. чел. - 65 городов; в 2018 г. соотношение было следующим: от 10 млн чел. и более - 6, число городов с населением от 5 до 10 млн чел. составило - 13, с 1 до 5 млн чел. - 105, с 500 тыс. до 1 млн чел. - 160, с 300 тыс. до 500 тыс. чел. - 140; к 2050 г. показатели могут составить: от 10 млн чел. и более - 8, число городов с населением от 5 до 10 млн чел. составило - 19, с 1 до 5 млн чел. - 146, с 500 тыс. до 1 млн чел. - 175, с 300 тыс. до 500 тыс. чел. - 144[18]. К 2025 г. правительство Китая планирует увеличить уровень урбанизации до 65 %, к 2035 г. - до 75 %. Внутрирегиональная миграция и перемещение населения из сел в деревню потребует значительных инвестиций в строительство и инфраструктурные проекты[19]. С 2014 г. китайское правительство инициировало ряд государственных программ, призванных усилить роль внутреннего рынка и ускорить развитие современных производств: «Made in China - 2025», «Internet Plus», «Mass Entrepreneurship and Innovation» и др. (Чернова, хейфец, 2021). В частности, государственная инициатива «Made in China - 2025» охватывает 10 высокотехнологических видов производств и направлена на их поддержку, среди них «информационные технологии следующего поколения, высокопроизводительные машины и роботы с числовым программным управлением, аэрокосмическое и авиационное оборудование, морское инженерное оборудование и морское судостроение, современное железнодорожное оборудование, энергосберегающие и новые энергетические транспортные средства, электрооборудование, сельскохозяйственное машиностроение, новые материалы и биофармацевтические препараты, высокоэффективные медицинские устройства» (Чернова, хейфец, 2021). Инициативы направлены на смену экономической модели с экспортной ориентации на импортозамещение, самообеспечение и поиск драйверов экономического роста внутреннего базирования. характерной чертой импортозамещения «по-китайски» является принцип избирательности: приоритетными остаются высокотехнологичные виды производств и стремление сократить зависимость от импортных поставок (в частности, доля иностранной добавленной стоимости в валовом китайском экспорте компьютеров и электроники в 2015 г., по последним опубликованным ВТО данным, составила 30,5 %)[20]. Среди приоритетов остается оборонная отрасль: по данным ЦАМТО, Китай занимает второе место после США по объему военных расходов в 2019 г. (168,7 млрд долл.), за 8 лет с 2012 по 2019 г. объем военных расходов Китая составил 1127,67 млрд долл. (также второе место после США за указанный период; военные расходы США составили 5390,4 млрд долл.). Доля военных расходов Китая к ВВП за период 2012-2019 гг. составила 1,24 %[21]. Китай является 5-м в мире экспортером вооружений по пакету заказов после США, России, Франции, Германии (за период 2012-2019 гг.), на Китай за указанный период пришлось 36,26 млрд долл. По фактическому объему экспорта ПВН (продукции военного назначения) за указанный период Китай занимает 6-е место после США, России, Франции, Германии, Великобритании с объемом 19,56 млрд долл. «По состоянию на октябрь 2020 г. в целом за 4-летний период (2020-2023 гг.) прогнозируемый объем мирового экспорта/импорта обычных вооружений (согласно классификации Регистра ООН) ЦАМТО оценивает в сумму 409,53 млрд долл. Рейтинг крупнейших экспортеров вооружений по периоду 2020-2023 гг. возглавляют США - 177,73 млрд долл. Второе место занимает Россия - 45,1 млрд долл., третье место - Франция - 41,1 млрд долл. Места с 4 по 10 в рейтинге ЦАМТО по периоду 2020-2023 гг. занимают: Германия (20,8 млрд долл.), Италия (19,1 млрд долл.), Испания (14,8 млрд долл.), Китай (13,6 млрд долл.), Израиль (13,3 млрд долл.), Великобритания (8,7 млрд долл.) и Швеция (6,8 млрд долл.)»[22]. Анализ географии военного экспорта Китая показывает, что за период с 2012 по 2019 г. на Азиатско-Тихоокеанский регион приходится 51,04 %, основным импортером китайского военного экспорта остается Пакистан (данный факт не способствует ослаблению конфликтов и противостояния между Китаем и Индией в частности). Интересным является тот факт, что, по данным ЦАМТО, идентифицированных данных о поставках китайских вооружений за период с 2012 по 2019 г. в страны Северной Америки и Восточной Европы не имеется[23]. Согласно «Индексу воздействия», который рассчитывается глобальным институтом «McKinsey», воздействие Китая на мир велико, однако сегодня происходит его частичное снижение, что связано с переориентацией китайской экономики на внутреннее потребление и относительным снижением темпов экономического роста. На Китай приходится 40 % мирового потребления текстиля и одежды, 28 % - автомобильных транспортных средств, 38 % - компьютеров и электроники. Такой масштабный внутренний спрос привел к тому, что большая часть того, что производит Китай, продается в рамках национальной экономики[24]. Несмотря на траекторию «перехода на внутреннее потребление», у Китая сохраняется зависимость от импорта: в 2019 г. объем платежей за использование китайской интеллектуальной собственности составил 6,6 млрд долл., в 2020 г. - 8,8 млрд; в то же время платежи Китая за использование иностранной интеллектуальной собственности в 2019 г. составили 34,3 млрд долл., в 2020 г. - 37,6 млрд долл.[25] (Чернова, хейфец, 2021). Открытость Китая мировой экономике и дальнейшая либерализация всех сфер внешнеэкономической деятельности также является важной составляющей «китайского перехода на экономическую модель импортозамещения». Изменения в инвестиционной политике Китая рассматривались нами выше, однако сохраняется достаточно широкий перечень закрытых или ограниченных для иностранного инвестора секторов китайской экономики (так называемый «Негативный список»). Процесс либерализации, в соответствии с текущим Пятилетним Планом, затронет и экономические зоны: китайское правительство будет поддерживать создание и развитие международных инновационных центров в Пекине, Шанхае, по линии Гуандун - Гонконг - Макао, строительство национальных научных центров в районах хуайжоу (Пекин), Чжанцзян (Шанхай), хэфэй (провинция Аньхой), строительство региональных научно-технических инновационных центров[26]. В 2019 г. расходы Китая на НИОКР в структуре ВВП составили 525,7 млрд долл. в текущих ценах (или 2,23 % от ВВП). Доля валовых внутренних расходов на НИОКР, финансируемых сектором коммерческих предприятий, в 2019 г. составила 76,3 %, доля же госсектора в структуре финансирования НИОКР составила 20,5 % от ВВП[27]. К 2035 г. Китай планирует стать ведущей инновационной страной, и инновации лежат в основе модернизации страны. Правительство будет стремиться охватить более 50 % территории страны технологиями и сетями 5G. В рамках текущего Пятилетнего Плана Китай также планирует увеличить расходы на НИОКР[28]. Оптимизация и структурная перестройка планируется и во внешнеторговой политике, главным образом за счет повышения национальной составляющей в стоимости китайского экспорта, и преимущественно в высокотехнологичном экспорте. По итогам 2020 г. объем китайской внешней торговли товарами составил 32,16 трлн юаней (около 5 трлн долл.)[29], что на 1,9 % больше годом ранее. Объем экспорта увеличился на 4 % и составил 17,93 трлн юаней (около 2,8 трлн долл.), импорта - 14,23 трлн юаней (около 2,2 трлн долл.), что на 0,7 % меньше, чем в 2019 г. Несмотря на вызовы, с которыми столкнулась китайская экономика и внешняя торговля в конце 2019 - начале 2020 гг., объемы внешней торговли Китая начали постепенно восстанавливаться уже в июне 2020 г. (был зарегистрирован рост показателей)[30]. Данные ВТО показывают, что по итогам 2020 г. на Китай пришлось 14,7 % мирового экспорта товаров и 11,5 % мирового импорта товаров[31]. По данным Главного таможенного управления Китая, в 2020 г. в стране насчитывалось 531 тыс. предприятий с рекордными показателями по экспорту и импорту, что на 6,2 % больше показателей 2019 г. На частный сектор Китая в 2020 г. пришлось 14,98 трлн юаней внешнеторгового оборота торговли товарами (около 2,3 трлн долл.), что составляет 46,6 % от общего объема китайской внешней торговли. Именно частный сектор оказался стабилизирующим элементом внешней торговли Китая в острый период COVID-19. На китайские предприятия с участием иностранного капитала пришлось 12,44 трлн юаней внешнеторгового оборота торговли товарами (около 1,93 трлн долл.), что составило 38,7 % общего объема внешнеторгового оборота Китая. Доля государственного сектора составила 14,3 % (4,61 трлн юаней, или около 0,72 трлн долл.). Основными торговыми партнерами Китая являются страны АСЕАН (4,74 трлн юаней, или 0,74 трлн долл.), ЕС (4,5 трлн юаней, или 0,69 трлн долл.), США (4,06 трлн юаней, или 0,63 трлн долл.), Япония (2,2 трлн юаней, или 0,34 трлн долл.) и Южная Корея (1,97 трлн юаней, или 0,31 трлн долл.). Электромеханическая продукция составляет основу китайского товарного экспорта (10,66 трлн юаней, около 1,66 трлн долл.) - 59,4 % в общем китайском товарном экспорте; экспорт ноутбуков, бытовой техники и медицинского оборудования увеличился на 20,4, 24,2 и 41,5 % соответственно. Экспорт текстильной продукции вырос на 30,4 %, составив 1,07 трлн юаней (0,16 трлн долл.). Нельзя не отметить роль, которую Китай играет на мировом рынке фармацевтической продукции: в период с марта по декабрь 2020 г. Генеральное таможенное управление Китая зафиксировало экспорт китайских противоэпидемиологических препаратов на сумму 438,5 млрд юаней (68,2 млрд долл.)[32]. В планы Китая входит оптимизация структуры международного рынка путем развития традиционных экспортных рынков и расширения развивающихся рынков, расширения масштабов внешней торговли с соседними странами, ВРЭП, безусловно, входит в данный список[33]. Китайское правительство берет курс на декарбонизацию (снижение доли или полное удаление из сплава или иного материала углерода). За период с 2009 по 2019 г. объемы выбросов двуокиси углерода Китаем увеличились с 7759 млн метрических тонн до 10 175 млн метрических тонн. Китай занимает первое место по данному показателю в мире, далее следуют США, Индия, Россия, Япония[34]. На энергетический уголь приходится 29 % мировых выбросов двуокиси углерода, 9 % - на энергетический газ, 2 % - на энергетическую нефть, 23 % - на транспорт, 23 % - на обрабатывающие производства, 10 % - на строительство, 5 % - на другие виды деятельности[35]. Экономика и промышленность страны ориентированы на уголь, как топливно-энергетический ресурс, при сжигании которого выделяется углерод. Китай занимает первое место в мире по производству сырой стали (2019 г. - 995,4 млн тонн, 2020 г. - 1064,8 млн тонн), далее следуют Индия, Япония, США, Россия. В 2020 г. объем мирового производства сырой стали составил 1878 млн тонн, на Китай приходится 56,7 % мирового производства сырой стали, 5,3 % - на Индию, 4,4 % - на Японию, 7,5 % - другие страны Азии, 7,4 % - ЕС (28), 2,1 % - другие страны Европы, 5,3 % - СНГ, 5,4 % - ЮСМКА, 5,7 % - другие страны мира. На Китай также приходится 56,2 % мирового использования стали - готовые стальные изделия (мировой объем составил 1772 млн тонн), на Индию пришлось 5 %, 3 % - на Японию, 9,1 % - на другие страны Азии, 7,1 % - на другие страны мира, 7,9 % - на ЕС (28), 2 % - на другие страны Европы, 3,3 % - на СНГ, 6,4 % - на ЮСМКА[36]. К 2030 г. Китай планирует достичь пика выбросов углерода, а к 2060 г. углеродной нейтральности. В 2021 г. Правительство Китая планирует сократить потребление энергии/топлива на 3 % (энергоемкость), в течение реализации Пятилетнего Плана - на 13,5 %, и углеродоемкость - на 18 %[37]. По данным корпорации «BP», к 2050 г. Китай планирует перейти на возобновляемые источники энергии[38]. Указанное выше вписывается в климатическую политику страны: главная причина, по которой Китай присоединился в 2015 г. к Парижскому соглашению по климату, состоит не столько в области экологии, сколько в стремлении как можно быстрее провести модернизацию в рамках перехода к низкоуглеродному (зеленому) развитию. В планах страны, параллельно с сокращением выбросов двуокиси углерода, увеличение доли возобновляемых источников энергии в структуре энергопотребления (до 20 % к 2030 г., до 50 % - к 2050 г.), а также увеличение площади лесов на 40 млн кв. км.[39] Как ожидается, в конце 2021 г. Китай может опубликовать Пятилетний План и новые цели в области климатической политике и энергетического сектора[40]. «Cтратегия „двойной циркуляции / воспроизводства“ не сигнализирует об уходе Китая из мировой экономики или „закрытии“ китайской экономики, напротив, власти продолжают подчеркивать долгосрочную привлекательность и высокий инвестиционный потенциал китайской экономики»[41]. Новая экономическая политика Китая подразумевает либерализацию инвестиционной сферы и предоставление большего доступа для иностранного инвестора. В марте 2019 г. Всекитайским народным конгрессом был утвержден Закон об иностранных инвестициях (Foreign investment Law)[42], вступивший в силу 01.01.2020 г. Закон фактически является консолидированной инвестиционной политикой, объединяющей все ранее разработанные и реализуемые законы и акты. Особое внимание в Законе уделено изменению Специальных административных мер по доступу иностранного инвестора на китайский рынок (так называемый «Негативный список»)[43]. В начале 2021 г. был утвержден и опубликован 14-й пятилетний План Китая на период с 2021 по 2025 г. национального социально-экономического развития страны, одним из ключевых пунктов которого является достижение сбалансированного развития с ориентацией одновременно на «внутреннюю циркуляцию экономики» и дальнейшее развитие внешнеэкономического сотрудничества - реализация так называемой модели «двойной циркуляции». Достижение высоких объемов «циркуляции национальной экономики» может быть достигнуто за счет увеличения внутреннего потребления и дальнейшего превращения Китая в «глобальный торговый центр», за счет формирования в стране мощного «гравитационного поля» по привлечению глобальных ресурсов и факторов производства, обеспечения сбалансированного роста внутреннего и внешнего спроса, показателей внешней торговли, повышения вовлеченности зарубежного капитала и ПИИ и т.д. В модели «двойной циркуляции» внутренняя экономика является опорной, при этом она дополняется внешнеэкономическим сектором. Увеличение внутреннего потребления будет возможно при большей либерализации китайской экономики: через снижение импортных пошлин, усиление внешнеэкономической экспансии китайских компаний, увеличении числа зон свободной торговли и объема внешней торговли услугами; дальнейшая либерализация должна затронуть и инвестиционную сферу[44]. «Двойная циркуляция» фактически представляет собой одновременное использование двух сил внутреннего и внешнего спроса за счет развития внутреннего потенциала при одновременном расширении возможностей на мировых рынках. Одним из важных элементов «циркуляции» является обеспечение экономической безопасности глобальных цепочек поставок и обеспечение максимальной независимости и самостоятельности в сельском хозяйстве, обрабатывающем секторе, энергетике и технологиях[45]. По мнению регионального директора по Азии в «The Economist Intelligence Unit» Тома Рафферти (Tom Rafferty), Китай не единственный пример в Азиатском регионе, который стремится к самодостаточности. Индийская Республика также стремится к обеспечению экономического роста за счет «внутренних сил» и ориентации на внутренний спрос. Обострение американо-китайского сотрудничества и эскалация «торговой войны» при параллельном проведении политики протекционизма заставило китайские власти с большим вниманием обратиться к поиску драйверов экономического роста и развития «внутри». Фактически речь идет о трансформации модели экономического развития, о «ретроградном» движении и превращении выгод от модели экспортной ориентации в стимулы (факторы) дополнительной поддержки внутренней экономики, которая в данной модели является опорной. Несмотря на то, что в основе новой модели китайского экономического роста лежит стратегия «двойной циркуляции/воспроизводства», углубление интеграции Китая в мировую экономику остается абсолютным приоритетом экономической политики страны. Активный экономический рост, следуя теориям экономических циклов, сменяется рецессией, поэтому после трех десятилетий экономического роста дальнейшее наращивание китайской экономики оказалось затруднительным (об этом свидетельствуют показатели роста ВВП с 2013 по 2020 г.). В 2021 г. был утвержден 14-й Пятилетний План Китая (на период 2021-2025 гг.), который является составным элементом целей долгосрочного национального социально-экономического развития на период до 2035 г. Как указано в Плане, данная пятилетка (2021-2025 гг.) является первой после того, как Китай достиг первой столетней цели в виде обеспечения всестороннего благополучия (имеется в виду искоренение бедности в стране). Вторая цель столетия (до 2049 г.) состоит в построении модернизированной социалистической экономики в стране[46]. Первая цель была реализована в первом столетии (в данном случае имеется в виду XX в., второе столетие - XXI в. Согласно китайской идеологии, цели «двух столетий» (XX и XXI вв. состоят в построении общества «сяокан» (т.е. общества средней зажиточности) и превращении Китая в «сильное, демократическое, цивилизованное, гармонизированное и современное социалистическое государство» к 2049 г.[47] Первая цель планировалась к исполнению к 100-летнему юбилею основания Коммунистической партии Китая (основана в 1921 г.), вторая цель панируется к осуществлению к 2049 г. На сегодняшний день Китай успешно завершил первый этап социально-экономического развития, который носит название «вэньбао» (отсутствие голода и нищеты). В настоящее время страна строит общество «среднего достатка» («сяокан»), третий этап - идеальное общество «великой гармонии» - «датун» (Войцехович, 2018). Достижение сбалансированного развития и роста может быть достигнуто за счет реализации политики «двойственной циркуляции/воспроизводства» внутреннего и внешнего кругов экономики. При этом в рамках исполнения модели доминирования внутреннего круга или внешнего не подразумевается, напротив, что внешний сектор экономики должен дополнять национальную экономику. Драйвером экономического роста и развития китайской экономики является достижение высоких показателей внутреннего потребления и превращения страны в «глобальный торговый центр» и создание в Китае мощного «гравитационного поля» по привлечению глобальных ресурсов и факторов производства. Национальная «внутренняя» экономика является опорной в рамках модели «двойной циркуляции / воспроизводства» экономики, «внешняя» - дополняющей. Дополнение «внутреннего круга» и в дальнейшем планируется проводить за счет большей либерализации китайской экономики через либерализацию внешнеторгового сектора, усиление внешнеэкономической экспансии китайского транснационального бизнеса, увеличение числа зон свободной торговли (т.е. через развитие интеграционных моделей сотрудничества) и либерализацию инвестиционной сферы[48]. Одним из важных элементов «циркуляции» является обеспечение экономической безопасности глобальных цепочек поставок и обеспечение максимальной независимости и самостоятельности в сельском хозяйстве, обрабатывающем секторе, энергетике и технологиях[49]. По последним опубликованным ВТО данным доля национальной и иностранной добавленной стоимости в структуре валового экспорта следующая: в экспорте компьютеров и электронной продукции (национальной - 69,5 %, иностранной - 30,5 %), в экспорте текстильной продукции и одежды (национальной - 89,8 %, иностранной - 10,2 %), в экспорте электрического оборудования (национальной - 81,2 %, иностранной - 18,8 %)[50]. Переход к новой экономической стратегии «двойной циркуляции» китайской экономики не был внезапным: предпосылки к данному переходу складывались на протяжении достаточно долгого времени. Одним из наиболее значимых факторов, лежавших в основе и данного перехода и начала следующей фазы экономического роста и развития, то есть «новой нормальности», послужил кризис 2008 г. Опора на внутренний спрос или на «внутренний круг циркуляции» за счет роста среднего класса и доходов населения есть основа будущего экономического роста и развития китайской экономики. «Внешний круг», то есть внешнеэкономический сектор, является не основным, но поддерживающим, дополняющим, поэтому правительством принимаются меры, направленные на дальнейшую либерализацию китайской экономики. Несмотря на определенное смягчение внешнеэкономической политики страны, ряд секторов остаются закрытыми для иностранных инвесторов, что определяет область стратегических интересов Китая и содействует доминированию КНР на определенных мировых товарных рынках. Одновременно с этим принимаются меры по сокращению зависимости от традиционных источников энергии и декарбонизации китайской промышленности с ориентацией на экологичность вторичного сектора экономики (Ясинский, Кожевников, 2022; Кулинцев, 2021). События последних нескольких лет, включая вызовы глобального значения в виде COVID-19, а также специальную военную операцию, проводимую Россией, и последовавшая за ней перестройка мировой экономической архитектуры и глобальных цепочек стоимости и логистических цепочек, свидетельствуют о том, что современный этап развития мирового хозяйства, известный как глобализация, подлежит если не пересмотру, то дополнению. Это может быть выражено в виде разработки и развития теории нового этапа развития мирового хозяйства, на который сегодня переходят субъекты мирового хозяйства. Различные подходы к «новой нормальности / норме / реальности», пересмотр моделей экономического развития в силу того, что эффекты от глобализации и усиление международной конкуренции перестают удовлетворять национальные интересы, рост числа региональных торговых соглашений, появление одних «субъектов» хозяйства (например, AUKUS) и потенциально возможное расширение других (например, БРИКС) и т.д. - все это свидетельствует именно о «перестройке» или переходе этапа глобализации на другой уровень либо свидетельствует о возникновении принципиально нового этапа развития мирового хозяйства.Об авторах
Юлия Александровна Коновалова
Российский университет дружбы народов
Автор, ответственный за переписку.
Email: konovalova_yua@pfur.ru
ORCID iD: 0000-0002-8101-2462
кандидат экономических наук, доцент кафедры международных экономических отношений экономического факультета
Российская Федерация, 117198, Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 6Список литературы
- Войцехович А.А. Сяокан - социализм с китайским лицом // Международный научно-исследовательский журнал. 2018. № 1-3 (67). С. 36-40. https://doi.org/10.23670/IRJ.2018.67.029
- Гулеева М.А. Отмена политики «Одна семья - один ребенок» // Азия и Африка сегодня. 2016. № 6 (707). С. 36-40.
- Гусаков Н.П., Коновалова Ю.А., Решад С.А. Индийская Республика на мировых рынках энергетических ресурсов // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика. 2021. Т. 29. № 3. C. 502-509. https://doi.org/10.22363/2313-2329-202129-3-502-509
- Коновалова Ю.А., Ушанов С.А., Зарубин И.С. Торговое сотрудничество США и ЕС в контексте изменения американской внешнеэкономической политики // Вестник МГИМО- Университета. 2020. Т. 13. № 5. С. 31-54. https://doi.org/10.24833/2071-8160-2020-574-31-54
- Кулинцев Ю.В. Стратегия «двойной циркуляции» и ее влияние на российско-китайские отношения // Китай в мировой и региональной политике. История и современность. 2021. Т. 26. № 26. С. 242-255. https://doi.org/10.24412/2618-6888-2021-26-242-255
- Ушанов С.А., Решад С.А. США - Китай: худой мир лучше доброй «торговой войны» // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экономика. 2020. Т. 28. № 2. С. 273-287. https://doi.org/10.22363/2313-2329-2020-28-2-273-287
- Чернова В.Ю., Хейфец Б.А. Политика умного импортозамещения в КНР // Общество и экономика. 2021. № 5. С. 84-100. https://doi.org/10.31857/S020736760014939-1
- Ясинский В.А., Кожевников М.Ю. «Двойная циркуляция» - модель роста китайской экономики в ближайшие 15 лет // Проблемы прогнозирования. 2022. № 1 (190). С. 162-173. https://doi.org/10.47711/0868-6351-190-162-173
- Craft M. Bill Gross: You Don’t Get The New Normal // Forbes. 2010. URL: https://www.forbes.com/2010/06/30/bill-gross-new-normal-markets-bonds-equities.html?sh=3fd17b336816 (accessed: 15.06.2022).
- El-Erian M.A. Navigating the new normal in industrial countries. Washington, DC: Per Jacobsson Foundation Lecture. International Monetary Fund, 2010. URL: https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/sp101010 (accessed: 15.06.2022).
- Gross W.H. On the course to a new normal // PIMCO. 2009. URL: https://www.pimco.com/en-us/insights/economic-and-market-commentary/investment-outlook/on-the-course-to-a-newnormal/ (accessed: 17.06.2022).
- Reinhart C.M. This Time is Different. Carmen M. Reinhart. 2009. URL: https://carmenreinhart.com/this-time-is-different/ (accessed: 15.06.2022).
- Sneader K., Singhal S. The future is not what it used to be: Thoughts on the shape of the next normal. McKinsey & Company, 2020. URL: https://www.mckinsey.com/featured-insights/leadership/the-future-is-not-what-it-used-to-be-thoughts-on-the-shape-of-the-next-normal (accessed: 17.06.2022).
Дополнительные файлы