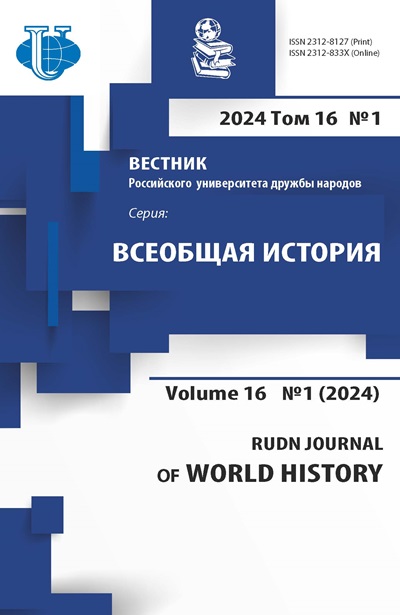Гендерный аспект идеологии и практики иранского национализма в первой трети XX в.
- Авторы: Ардашникова А.Н.1, Коняшкина Т.А.1
-
Учреждения:
- МГУ имени М.В. Ломоносова
- Выпуск: Том 16, № 1 (2024)
- Страницы: 64-79
- Раздел: Идеи и политика в истории
- URL: https://journals.rudn.ru/world-history/article/view/38725
- DOI: https://doi.org/10.22363/2312-8127-2024-16-1-64-79
- EDN: https://elibrary.ru/ECKNDV
- ID: 38725
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Иран относится к тем редким случаям, когда вопрос об общественном статусе женщины поднимался правящими режимами дважды - в 1920-1930-е гг. и в 70-е гг. XX в., демонстрируя неразрывную связь националистического и гендерного дискурсов. Поскольку гендерная проблематика была не только заявлена от имени государства, но и широко дискутировалась в общественном поле, ее исследование предполагает обращение и к источникам художественно-публицистического характера, традиционно являющимся в Иране конца XIX - первой половины XX в. мерилом умонастроений общества. К их числу относятся материалы иранской, главным образом женской прессы, произведения, принадлежащие к литературному корпусу рубежа веков. Весьма ценным источником для исследователя служит и наглядная пропаганда в жанре плаката, визуализировавшая позицию власти. Предпринятое исследование показывает, что, начиная с конца XIX в., иранский национализм для прокламации собственных позиций усиленно эксплуатирует и гендерный вопрос, используя в политических целях семейную метафорику и систему символов, основанных на образе женщины (мать родина). Как идеология модернизирующегося общества, национализм в Иране активно использовал и образ «прогрессивной иранки» в качестве связующего звена между настоящим и великим доисламским прошлым.
Ключевые слова
Полный текст
Изучение гендерного вопроса как комплекса проблем, сопряженных с изменением традиционной роли женщины и ее положения в обществе и семье в Иране XX в., связано с определенными сложностями. В первую очередь к ним стоит отнести политизированный накал дискуссии, который замедляет освоение этой темы, перенося внимание исследователей в плоскость идеологического противостояния. Не последним по важности вопросом является и собственно предмет спора - идет ли речь о расширении женских прав в рамках уже существующих социальных ролей или о стремлении их кардинальной ревизии. Несмотря на разногласия, стороны сходятся в том, что говорить о сколько-нибудь самостоятельных и организованных сообществах женщин Ирана имеет смысл, только начиная отсчет с машруте[44] и рассматривая ее как отправную точку женского движения. Симптоматично, что рожденный революционным временем термин «пробуждение» (бидари) зна менует и широкие изменения общественного порядка, и начало переосмысления положения иранки. Новая политическая метафорика напрямую связала эти два явления в националистическом дискурсе, который к этому времени имел длительную историю. Иранский национализм и его символы Большинство исследователей относит становление националистических идей к периоду правления Сафавидов (XVI-XVII вв. ), когда заявили о себе базовые черты иранского националистического конструкта, основанного на обретшей определенные контуры территориальной общности, доминирующем положении персидского этнолингвистического элемента и исламе шиитского толка [1. C. 10]. Важным этапом развития националистической общественной мысли, вдохновлявшейся идеей «таракки» - прогресса, стал рубеж XIX-XX вв. Известная общность «жаждущих прогресса» скреплялась еще и их обращением к литературному слову социальной направленности: люди пера, они осознавали его как свою миссию и насущную потребность времени. Почти все они бывали за пределами Ирана, а некоторые предпочли судьбу эмигрантов и прошли непростой путь адаптации к иной социокультурной реальности, прежде чем выступить в роли переводчиков языка одной политической культуры на другой, свой собственный. Перед нами первые иранские интеллектуалы «роушанфекран» - «обладающие просветленными мыслями», политические и культурные предпочтения которых были сформированы Европой. В социальном отношении это была весьма разнородная группа, поставившая в один ряд выходца из сановной бюрократии Малкомхана (1833-1908), сына мелкого чиновника Ага-хана Кермани (1854-1896) и представителей иранского базара[45]: купца Зайн ал-Абидин Марагаи (1837-1910) и сына плотника Абд ар-Рахима Аби Талеба Табризи, известного под русифицированной фамилией Талибов (1834-1911). Одной из черт их деятельности была демократизация литературного творчества в самом широком смысле: обновление языка, тем, сюжетов, то есть стремление сформировать новую общественную среду. Их усилиями националистический лексикон был существенно преобразован за счет введения новых понятий и смыслов. Основополагающим маркером этого процесса стало переосмысление религиозных в своей основе представлений о ватан («родина») и меллат («народ»), а также и о государе как о зиждителе и охранителе сообщества правоверных. Ватан отныне интерпретируется не только как заповедная обитель истинной веры, связанная с местом рождения или проживания [2. C. 20520-20521; 3. P. 113-116], но и как территория государства с официально закрепленными пределами. Столь же расширительно понимается и меллат, который теперь подразумевает не объединение единоверцев [2. C. 18947-18948], а включает каждого, кто ощущает чувство принадлежности к Ирану (иранийат), независимо от этно-религиозных различий [3. C. 156]. Не меньшую трансформацию претерпел образ государя как отца родины и народа, которому подданные должны повиноваться. Правитель был вынужден уступить часть своих полномочий народу-меллат во имя спасения родины, которой угрожают «чужие» [4. C. 113]. В обновленной националистической концепции меллат «привязан к животворящей матери-родине (мадар-е ватан) и родному языку (забан-е мадари)» [4. C. 137], что впоследствии «способствовало возникновению публичной сферы и народного суверенитета - участия всех детей нации (как мужчин, так и женщин) в определении будущего матери-родины (мадар-е/мам-е ватан)» [4. C. 113]. Иран - это прежде всего «мы», осознающие свое единство сродни семейному. Новая трактовка меллат создавала потенциальные возможности для переосмысления сложившихся в иранском обществе гендерных статусов и способствовала формированию в общественном нарративе женской символики. Если христианский мир богат словесно- изобразительными образами-символами, эксплуатирующими женское начало, то в территориальном комплексе дар ал-ислам[46] они представлены гораздо слабее. Безусловно, женские персонажи присутствуют в обширном корпусе классической поэзии на фарси, но лишь мистическое сознание, отраженное в том числе и в суфийской лирике, придавало любовному переживанию высокое звучание, воспевая в образах традиционного любовного репертуара стремление человека к Всевышнему. Впрочем, отсутствие в персидском языке категории рода придает объекту этой любви стертый, имплицитный характер (возлюбленный или возлюбленная). Образ матери-родины - одна из ярких новаций иранского националистического нарратива, основанного на чувстве возвышенной любви, заповеданной Всевышним. К такой же аргументации прибегали в 1868 г. и турецкие националисты, публикуя в первом номере газеты Хюррийет («Свобода») «передовицу, озаглавленную словами хадиса (речения пророка Мухаммада) «Любовь к родине (ватан) - от веры (иман)» - отныне не просто лозунг, но и прямая религиозная санкция «мусульманского патриотизма» нового времени» [5. C. 51]. В поисках универсального символа родины общественная мысль рубежа веков пыталась апеллировать и к привычным для традиции патриархатным образам. В вызвавшем широкий общественный резонанс романе «Дневник путешествия Ибрахим-бека» (1888) ватан-родина представлена и в женской, и мужской ипостасях - несчастный обнищавший Иран-хан, лишенный славы и почета, над которым глумятся его неблагодарные сыно вья [6. C. 88], и заботливая мать, преданная своими детьми [6. C. 162]. Как и во многих подобных идеологических конструктах, в репрезентации иранской нации «активно используются такие атрибуты мифологии семьи, как сюжеты … обеспечения защиты и питания, рождения и воспитания потомства… Концепты территории, государства, подданных облекаются в образы матери, сыновей, братьев и т. д.». [7. C. 46] Свое наглядное воплощение идея сплочения нации как семьи получила в период конституционного движения, явственно обнаружив гендерный аспект по-новому понимаемой родины. Ее ярким проявлением стала так называемая история «девушек из Кучана[47]», проданных семьями за долги в увеселительные заведения Тифлиса. Эта драма обыденной жизни одной из северных окраин Ирана была подхвачена демократической прессой и преобразована в песню-плач с рефреном «Боже, никто не думает о нас»[48], ставшую камертоном общественных настроений. В 1906-1907 гг. история страданий «наших дочерей» из Кучана обсуждалась повсеместно в уличных кофейнях и на базарных площадях, звучала с минбара мечетей как символ потери национальной, религиозной и семейной чести. По мнению исследовательницы А. Наджмабади, сопереживание горькой судьбе кучанских девушек рождало «чувство сопричастности и национальной общности иранцев» [9. C. 103] и представление о том, что неспособные защитить своих женщин и детей неспособны защитить и родину. Акцентирование в националистической концепции символической роли женщины только в качестве объекта мужской опеки не может затушевать высокий уровень женской активности в период машруте. Еще со времен средневековья женщины в Иране являлись непременным участником народных протестных движений, что позволяет оценить их борьбу как своеобразную форму политической деятельности. Но если даже в ХIХ в. это было движением в общем потоке, то время конституционной революции определенно свидетельствует об обособлении иранок в отдельную группу с собственными социальными интересами. Развитие женского образования, создание женских обществ - анджоманов и появление периодической печати, ориентированной на «прогрессивную иранку», - очевидные приметы этого обособления. Являясь важным этапом политической истории Ирана XX в., революция тем не менее оценивалась современниками весьма драматично: к грузу прежних проблем добавились новые, решить которые конституционная власть, испытывавшая сильное давление извне, не могла. В обществе усилились разногласия между секулярными и религиозными силами, упал и престиж центральной власти, позиции которой расшатывались растущим племенным и региональным сепаратизмом. Ощущение политического хаоса создавало убедительные предпосылки для идеологического сдвига и нового видения вектора развития страны. Доминирующей идеей начала 1920-х гг. становится модель будущего, основанная на соединении величественной древнеиранской державности с достижениями европейского прогресса, что порождало отношение к исламу как к навязанному извне религиозному учению, чуждому иранской ментальности. Воплощение этих идей могло быть под силу только новому политическому лидеру, который сумеет консолидировать общество. Страна «бывала сильна только тогда, - звучало повсеместно в иранской прессе, - когда у кормила правления появлялся мощный и полновластный национальный герой», который по примеру таких «великих диктаторов, как Наполеон, Ленин и Муссолини» [10. Л. 7] выведет Иран из кризиса. Общественный запрос на сильную личность и благоприятно сложившаяся конъюнктура способствовали выдвижению на политическую авансцену кадрового военного Реза-хана Савадкухи, который за четыре года прошел путь от полковника Персидской казачьей бригады, успешно осуществившего переворот 1921 г., до премьер-министра, а в 1925 г. был коронован под тронным именем Резашах Пехлеви (правил 1925-1941). Заслуживает внимания, что в ассортименте пропагандистских средств, используемых новым политическим лидером, начинает заявлять о себе плакат. Один из пионеров этого изобразительного жанра знакомит зрителя с принципами новой националистической концепции: Иран, символически представленный в женском обличье, окружен правителями разных эпох, с каждым из которых связан новый цикл имперской истории страны. Они препоручают Реза-хану священную миссию защиты родины [11. C. 55-56]. Симптоматично, что на плакате, где в изобилии присутствует религиозная и политическая эмблематика древнего Ирана, не представлены исламские символы. Не фигурирует на изображении и ни один из Сафавидских шахов, олицетворяющих в иранском сознании торжество шиизма, сыгравшего громадную роль в становлении национально-религиозного самосознания. По страницам женской прессы Пожалуй, самым заметным социокультурным явлением в Иране первой трети XX в. стало интенсивное развитие прессы, начавшееся в эпоху машруте. Идеологическое воздействие «четвертой власти», ее возможности в структурировании общественного мнения и роль как информатора в делах повседневной (бытовой и общественной) жизни очевидны. Если в одном лишь 1907 г. общее количество издававшихся в Иране газет достигало 90 наименований [12. C. 37], то к концу машруте эта цифра выросла троекратно. Известный российский иранист К.И. Чайкин, бывший свидетелем этих событий, объясняет столь быстрый рост прессы не только широкой полити зацией населения, но и особенностями иранской журналистики этого периода: газета издается в основном усилиями одного человека, который является одновременно и издателем, и автором большинства публикаций. Несмотря на слабое распространение грамотности среди иранцев, обращение к газете стало частью повседневной жизни горожан. Видный английский востоковед Э. Броун свидетельствовал, что «во многих кофейнях профессиональные сказители заняты тем, что вместо того, чтобы пересказывать легендарные предания из «Шах-наме», теперь угощают своих клиентов политическими новостями» [13. C. 143]. Печатное слово зазвучало на равных с такими традиционными каналами распространения информации, как мечеть и базар. Воздавая должное влиянию печати в эти дни, шиитские богословы также уповали на «святую прессу» в своей политической деятельности и ратовали за покупку газет как за богоугодное дело, которое будет зачтено при определении посмертной судьбы верующего [14]. В этой массе печатной продукции заявили о себе и издания, предназначенные для «нашей скромной сестры», которые стали играть роль дополнительной трибуны для проповеди новой жизни. Примечательно, что их основателями стали сами женщины, впервые взявшие газетное дело в свои руки. Начало этому процессу было положено журналом Данеш («Знание») (1910-1911), который издавался дважды в месяц и был ориентирован на обеспеченных горожанок. Следуя новому националистическому нарративу, журнал объявил приобретение знаний не только одним из самых достойных занятий для женщины, но и обязанностью, возложенной на нее Создателем [15]. Невзирая на попытку религиозной аргументации своих убеждений, очевидно, что редактор журнала, г-жа Каххал, выбирая между традиционной системой образования и современной школой, отдавала предпочтение последней, где формируется кругозор, достойный воспитательницы нового поколения иранцев. Правда, неуверенная в уровне грамотности своих потенциальных потребителей, издатель была вынуждена балансировать между текстом и его устной передачей и рекомендовать им при необходимости обращаться за помощью к мужу. Дочь врача-офтальмолога, получившая профессию из рук отца, г-жа Каххал хорошо представляла домашний устав своих состоятельных читательниц - замкнутый женский круг, толпа нянек, кормилиц и слуг из простонародья и как следствие - господство особой языковой субкультуры с обсценной лексикой. Низкий социальный статус ближнего окружения женщины предстает на страницах журнала как угроза моральному и физическому здоровью детей [16]. Цель подобных, имеющих социальный крен инвектив - искоренение пороков традиционного домашнего воспитания, принятого и в шахском домашнем обиходе, и в сановной среде. Свидетели, которые могли составить представление о гареме Насер ад-Дин-шаха Каджара (правил 1848-1896), недвусмысленно подтверждают это наблюдение: как в любом закрытом монополовом коллективе, на женской половине дворца царили иерархичность, постоянные интриги, праздность и ее прямое следствие - языковая несдержанность, граничащая с распущенностью, при обсуждении интимной стороны семейной жизни, не стесняясь присутствия детей [17. C. 80]. Тадж ас-Салтане (1883-1936), одна из дочерей Насер ад-Дин-шаха, впоследствии заявившая о себе как активная поборница гендерного равенства, вспоминала, что, воспитанная рабыней-негритянкой, она практически не знала в детстве своей матери и толком не владела родным языком, получив первые уроки разговорного фарси в беседах с отцом [18. C. 988]. Следуя националистическому взгляду на образование как основу морали и патриотического воспитания, журнал стремился побудить хозяек женской половины дома взять заботу о детях, особенно девочках, в свои руки. Содержание первого журнала, издаваемого женщиной для женщин, имеет для исследователя гендерных отношений тестовый характер, в том смысле, что демонстрирует состояние проблемы на таком значимом для любого общества историческом периоде, как революция. Тематика Данеш не выходит за рамки обсуждения традиционного предназначения женщины, фиксируя незыблемость свойственных этому времени женских гендерных ролей. Впрочем, история знает немало подобных примеров, настолько частых, что их можно считать закономерностью. Итог европейских революций конца XVIII - первой половины XIX вв. достаточно красноречиво показал, что прокламация индивидуальных свобод, равенства и братства обернулась для женщин ужесточением культа домашнего очага [19. C. 123-137]. Аналогичных примеров достаточно и в XX в., особенно там, где сильны позиции религии. Если журнал Данеш интересен в основном как первое специализированное издание, то самый популярный и существовавший более десятилетия журнал Алам-е несван («Мир женщин») (1920-1934) отражает совершенно иной уровень понимания проблем и задач, стоящих перед современной иранкой. Идеологический посыл новой власти, наглядно демонстрирующий ее индифферентное отношение к исламу, был понят редакционной коллегией журнала Алам-е несван, которая выстраивала свою гендерную политику в русле принципов, заявленных государством [20. P. 164-166.]. Власть, в свою очередь, благосклонно относилась к журналу, поддерживала многие его начинания и даже рекомендовала влиятельным представителям бюрократии высказываться на его страницах. Среди подписчиц журнала мы обнаруживаем и членов семьи Пехлеви. Издание обнаруживает возросший уровень профессионализма, втягивая читателей в обсуждение насущных проблем и побуждая их вступать в диалог с журналом. Весьма популярной стала рубрика от лица некоего вымышленного персонажа Делшад-ханум, представительницы базара, кото рая изъяснялась в характерной разговорной манере и комментировала редакционные статьи с позиции здравого смысла[49]. Каким же виделся редколлегии мир современной иранки? Это, конечно, семья, однако традиционный семейный идеал под пером ведущих авторов издания, как женщин, так и мужчин, претерпел значительные изменения. Освещенный разрешением родителей, брак тем не менее должен был основываться на добровольном согласии обеих сторон. Сохранявший характер договора, он должен был соответствовать как исламским нормам, так и новым представлениям о брачном союзе в модернизирующемся обществе, в основе которого лежат отношения равноправных партнеров. Впоследствии часть этих норм, за которые ратовал журнал, были включены в Гражданский кодекс 1928 г. и дополнивший его Закон о семье и браке 1932 г. Журнал готовил общественное мнение, пропагандируя повышение брачного возраста, право женщин на развод и даже опережал власть, резко критикуя детские и договорные браки. Конечно, самые важные для любого общества задачи были связаны с охраной здоровья населения как одной из главнейших обязанностей власти. Смертоносной национальной угрозой в Иране XIX - первой половины XX в. оставались эпидемии холеры и оспы, но не последнюю роль играло и повальное распространение венерических заболеваний, которое журнал связывал со слабой осведомленностью населения, отсутствием грамотной медицинской помощи, проституцией, а также общепринятым обычаем заключения временных браков (сигэ). Не случайно первый в Иране социальный роман современного типа «Страшный Тегеран» (1923) Мошфека Каземи (1887-1978), посвященный жизни города периода модернизации, не обошел вниманием эту животрепещущую проблему [21]. Как вполне заурядную историю автор включает в повествование рассказ одной из обитательниц «веселого квартала» столицы, которая хотя и знала, что больна, продолжала заниматься своим «ремеслом», заразив не один десяток человек. Медицинское культуртрегерство журнала способствовало включению в Закон о браке и семье обязательного освидетельствования будущего супруга на предмет венерических заболеваний. Но радикально за решение проблемы власть взялась только в 1941 г., когда меджлис принял закон борьбе с инфекционными болезнями, который предусматривал принудительное лечение венерических больных, бесплатную медицинскую помощь малоимущим пациентам и наказание за передачу таких заболеваний или отказ от их лечения. «Мир женщин» определенно заявил о своей принципиальной позиции в гендерном вопросе - его идеалом является работающая женщина, вносящая свою долю в семейный бюджет и снимающая часть финансового бремени с мужа. Развивая эту тему, журнал очертил сферу потенциального применения женского труда, во многом занятую мужчинами. Осознавая трудности получения полноценного профессионального образования, авторы тем не менее видели возможности трудоустройства для женщин из средних городских слоев: им предлагалось осваивать навыки акушерок, санитарок, секретарей, портних и т.д. Не обходил вниманием Алам-е несван и проблему внешнего вида иранки. Авторы публикаций рассматривали переход на новый, европейский тип одежды не только как естественное следствие меняющегося образа жизни и новой городской среды, но и как один из путей развития экономики страны: появление местной индустрии моды могло создавать резерв дополнительных рабочих мест, в том числе и для женщин. В 1920-е гг. журнал начал осторожно говорить о необходимости отказа от традиционной одежды, а в 1930-е гг., почувствовав готовность власти к решительным шагам в этой области, Алам-е несван устами Делшад-ханум осмеивал этот средневековый обычай и утверждал, что женщины готовы похоронить «ненавистный хиджаб». «Черный саван» или одеяние чистоты? Хиджаб в Иране - это прекрасная иллюстрация особенностей гендерной политики националистических режимов мусульманского мира на пути в современное общество[50]. Являясь одним из общепринятых предписаний ислама, хиджаб выступает в роли специфического облачения, скрывающего от посторонних взглядов тело и лицо женщины. Исторически в арабском языке хиджаб мыслился как завеса над входом в бедуинскую палатку, а позже - как преграда, отделявшая государя от подданных. Подобную семантику несет в себе и хиджаб-одеяние, отделяющее женщину от внешнего мира. В этом значении хиджаб полностью соотносится с персидским композитом парде-нешин, «сидящая за завесой» или «затворница», который являлся наиболее частым синонимом слова «женщина» в иранском патриархатном обществе. В течение веков понятие парде-нешин служило воплощением культурного идеала женской скромности, закрытости и невидимости в публичном пространстве. Между тем термин парде полисемантичен, и среди многих его значений равно бытуют и покров, и тайна. Считается, что затворница за завесой столь же высока, благоговейна и недоступна для чужих, как и бо жественная тайна для непосвященных. Соблюдение хиджаба носило вариативный характер и зависело от многих факторов, главным образом социального положения иранки: женщины, занимающиеся сельским трудом, ограничивались ношением платка, лишь изредка прикрывая лицо в присутствии незнакомца, в племенах могли пренебрегать и этой условностью. Обязательным строгое соблюдение хиджаба было для горожанок, особенно из семей, дороживших своим высоким социальным статусом: «Евнух отворил дверцу кареты, из которой нетерпеливо высовывались две головы. Одна из этих голов принадлежала самой барыне, другая - одной из ее главных прислужниц. По внешнему виду отличить их друг от друга было трудно: обе были одеты в черные чадуры; лица обеих были закрыты белыми рубендами с шелковой решеткой у глаз, застегнутыми на макушке на пуговицу, - только у одной эта пуговица была не что иное, как бриллиант, величиной в ноготь мизинца, а у другой - простая стеклушка» [23. C. 528]. Помимо соображений приличия хиджаб выступает и как способ продемонстрировать, что семья обладает достаточными средствами и может позволить себе содержать неработающих женщин. Активность прессы, медленный, но неуклонный рост женского образования и женских организаций, ориентированных на международные связи, подталкивали власть к реформированию традиционного женского облачения, тем более что аналогичные, встроенные в единый синхронный ряд процессы шли на всем Ближнем и Среднем Востоке и в Центральной Азии, где с начала 1920-х гг. хиджаб прочно приобрел значение символа отсталости. Общество также постепенно втягивалось в дискутирование проблемы, которая вызывала неоднозначные отклики и не исчерпывалась бинарной оценкой «современный - отсталый». Хиджаб постепенно становился индикатором, выявляющим принципиальные предпочтения спорящих: что должно являться основой новой государственной идеологии - религиозная или национальная идентичность. Оба течения не были монолитными и демонстрировали сочетания разных точек зрения, порой в весьма противоречивых комбинациях. Так, принадлежавшие к демократическому крылу общественного движения политические единомышленники, известные поэты и журналисты Мир-заде Эшки (1894-1924) и Ашраф ад-Дин Гиляни (1870-1934) тем не менее категорически разошлись во мнениях относительно сохранения обычая закрывать лицо женщины (ру герефтан). Если для Эшки хиджаб - это «черный саван»[51], то для его оппонента он ценен как символ религиозно-культурной идентичности: «Закрытие лица - требование нашей веры, // Мы - мусульмане, целомудрие - одно из предписаний нашей религии» [25. C. 591]. Воздавая должное подобным представлениям, отметим лишь, что зачастую высокие истины, преломляясь сквозь рутину повседневности, на практике теряют свой сакральный смысл. Об этом язвительно писал еще один популярный в 1920-е гг. поэт Ирадж Мирза (1874-1926). В своей провокационный поэме «Книга о хиджабе» он откровенно высмеял хиджаб как фальшивую «завесу чистоты», которая легко превращается в удобное прикрытие низменных желаний мнимой скромницы[52]. Приняв решение о необходимости реформирования женской одежды, власть не сразу приступила к его осуществлению, уделяя первоочередное внимание более масштабным задачам: ревизии правовой и финансовой сферы, созданию новых управленческих структур. Но в фокусе внимания оставался и гендерный вопрос. Любая газета, сообщавшая о достижениях режима, непременно в качестве иллюстративного материала привлекала женский образ без хиджаба как символ грядущих перемен [27. C. 5-6]. Впервые о реформе одежды прицельно заговорили в 1928 г. после визита в Иран короля-реформатора Афганистана Амануллы-хана в сопровождении жены, одетой на европейский манер. Однако его свержение в 1929 г. в результате восстания Бачаи Сакао ярко продемонстрировало степень влияния консервативных сил и побуждало иранский трон к осторожности. Непростым был и собственный опыт. Прямым следствием внешнего преображения мужчин в 1927 г. стали открытые протесты: если в Тегеране они были рассеяны сравнительно легко, то в святом Мешхеде для подавления несогласных была пущена в ход артиллерия. Только в 1935 г. под влиянием успеха кемалистских реформ в этой области [28. C. 157-224] власть решилась поставить на повестку дня вопрос о судьбе хиджаба, год спустя реализованный в указ о его запрете (кашф-е хиджаб - снятие хиджаба). Самыми последовательными сторонниками открытости стали иранки из высших и средних слоев городского общества. Именно женщины из таких семейств первыми начали требовать в подражание своим родственникам-мужчинам доступа к образованию, к жизни за пределами домашнего очага и к улучшению условий, налагаемых на них существующим семейным кодексом. Судя по опубликованным воспоминаниям, многие замужние иранки легко расставались с хиджабом, желая себе и детям будущего без завесы [29]. Голосом женщин, приветствовавших отмену хиджаба, стала известная поэтесса Парвин Этесами (1907-1941). Избегавшая в своем творчестве политических тем, она тем не менее не могла не откликнуться на это событие: «И жизнь, и смерть ее протекали в затворничестве // Кем была женщина в те дни, если не узницей? // В лавке знания было много плодов, однако // из этого изобилия ей ничего не доставалось // <…> // Глаза и сердце должны быть за завесой, но за завесой скромности, // изношенная чадра - это не основа мусульманской веры» [30. C. 153-154]. Несмотря на широко развернутую пропагандистскую кампанию и торжественное турне Реза-шаха по стране, сопровождаемое толпами женщин, приветствовавших «свое освобождение», часть из них после отмены хиджаба все же предпочитали вынужденное затворничество [31]. Среди обитательниц старых городских районов это приобрело характер пассивного сопротивления навязываемым новшествам. Используя традиционное устройство домов, иранки, не желавшие появляться в публичных местах без привычного хиджаба, превратили в подобие уличного пространства плоские крыши, которые они использовали для передвижения в пределах своего квартала [32. C. 7]. Исследование истоков и развития национализма как государственной политики в Иране обнаруживает его генетическую связь с гендерной проблематикой. Символический ряд, используемый новой иранской идеологией для самопрокламации, эксплуатирует образы семейных уз как основы современных общественных отношений. В этой системе ценностей женщине, как правило, отводится традиционная роль объекта, нуждающегося в защите и опеке со стороны мужской части сообщества. Очередной виток националистического видения путей развития государства связан в Иране с периодом «Великой войны». Именно тогда, в середине 1910-х гг., иранский национализм обращается к образам древнеиранской державности, определяя роль страны как одного из центров, наряду с Европой, мировой цивилизации, и ратует за возвращение утерянных позиций. Эта умозрительная модель была эффективно использована для пропаганды необходимости проведения нового реформаторского курса, осуществляемого режимом Пехлеви. К этому же подталкивал и пример соседних ближневосточных стран, следовавших по пути прогресса, в том числе и в попытке комплексного решения женского вопроса. Парадоксально, что яркой метой времени явились не изменения, внесенные в гражданский кодекс, не усилия власти по развитию женского образования, а в сущности одноразовая акция по запрету хиджаба. Она стала устойчивым символом и наглядным воплощением иранской модернизации первой половины XX в.Об авторах
Анна Наумовна Ардашникова
МГУ имени М.В. Ломоносова
Автор, ответственный за переписку.
Email: anardash@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-9170-1803
кандидат филологических наук, доцент кафедры иранской филологии ИСАА
125009, Российская Федерация, Москва, ул. Моховая, д. 11, стр. 1Тамара Александровна Коняшкина
МГУ имени М.В. Ломоносова
Email: tamara_mgu@mail.ru
ORCID iD: 0009-0002-7569-5794
старший преподаватель кафедры истории стран Ближнего и Среднего Востока ИСАА
125009, Российская Федерация, Москва, ул. Моховая, д. 11, стр. 1Список литературы
- Litvak M. The construction of Iranian national identity. An overview // Constructing nationalism in Iran. London - New York: Routledge, 2017. P. 10-31.
- Деххода А. Логатнаме (Словарь). Тегеран, 1994 (на перс. яз.).
- Реза-шах Пахлави. Сафар-наме-йе бе Хузестан ва Мазандаран (Дневник путешествия в Хузестан и Мазандаран). USA: Ketab Corp. 2007 (на перс. яз.).
- Tavakoli-Targhi M. Refashioning Iran. Orientalism, Occidentalism and Historiography. New York: Palgrave, 2001.
- Кораев Т.К. «Союз в рвении», или «Молодая Турция»: к истории османской общественно-политической мысли второй половины XIX века // Социологическое обозрение. 2014. Т. 13. № 2. C. 33-71.
- Марагеи Зейн оль-Абедин. Дневник путешествия Ибрагим-бека, или его злоключения по причине фанатичной любви к Родине. М., 1963.
- Рябов О.В. Гендерное измерение национализма: методологические проблемы исследования // Вестник Ивановского государственного университета. Серия «Естественные, общественные науки». 2008. Вып. 2, «Философия». С. 42-51.
- «Сур-е Эсрафил». 1907. № 4 // Архив иранской прессы периода машруте https:// digitale-sammlungen.ulb.uni-bonn.de/ulbbnioa/periodical/pageview/4287107 (дата обращения 22.06.2023).
- Najmabadi A. “Is Our Name Remembered?”: Writing the History of Iranian Constitutionalism as if Women and Gender Mattered. Iranian Studies, Vol. 29. No. 1/2 (Winter - Spring, 1996). P.85-109.
- Российский государственный архив социально-политической истории. Фонд 495, опись 90, дело 87. Бюллетень Полпредства СССР в Персии. 1923.
- Роскошь заката. Иран эпохи Каджаров. Конец XVIII в. - 1925. Каталог выставки. М.: ГМВ, 2021.
- Чайкин К.И. Краткий очерк новейшей персидской литературы. М., 1928.
- Browne E.G. Press and Poetry of Modern Persia: Partly Based on the Manuscript Work of Mirza Muhammad Ali Khan “Tarbiyat” of Tabriz. Cambridge, 1914.
- Constitutional revolution: The press https://iranicaonline.org/articles/constitutionalrevolution-vi (дата обращения: 20.08.2023)
- «Данеш». 1910. № 1 // Архив иранской прессы периода машруте https://digitalesammlungen.ulb.uni-bonn.de/ulbbnioa/periodical/pageview/4125711 (дата обращения 10.06. 2023) (на перс. яз.).
- Данеш. 1910. № 3 // Архив иранской прессы периода машруте https://digitalesammlungen.ulb.uni-bonn.de/ulbbnioa/periodical/pageview/4125730 (дата обращения 10.06. 2023) (на перс. яз.).
- Смирнов К.Н. Записки воспитателя персидского шаха. 1907-1914 годы. Тель-Авив: Иврус, 2002.
- Bachtin P. The Royal Harem of Naser al-Din Shah Qajar (r. 1848-96): The Literary Portrayal of Women’s Lives by Taj al-Saltana and Anonymous ‘Lady from Kerman’. Middle Eastern Studies, 2015 Vol. 51. No. 6, Р. 986-1009. https://doi.org/10.1080/00263206.2015.1044897
- Репина Л.П. Пол, власть и концепция «разделенных сфер»: от истории женщин к гендерной истории // Общественные науки и современность. 2000. № 4. С.123-137.
- The making of modern Iran. State and society under Riza Shah, 1921-1941. Ed. Cronin S. London - New York: Routledge, 2003.
- Каземи М. Страшный Тегеран. Перевод с перс. В.И. Тардова. Баку: Гянджлик, 1984.
- McClintock A. «No Longer in a Future Heaven»: Nationalism, Gender, and Race // Becoming National: A Reader / G. Eley, R.G. Suny (Eds). New York, 1996. P. 260-285.
- Персидский эндерун. Письма из Тегерана // Вестник Европы. 1886. № 10. C. 501-548.
- Эшки Мирзаде. Коллийат-е мосаввар (Полное иллюстрированное собрание сочинений). Тегеран, 1981 (на перс. яз.).
- Гилани Ашраф ад-Дин. Коллийат-е Ашраф Гилани (Полное собрание сочинений Ашрафа Гилани). Тегеран, 1996 (на перс. яз.).
- Ирадж Мирза Дж. Диван (Собрание стихотворений). Тегеран, 1963 (на перс. яз.).
- «Нахид». 22 ордибихешта 1307 г. (12 мая 1928 г.). № 68 (на перс. яз).
- Киреев М.Г. История Турции XX век. М.: Крафт+ИВ РАН, 2007.
- Honarbin-Holliday M. Becoming Visible in Iran. London; New York: Tauris Academic Studies, 2008.
- Этесами П. Диван (Собрание стихотворений). Тегеран, 1954 (на перс. яз.).
- Beebeejaun Y. Gender, Urban Space, and the Right to Everyday Life // Journal of Urban Affairs. 2017. Vol. 39. no. 3. P. 323-334.
- Шахри Дж. Техран-е кадим (Старый Тегеран). Тегеран: Амир-е кабир, 1979 (на перс. яз.).
Дополнительные файлы