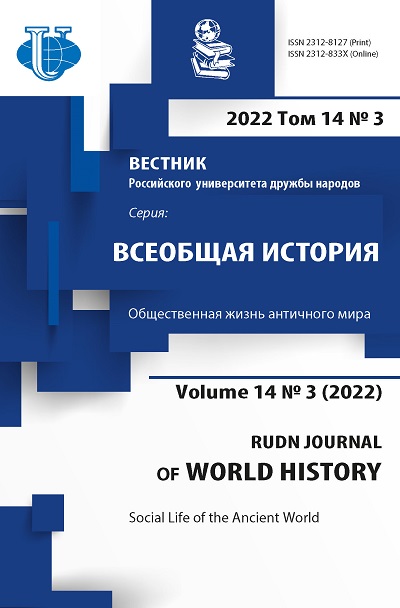Sculptural Display of the Smintheion in Troas: visual rhetoric in the context of a Hellenistic sanctuary
- Authors: Nalimova N.A.1
-
Affiliations:
- Lomonosov Moscow State University
- Issue: Vol 14, No 3 (2022): Social Life of the Ancient World
- Pages: 338-348
- Section: THE ART OF ANTIQUITY
- URL: https://journals.rudn.ru/world-history/article/view/31955
- DOI: https://doi.org/10.22363/2312-8127-2022-14-3-338-348
- ID: 31955
Cite item
Full Text
Abstract
The temple of Apollo Smintheus near the village of Gülpınar (north-western Turkey, Troas) is undoubtedly among the most important monuments of the Hellenistic Age. The latest publications on the temple and sanctuary complex allow a more accurate and precise assessment of this remarkable building. Apollo bearing the epithet “Smintheus” (“Lord of mice”) appears in the opening lines of the Iliad and the very place of action is localized in the vicinity of Chrysa - an ancient town found near modern Göztepe, not far from Smintheion. These “Homeric” associations are reflected in the sculptural decoration of the temple: its frieze depicts scenes from the Iliad and later epic poems. Such a representation of the Trojan cycle, as a continuous narrative with direct reference to Homer and post-Homeric texts, has no precedent in earlier temple sculptures. In addition to the continuous frieze in the entablature, the sculptural decoration of the temple included columnae caelatae of two types - ornamental and figurative ones. Being placed on the top of the columns they formed a single semantic and visual unit with the frieze. In the present article the reach sculptural display of the temple is carefully analyzed. The author demonstrates the way in which various visual languages - narrative, associative, and symbolic - were involved in the mechanisms of creating memory, maintaining the aristocratic ideology and specific aspects of the local cult.
Full Text
Введение Архитектурная скульптура в Древний Греции - особый и чрезвычайно развитый вид искусства. Метопы, фризы фронтоны - каждый из этих элементов создавался как часть архитектурного сооружения, как функциональная деталь внутри тектонической конструкции. Вместе с тем эти конструктивные детали, будучи украшены рельефами или круглой скульптурой, несли на себе развитую изобразительную форму, интегрируя ее в окружающее пространство. Более того, архитектурная скульптура была, как правило, не только изобразительной, но и повествовательной. Она представляла собой закрепленный в визуальной форме, «петрифицированный» миф, который для античного зрителя имел как минимум два уровня прочтения - нарративный (фабульный) и символический. В семантическом измерении миф изображенный (как и миф вообще) несет в себе важное послание, выражающее культурные и социальные ценности общества, в котором он бытует. Его выбор в качестве сюжета для храмовой декорации, разумеется, не бывает произвольным. Он может быть обусловлен связью мифа с культом или определенными «генеалогическими» причинами - с помощью мифа можно напоминать о прошлом, о легендарных событиях, имеющих отношение к земле, на корой стоит святилище, или о мифических предках ктиторов. С этой точки зрения особый интерес представляет богатая скульптурная декорация Сминфейона в Троаде - одного из важнейших, но до сих пор недостаточно широко известных памятников эллинистического времени. Храм и культ Аполлона Сминфея Руины храма близ деревни Гюльпынар в провинции чанаккале были идентифицированы в середине XIX века как принадлежащие святилищу Аполлона Сминфея, известному по письменным источникам [1. P. 21-26]. Первую публикацию памятника предпринял в 1881 году Ричард П. Пуллан, проводивший раскопки от имени лондонского «Общества дилетантов» (Society of Dilettanti) [2. P. 40-43]. Временный интерес к храму сменился долгим периодом почти полного забвения, что весьма пагубно сказалось на состоянии постройки. Лишь много позже, в 1960е годы, архитектурные остатки были повторно исследованы Гансом Вебером, который возродил интерес к святилищу и вновь актуализировал дискуссию по ключевым вопросам, касающимся датировки, стиля, реконструкции храма и его скульптурной декорации [3. S. 100-114]. Именно Вебер был первым, кто проанализировал известные на тот момент фрагменты храмового скульптурного декора. Основываясь на сравнениях с другими эллинистическими комплексами, он датировал скульптуры и сам храм концом III в. до н.э. (позднее эта датировка была скорректирована[53]). В период с 1971 по 1973 год Археологический музей чанаккале проводил кратковременные исследования в районе Гюльпынар. Систематические работы здесь начались лишь в 1980 году под руководством профессора А. Джошкуна Озгюнеля, который является автором и редактором наиболее важных публикаций о Сминфейоне последних лет [1, 4, 5]. Благодаря полученным данным и новым публикациям, мы на данный момент имеем достаточно полное представление об уникальным скульптурном убранстве храма, чья специфика связана с культом Аполлона и особенностями локации святилища. Аполлон Сминфей был местным божеством Троады, которому поклонялись в Гамаксите, Хрисе и позднее (с конца IV в. до н.э.) в Александрии Троадской, а также на некоторых островах, включая Родос [6. P. 154-155]. Относительно происхождения эпиклесы Сминфей античные авторы в целом сходятся во мнении и связывают его со словом σμίνθος (вероятно, эолийского происхождения) - полевая мышь. Согласно Полемону Илионскому, автору II в. до н.э. (Polemon, frg. 31), Аполлон Сминфей был повелителем мышей или защитником от мышей, переносчиков чумы и уничтожителей посевов, что указывает как на разрушительные, так и на благотворные функции божества. Страбон пишет, что мыши, обитавшие возле храма Аполлона, считались священными (Strab. XIII.1. 48). Элиан также свидетельствует о мышах, живших возле алтаря Аполлона Сминфея в Гамаксите (Ael. De Nat. Anim. 12.5). Культовая статуя, выполненная Скопасом для храма в Троаде (Strab. XIII.1.48; Eustath. Comm. ad Hom. Il. 1. 39), представляла Аполлона Сминфея с мышью под ногой. Мышь, как териоморфное воплощение божества, могла указывать на пророческий дар Аполлона, на мантическую функцию святилища[54][55]. В античном мире самое раннее упоминание об Аполлоне, носившем эпиклеcу Сминфей, мы находим в первой книге Илиады. Жрец Хрис обращается с молитвой к Аполлону, называя его «защитник Хрисы», «Сминфей» (Hom. Il. I.37-39). Характерно, что Аполлон, отвечая на молитву Хриса, насылает на ахейцев чуму (а затем отвращает ее) - то есть, как у Полемона, управляет бедствиями, ассоциирующимися с нашествием мышей. Действие первой книги «Илиады» происходит, вероятно, в древней Хрисе - поселении, которое локализуют примерно в двух километрах к западу от Гюльпынара, недалеко от современного Гёзтепе (1. P. 17)[56]. Эта привязка Сминфейона к Гомеру, к легендарным событиям вокруг Трои, очевидно, послужила одним из определяющих факторов при разработке сюжетной программы декорации храма. Скульптурная декорация храма Храм Аполлона Сминфея представлял собой псевдодиптер ионического ордера (8 х 14 колонн). Он имел простую целлу с глубоким пронаосом и опистодомом, вознесенную на высокий подиум с одиннадцатью ступенями. Имя знаменитого архитектора Гермогена часто упоминается в связи со Сминфейоном. Предполагается также, что храм Артемиды в Магнесии на Меандре - проект Гермогена - послужил образцом для диптера в Троаде [8]. Гермоген работал в конце III - начале II в. до н.э. Учитывая предложенную Дж. Озгунелем и О. Бингёлем датировку Сминфейона серединой II в. до н.э. [1. P. 27], можно допустить, что храм был спроектирован одним из учеников или последователей Гермогена. Декор храма состоял из двух групп скульптур: внешнего фигурного фриза в антаблементе и рельефных барабанов колонн, так называемых columnae caelatae. Фриз был сформирован плитами выстой 0,78 м и шириной 1.49 м. Сохранилось всего 19 рельефных блоков. Сюжеты, в них представленные - несомненно сцены троянского цикла. Более того, по мнению Озгюнеля, вся сюжетная линия фриза, насколько ее можно проследить в сохранившихся плитах, может быть привязана к текстам «Илиады» и других эпических поэм: «Киприй», «Разрушения Илиона» и «Малой Илиады» [1. P. 17, 40]. Сюжеты наиболее сохранных плит определяют следующим образом: Пелей передает Ахилла на воспитание Хирону, Менелай и Аякс защищают тело Патрокла, скорбь Ахилла об убитом Патрокле, Зевс на горе Ида, смерть Гектора, надругательство над телом Гектора, Приам, покидающий Трою, чтобы посетить лагерь ахейцев, Андромаха, оплакивающая Гектора, Ахилл, подстерегающий Троила, взятие Трои, Ахилл, убивающий Пентесилею [1. P. 40-61]. Следует, однако, отметить, что даже в тех случаях, когда речь идет об «Илиаде» (не говоря уже о киклических поэмах, от которых остались лишь небольшие отрывки или краткие пересказы), далеко не во всех рельефах можно проследить точное следование тексту, равно как и устоявшимся вариантам иконографии. В некоторых случаях состояние сохранности затрудняет прочтение сюжета. Как нам представляется, в числе наиболее сомнительных атрибуций, предложенных Озгюнелем, следует назвать плач Андромахи по Гектору и поединок Ахилла с Гектором [9. 81-83]. Тем не менее, даже если идентификация некоторых сцен может быть поставлена под сомнение, маловероятно, что сюжетная линия фриза выходила за рамки троянского цикла и связанной с ним эпической традиции. Более того, мы имеем по крайней мере одно буквальное совпадение с текстом «Илиады» во фризе Сминфейона (плита 4 [1. P. 45, fig. 28]). Это сцена с Ахиллом, скорбящим о Патрокле, которая восходит к гомеровским строкам (Il. XVIII.316-317): Царь Ахиллес между ними рыдание горькое начал Грозные руки на грудь положив бездыханного друга. (пер. Н.И. Гнедича) В рельефе плиты 4 изображена сцена протесиса: на клинэ лежит тело (Патрокла), а рядом сидит воин (Ахилл), положивший левую руку на грудь покойного. Внизу слева у ног Ахилла стоит кираса, справа - щит, частично скрытый за фигурой женщины, возможно, Брисеиды (Il. XIX.310-312). Трое других персонажей в гиматиях изображены сидящими на стволе срубленного дерева. Это могут быть соратники Ахилла - Нестор, Феникс и Одиссей, упомянутые в «Илиаде» (Il. XIX.283-301). Мотив возложения рук на мертвое тело (который, насколько мне известно, не встречается в других изображениях протесиса, включая сцены оплакивания Ахиллом Патрокла), по-видимому, прямо взят из гомеровского текста. Возможно, фриз Сминфейона действительно представлял собой нечто уникальное для храмовой скульптуры - непрерывное повествование, где история Троянской войны была показана от самых ранних эпизодов до падения Трои, с опорой Гомера и киклические поэмы. Такой интерес к буквальной «иллюстрации» текста, особенно гомеровского, актуализируется в эллинистическую эпоху. Один из ранних примеров проявления этой тенденции - знаменитый цикл мозаичных картин, украшавших корабль Гиерона II Сиракузского. В его каютах на среднем уровне полы были покрыты мозаикой, представляющей «всю историю Илиады» (Athen. Deipnosophistae 5. 206d-209b). Этот филологический интерес поощрялся и спонсировался эллинистическими правителями, выступавшими заказчиками наиболее значимых художественных проектов. В то же время для декорации Сминфейона особый акцент на Гомере и эпической традиции был обусловлен спецификой места, его религиозно- историческими особенностями. Земля Троады и область Хрисы всегда были полны гомеровских ассоциаций. Эта память особенно актуализировалась после посещения Александром Македонским Илиона (Arr. Anab. 1.11.7-8; Diod. 17.18. 2-3; Strab. 13.1.26; Plut. Alex. 15.2). Для преемников Александра троянская мифология имела особое значение, связи с Троей способствовали политическому и культурному престижу. Те, кто инициировал строительство и украшение храма Аполлона Сминфея, вероятно, хотели показать свою причастность к этому героическому прошлому. Политическая и историческая ситуация в регионе в середине II в. до н.э. позволяет выдвигать на эту роль пергамских Атталидов, успешно эксплуатировавших идею мифических связей Трои и Пергама со времен Аттала I [10. P. 7; 11]. В этой связи уместно вспомнить о храме Афины в Илионе, строительство которого было, вероятно, завершено при финансовой поддержке Атталидов [12. P. 107-132]. Другой пример - строительная деятельность Атталидов в Пессинунте (Фригия) с его древним и престижным культом Кибелы [13]. Святилище было монументализировано Атталидами посредствам возведения эффектного портика из белого мрамора: στοαις λευκολιθοις (Strab. XII.5.3). Такие «благочестивые инициативы с политическим подтекстом» [13. P. 113], очевидно, способствовали укреплению политического авторитета и влияния в регионе. Исследователи скульптур Сминфейона уже отмечали их иконографическое и стилистическое родство с рельефами Пергамского алтаря - гигантомахией и фризом Телефа [10. P. 10-11]. Следует, однако, обратить внимание и на важные семантические параллели. Так, во фризе Сминфейона явно акцентирована тема героизации. Она транслируется не только через нарратив, но и посредствам использования устойчивых визуальных формул, таких как изображения скачущих колесниц (мотив, ассоциирующийся и с битвой, и с темой погребальных агонов), процессий с участием колесниц, напоминающих экфору, сцены протесиса, в которой акцентирована тема оружия и доспехов. Сходные образы, несмотря на различия в сюжете, можно заметить в пергамском фризе Телефа: здесь тоже есть сцена протесиса, вооружения и отбытия воинов, вообще большое внимание уделено оружию [14]. Фигура женщины, держащей шлем на плите 17 [14. P. 16], и другой - рядом с ней, настолько напоминают «Брисеиду» Смифейона (плита 4 [1. P. 45, fig. 28]), что мы можем гипотетически представить последнюю со шлемом в несохранившейся левой руке. Подобная демонстрация воинской атрибутики хорошо известна в погребальных и вотивных (связанных с культом героев) памятниках эллинизма[57]. Фризы Пергамского алтаря и Сминфейона демонстрируют проникновение этих мотивов в храмовую иконографию. Самый необычный элемент скульптурного декора Сминфейона - columnae caelatae (буквально - резные или рельефные колонны, на деле же - рельефные барабаны, входившие в состав колонн). Их использование связано со специфической ионийской традицией, зародившейся еще в архаический период. Columnae caelatae - редкое явление в архитектуре, не встречающаяся на греческом Материке, и даже в Ионии подобные формы использовались лишь в исключительных случаях. Два великих ионийских диптера - Артемисион в Эфесе и храм Аполлона в Дидимах - имели колонны с рельефным фигуративным декором еще в VI в. до н.э. Эта черта, правда уже в обновленной форме, сохранилась при строительстве нового Артемисиона, который возводился в последней трети IV - начале III вв. до н.э. [17. S. 49-50]. Скульптурные барабаны Сминфейона определенно располагались в верхней части колонн под капителями, о чем свидетельствуют сохранившиеся желобки каннелюр под рельефами. Этот факт играет важную роль в спорах о месте caelatae columnae в других архитектурных ансамблях. Некоторые исследователи допускают такое же размещение рельефных барабанов для нового эфесского Артемисиона [17. S. 50], который, в этом случае, послужил непосредственным прототипом для колоннады храма Аполлона Сминфея. Есть, однако, вероятность, что Сминфейон был первым зданием, в котором применили подобное решение. Во всяком случае, это первый храм, где положение рельефных барабанов под капителями надежно подтверждается археологически. В отличие от Артемисиона в Эфесе, барабаны Сминфейона были двух типов. Первый тип можно назвать «орнаментальным». Эти барабаны украшают рельефные изображения бычьих голов (boukephalia), гирлянды и фиалы - мотивы, получившие довольно широкое распространение в архитектурном убранстве эллинистического периода. Наиболее близкую аналогию декорации барабанов Сминфейона мы находим во фризе пропилона святилища Афины Никефоры в Пергаме. Однако дело не только в характере декора, но и в его необычном сочетании с цилиндрической формой. Такое сочетание вызывает ассоциацию с круглыми алтарями, среди которых были декорированные гирляндами и букефалями. Алтари такого рода получили распространение в эллинистический период на островах Додеканеса (с конца III или начала II в. до н.э.), особенно на Родосе и Косе (основных центрах производства), а также на кикладском Делосе и в некоторых регионах Малой Азии. Эти цилиндрические алтари могли быть вотивными и, еще чаще, погребальными, хотя для многих памятников контекст точно не известен [18. P. 202-206; 19]. Вторую группу рельефных барабанов Сминфейона можно назвать «повествовательными». По мнению Дж. Озгюнеля, они также представляют гомеровские сюжеты: визит Хриса к Агамемнону, Аполлона, насылающего чуму на ахейский лагерь, возвращение Хрисеиды к отцу, Фетиду у трона Зевса [1. P. 35-39]. Некоторые рельефы сильно повреждены, поэтому детали разглядеть сложно. Тем не менее их связь с начальными эпизодами «Илиады» представляется надежной. Выбор сюжетов и их иконография (насколько позволяет судить сохранность) соответствуют сценам в верхнем регистре Tabula Iliaca Capitolina (I в. до н.э. - начало I в.) [20. P. 4-8] - одной из наиболее полных «илионских» таблиц с текстами и рельефными изображениями эпизодов из знаменитых поэм о Троянской войне (в том числе «Илиады», «Эфиопиды», «Малой Илиады» и «Взятия Илиона»). Интересно, что эта группа сюжетов «Илиады» не была включена в повествовательный фриз, но оказалась «вынесенной» за его пределы в пространство колоннады. Помещенные сюда, фигуративные columnae caelatae должны были быть семантически связаны с первой группой алтареподобных барабанов. Надо отметить, что среди сохранившихся цилиндрических алтарей есть те, что имеют фигуративную декорацию, иногда даже с оттенком нарративности [18. P. 202-206]. Один из таких примеров являет круглый алтарь из пентелийского мрамора, найденный в Афинах, к северу от Стои Атттала. На нем, в несколько монотонном ритме, чередуются сидящие и стоящие фигуры двенадцати олимпийских богов. В других алтарях мы находим композиции более динамичные. Среди них - так называемый «Алтарь Доннелли» (вероятно, II в. до н. э.), который, согласно надписи, некий Зопир посвятил дому (oikos) Гестии и народу Делоса [21]. Основную зону алтаря занимают изображения женщин в драпировках (харит или нимф?): одни стоят фронтально, другие танцуют, приподнимаясь на цыпочках. Композиции на обоих алтарей весьма близки одному из барабанов Сминфейона, на котором изображены фигуры божеств (Зевса, возможно, Аполлона, Артемиды, Лето и Музы [1. P.35, fig. 22]). Возможно, мы имеем дело с проникновением иконографии вотивных и погребальных алтарей в сферу архитектуры. О том, что такое сближение в принципе было возможно, свидетельствует памятник, предшествующий Сминфейону - скальная гробница некоего Архократа, который был жрецом в храме Афины в Линдосе (III в. до н.э.). Самым впечатляющим элементом этой гробницы является ее монументальный фасад длиной 22 м и высотой 9,5 м. четыре цилиндрических алтаря с гирляндами и букефалиями были вознесены на уровень второго этажа над дорическим портиком фасада [22. P. 157-158]. Это самые ранние цилиндрические алтари, известные в погребальной архитектуре Додеканеса. Не будучи функциональными, они использовались как элементы архитектурной композиции. Алтари не венчали колонны буквально, но, располагались прямо над ними, поднятые на высоту так, чтобы их можно было рассмотреть издалека. Символически они, вероятно, должны были указывать на жреческий сан покойного и ассоциировать его гробницу с храмом или святилищем. Заключение Подводя итог, вернемся к программе скульптурного декора Сминфейона. Рельефы фриза и колонн очевидно считывались и в некоем единстве, и, одновременно, в противопоставлении. Прямая нарративность фриза была задействована в механизмах создания памяти через обращение к авторитетной эпической традиции. Рельефные сюжетные барабаны выделяли эпизоды, связанные конкретно с Хрисой, утверждая высокий сакральный статус этой земли. Их композиции с замкнутым круговым движением создавали атмосферу отличную от фриза с его нарративностью и героическими интонациями. Иллюстрируя отдельные сцены «Илиады», они в то же время акцентировали тему ритуала - здесь были изображения животных, приготовленных для жертвы, сцены возлияния на алтари, здесь же появлялись и сами божества, которым жертвы предназначались. Эти рельефы визуально напоминали вотивные, воспринимались в более символическом, нежели буквально повествовательном ключе - как отсылка к теме жертвоприношения, к теме мистической встречи богов и людей в ритуале. Это впечатление поддерживалось «орнаментальными» барабанами с их сакральной символикой (букефалиями и фиалами) и вероятной ассоциацией с круглыми алтарями. Во фризе, очевидно, были заметны и некоторые погребальные интонации. через изображение погребального обряда проявляла себя тема героизации, что, вероятно, было связано с идеологическими и династическими ценностями предполагаемых покровителей святилища - Атталидов. «Орнаментальные» барабаны также могли ассоциироваться с погребальной сферой и темой героического культа. Таким образом самые разные художественные средства были задействованы в визуальной риторике скульптурного ансамбля Сминфейона: и эпическая продолжительность рассказа, и цикличность ритуального действа, и метафора - перенос сематических признаков алтаря на архитектурные формы, и использование визуальных формул героизации, важных в контексте политических амбиций и притязаний патронов святилища.About the authors
Nadezhda Anatol'evna Nalimova
Lomonosov Moscow State University
Author for correspondence.
Email: nalim1973@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-3697-0848
Senior Lecturer, Department of General Art History
1 Leninskiye Gory St, Moscow, Russian Federation, 119991References
- Smintheion. In Search of Apollo Smintheus. Ed. A. Coşkun Özgünel. Istanbul: Ege Yayinlari, 2015.
- Pullan R. The Sminthium. Antiquities of Ionia IV. London: Macmillan, 1881, p. 40-43.
- Weber H. Zum Apollon-Sminheus Tempel in der Troas. Istanbuler Mitteilungen. 1966; (16): 100-114.
- Özgünel AC. Das Heiligtum des Apollon Smintheion und die Ilias. Studia Troica. 2003; (13):261-291.
- Özgünel A.C. Stilistische Untersuchungen der Reliefplastik des Tempels des Apollon Smintheios. In: Dipteros und Pseudodipteros Bauhistorische und archäologische Forschungen. Ed. T. Schulz-Brize. Istanbul: Ege Yayinlari, 2012.
- Bresson A. Hamaxitos en Troade. In: Espaces et pouvoirs dans l’Antqiuité de l’Anatolie à la Gaule.Hommages à Bernard Rémy / Ed. by J. Dalaison. Grenoble: Crhipa, 2007, p. 139-158.
- Corso A. The Statue of Apollo Smintheus by Scopas and the Monumental Policy of the Satrap Artabazos. Actual Problems of Theory and History of Art. 2019; (9):75-79. doi: 10.18688/аа199-1-7.
- Bingöl O. Der Oberbau des Smintheion in der Troas. In: Hermogenes und die hochhellenistische Architektur / Ed. by W. Hopefner, E.-L. Schwander. Mainz am Rhein: Verlag Phillip von Zabern in Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1990. S. 45-50.
- Nalimova N. Symbolism and Narrative in the Sculptural Decoration of Apollo Smintheus Temple in Troas. Numismatica e Antichità Classiche Quaderni Ticinesi. 2019; (48):79-94.
- Genovese C. Il ciclotroiano dello Smintheion di Chryse in Troade. Elaborazione e circolazione dei temi epicinei complessi monumentali di età el- lenistica in Asia Minore. Thiasos. 2015;(4): 3-22.
- Kosmetatou E. The Legend of the Hero Pergamus. Ancient Society. 1995;(26):133-144.
- Kosmetatou E. Ilion, the Troad and the Attalids. Ancient Society. 2001; (31): 107 -132.
- Verlinde A. Monumental architecture in Hellenistic and Julio-Claudian Pessinus. Bulletin Antieke Beschaving. 2010; (85):111-139.
- Pergamon. The Telephos Frieze from the Great Altar. (vol. 1). Ed. R. Dreyfus, E. Schraudolph. San Francisco: Fine Arts Museums of San Francisco, 1996.
- Miller SG. The Tomb of Lyson and Kallikles. A Painted Macedonian Tomb. Mainz am Rhein: Philipp von Zabern, 1993.
- Kiyashkina P., Bozkova A., Marvakov T. A Guide to the collections of the Archaeological museum of Nessebar. Nessebar: Veaaela Publishers, 2012.
- Bammer A., Muss U. Das Artemision von Ephesos: das Weltwunder Ioniens in archaischer und klassischer Zeit. Mainz am Rhein: von Zabern, 1996.
- Ridgway BS. Hellenistic sculpture II. The styles of ca. 200-100 BC. Madison: University of Wisconsin press, 2000.
- Berges D. Rundaltare aus Kos und Rhodos. Berlin: Gebruder Mann Verlag, 1996.
- Petrain D. Homer in Stone: The Tabulae Iliacae in their Roman Context. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
- Williams D. Captain Donnelly’s altar and the Delian Prytaneion. Revue Archéologique. 2004; (1): 51-68.
- Broma V. Cylindrical Altars and Post-funerary Ritual in the South-eastern Aegean during the Hellenistic Period: 3rd to 2nd centuries BC. In: AEGIS. Essays in Mediterranean Archaeology Presented to Matti Egon by the scholars of the Greek Archaeological Committee UK / Ed. by Z. Theodoropoulou Polychroniadis, D. Evely. Oxford (UK): Archaeopress, 2015, p. 155-164.
Supplementary files