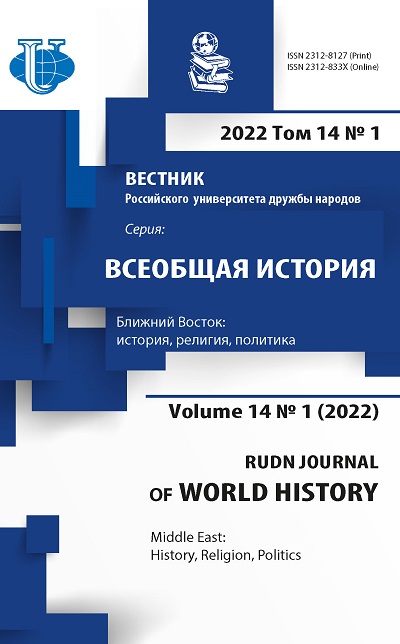Caliphate in the Ideological Dialogue of the Islamic World: The Case of Pan-Islamic Congress in Cairo (1926)
- Authors: Kirillina S.A.1, Safronova A.L.1, Orlov V.V.1,2
-
Affiliations:
- Institute of Asian and African Studies, Lomonosov State University
- Institute of Oriental Studies Russian Academy of Sciences
- Issue: Vol 14, No 1 (2022): Middle East: History, Religion, Politics
- Pages: 7-19
- Section: Religion and Politics in the Middle East
- URL: https://journals.rudn.ru/world-history/article/view/30333
- DOI: https://doi.org/10.22363/2312-8127-2022-14-1-7-19
- ID: 30333
Cite item
Full Text
Abstract
The article analyses the historical role and typological features of the movements for defense of the Caliphate that arose in various parts of the Muslim world as a result of the collapse of the Ottoman Empire and the abolition of the Caliphate. The liquidation of the Ottoman Caliphate in 1924 by the Republican leadership of Turkey put again on the agenda the question of the Muslim unity and transregional cooperation. The authors focus on the new round of socio-political discussions about the unity of the Ummah and the future fate of the Caliphate. The extensive dialogue of the defenders of the idea of Caliphate and supporters of its restoration from different Islamic countries led to the emergence of various ideological approaches to this issue which reflected regional specifics in the interpretation of the essence of this institution in the Middle East, North Africa, and South Asia. Using the vivid example of the Pan-Islamic Congress for the Caliphate in Cairo (1926), the article examines the reasons for disagreements in the political, religious and philosophical matters among the advocates of Caliphate from the main Islamic regions. The article focuses on the difficulties faced by the Islamic thinkers - supporters of the Caliphate in the drastically changed conditions of world geopolitics and the wide spread of ideas of secular statehood. The article investigates the historical and cultural origins of interest in the concepts of the Caliphate among Muslims in various parts of the Islamic world. The article also explores various types of reactions of Muslims in the Middle East, North Africa and South Asia to the repudiation of the Caliphate by the Republican Turkey.
Keywords
Full Text
Введение Упразднение османского халифата (1) в марте 1924 г. декретом Великого национального собрания республиканской Турции не означало, что халифатистские идеи в одночасье утратили свою злободневность. Напротив, отмена халифата послужила действенным толчком для повсеместно развернувшихся в дар аль-исламе (2) дебатов относительно возможности его реставрации и использования его концептуального обрамления при поиске решений актуальных трансрегиональных проблем. В течение 7 лет после того, как халифат Османов канул в небытие, в арабском мире прошли три представительные международные конференции панисламской направленности, на которых халифатистская тематика заняла центральное место - Всеобщий исламский конгресс за халифат в Каире (13-19 мая 1926 г.), Конгресс исламского мира в Мекке (июнь-июль 1926 г.) и Всеобщий исламский конгресс в Иерусалиме (декабрь 1931 г.). В то же время практика вынесения проблематики халифата на международную арену выявила множественные нестыковки в подходах к теме восстановления и совершенствования халифата и идее мусульманской общности и единения. Это, в частности, убедительно продемонстрировал панисламский конгресс в Каире. Инициатива созыва каирского форума исходила от ведущих улама (3) авторитетного каирского духовного университета аль-Азхар во главе с ректором шейхом Мухаммадом Абу-ль-Фадлем аль-Джизави (с 1917 по 1927 г.). Еще весной 1924 г. они заявили о своей решимости в течение года подготовить репрезентативный всемусульманский съезд, с тем чтобы избрать нового халифа и тем самым положить конец смятению в сердцах последователей ислама [1. C. 29-33]. Энтузиазм организаторов, привлекших к популяризации конгресса сотни волонтеров - активистов «комитетов халифата», и особый акцент на чисто религиозном характере планируемого мероприятия тем не менее не могли скрыть его очевидного политического подтекста, заключавшегося в подготовке почвы для провозглашения халифом египетского короля Фуада I (1922-1936 гг.) (детали см.: [2. С. 214-218]). Под массированным давлением антимонархической оппозиции в январе 1925 г. каирский конгресс отложили на год. Не вселяла оптимизм и надежду на успех параллельная подготовка конкурирующего исламского конгресса в Мекке. Провал в четыре сессии Изначально каирский конгресс мыслился его устроителями как всемусульманское предприятие. Приглашения были разосланы королям, султанам, эмирам, главам и лидерам мусульманских сообществ по всему миру ислама включая полномочных представителей различных исламских групп и направлений (как суннитов, так и ваххабитов, ибадитов, зайдитов, шиитов-имамитов и исмаилитов). Однако по разным причинам политического, идеологического и иного свойства конгресс проходил без участия мусульман многих частей дар аль-ислама, в том числе Турции, Ирана, Афганистана, Советского Союза, а также жителей Хиджаза и Неджда. Так, иранское правительство ограничилось направлением на конгресс своего дипломатического представителя в Каире в качестве наблюдателя, заявив, что у шиитских авторитетов не было достаточно времени, чтобы изучить вопрос халифата в деталях. Со своей стороны, ваххабитский правитель Абд аль-Азиз (Ибн Сауд) (4) на словах поддержал идею каирского форума, но от посылки делегатов воздержался, поскольку опасался усиления позиций Египта на региональном уровне. Не добрался до Египта и приглашенный на конгресс как представитель советских мусульман Муса Бигиев (Джаруллах) (1873-1949) - богослов с широким кругозором и прогрессивными взглядами (о нем см.: [3]). Он приветствовал каирский форум, однако, по одной из версий, египетский консул в Стамбуле отказался выдать ему визу, ошибочно посчитав, что Бигиев разделяет широко растиражированное в советской прессе мнение о халифатистском конгрессе как мероприятии, подконтрольном британскому империализму (5) (о кампании протестов против каирского конгресса в СССР см.: [4. С. 65-66]). Провал попыток устроителей конгресса обеспечить широкое представительство его участников (о тщетных усилиях организаторов разрекламировать конгресс за пределами Египта см.: [5. С. 91-99]) поставил под сомнение само его проведение. Однако после двух лет интенсивной подготовительной работы отмена форума или вторичный перенос даты его созыва нанесли бы непоправимый урон репутации его организаторов. Выход из этой щекотливой ситуации предложил влиятельный законовед, будущий ректор аль-Азхара шейх Мустафа аль-Мараги (на этом посту в 1927-1929 и 1935-1949 гг.). По его рекомендации на заседании подготовительного комитета в конце апреля 1926 г. первоначальная программа конгресса подверглась существенной коррекции: с повестки дня был снят ее главный пункт - вопрос об избрании халифа, тем более что незадолго до этого король Фуад I в частном порядке высказался в пользу этого изменения на основании того, что мир ислама далек от консенсуса по данному вопросу. Было решено ограничиться обсуждением тем общего порядка, как-то: обоснование целесообразности восстановления института халифата, требования, предъявляемые к халифу в новых условиях, поиск процедурных решений отбора кандидатов на этот пост (без обсуждения конкретных кандидатур). Конгресс провести все же удалось, однако с усеченной повесткой и ограниченным числом делегатов. По разным данным, в его работе приняли участие всего 25-28 человек, представлявших Египет, Ирак, Йемен, Сирию, Палестину, Ливию, Тунис, Марокко, Индию, Яву и Южную Африку [4. С. 66]. Они быстро увязли в обсуждении процедурных вопросов, о чем свидетельствует реплика президента Высшего совета улама аль-Азхара шейха Мухаммада Фараджа аль-Миньяви, обращенная к делегатам: «Конгресс уже провел три сессии … однако мы пока еще ничего путного не сделали. Мы собрались здесь не для того, чтобы дискутировать по второстепенным вопросам, а для того, чтобы работать с пользой и на благо мусульман» [1. С. 96]. Мнения же по существенным вопросам разделились. Часть иностранных делегатов планировала внести сумятицу в работу конгресса в момент, когда речь зайдет о кандидатурах на халифский пост. Египтяне же всеми силами стремились не допустить препирательств по этому вопросу с тем, чтобы предотвратить принятие решения, которое бы в будущем могло стать основанием для исключения представителя египетского правящего королевского дома из списка претендентов. Тем, кто настаивал на непременно курайшитском (6) происхождении нового халифа (условие, которое исключало вероятность избрания египтянина халифом), они решительно возражали, заявляя, что, согласно исторической практике, это требование давно стало необязательным. Также египетские делегаты объявили абсолютно неприемлемой прозвучавшую на форуме точку зрения, согласно которой призыв к восстановлению института халифата неактуален, поскольку мусульманский мир настолько разобщен, что наивно надеяться на его единение как в ближайшем, так и в отдаленном будущем. В итоге каирский конгресс свелся всего к четырем сессиям и ограничился ни к чему не обязывающей расплывчатой констатацией того, что возрождение халифата в принципе возможно, и что сама эта проблема требует дальнейшего осмысления и обдумывания (материалы конгресса см.: [6]). Было решено вновь собраться в египетской столице на следующий, 1927 год в более представительном составе, однако каирское панисламское начинание так и не получило продолжения. Отрицательный опыт каирского форума, обернувшегося большим разочарованием, однако, не означал, что халифатистская парадигма в Египте окончательно и бесповоротно отошла на задний план. Улама аль-Азхара не оставляли попыток продолжить дело оргкомитета каирского конгресса по пропаганде халифатистских идей, о чем свидетельствуют регулярные публикации в начале 1930-х годов на страницах официоза аль-Азхара - журнала «Нур аль-ислам» (Свет ислама), в которых лоббировалась необходимость избрания халифа-египтянина [7. C. 306]. Позднее ректор аль-Азхара шейх Мустафа аль-Мараги еще раз попробовал (правда, тщетно) реанимировать идею присвоения халифского достоинства молодому королю Фаруку I (1936-1952 гг.). Совсем не случайно один из действующих в конце 1930-х годов британских дипломатов образно охарактеризовал халифатистские амбиции Египта, назвав их «погоней за Граалем халифата» (цит. по: [5. С. 105]). «Нужен ли нам халифат и какой халифат нам нужен?» В первых рядах пылких сторонников всеисламского форума в Каире выделялся видный египетский богослов и правовед Мухаммад Рашид Рида (1865-1935). Он принял самое активное участие в работе его оргкомитета, еще в канун конгресса предложил придать ему периодический характер и пообещал написать трактат о халифате, адресованный панисламскому конгрессу второго созыва. Позднее он опубликовал материалы конгресса 1926 г. в журнале «Аль-Манар». Однако, когда стало проясняться, что каирскую конференцию, заявленную как всемусульманская, ждет неминуемое фиаско, от участия в ней он устранился. Охлаждение своего отношения к этому мероприятию он мотивировал тем, что он разуверился в компетентности и дееспособности его организаторов. «Нашим коллегам - членам подготовительного комитета, - отмечал Мухаммад Рашид Рида, - не хватает сообразительности и предприимчивости, необходимых для реализации этого проекта. Ничего к этому добавить я не могу» (цит. по: [8. C. 352]). Однако именно Мухаммад Рашид Рида стал проводником идей интеллектуального авангарда Ближнего Востока относительно будущности халифата, когда этот институт в османском варианте доживал последние дни. Незадолго до его упразднения Мухаммад Рашид Рида опубликовал трактат «Аль-Хилафа ау аль-имама аль-’узма» (Халифат, или Верховный имамат) (1922 г.) [9], ставший манифестом халифатистов, уверенных в неоспоримом превосходстве этого института над другими формами правления. При этом, беря в расчет конъюнктуру послевоенного времени, Мухаммад Рашид Рида предлагал восстанавливать халифат поэтапно и двигаться в этом направлении по духовно-культурной траектории, делегируя халифу только лишь духовные прерогативы (подробнее см.: [10. С. 183-185]) и строго следя за выполнением им его полномочий. Совершенно иную, новаторскую концепцию исламской государственности еще до созыва Каирского конгресса предложил теолог из аль-Азхара Али Абд ар-Разик (1888-1966). Али Абд ар-Разик изложил свои представления в отдельной небольшой работе «Аль-Ислам ва усуль аль-хукм» (Ислам и основы правления), изданной в Каире в 1925 г. - незадолго до открытия конгресса [11]. Своими исходными установками он избрал два утверждения: 1) о том, что миссия пророка Мухаммада была исключительно духовной и не содержала элементов государствостроительства, в силу чего содержание шариата относится к морально-этическому, но не к политическому аспекту руководства общиной [11. С. 67]; 2) о том, что Коран не настаивает на «непременности» халифата для мусульман, да и вообще не содержит утверждений о халифате - ни как о государственном строе, ни как о форме правления (о «молчании Корана» по вопросу о халифате см. также: [12. C. 185]). Соответственно, все халифы как преемники Мухаммада мыслились азхарским шейхом не в качестве политических фигур, освященных религиозной миссией Пророка, а лишь как своего рода светские монархи, власть которых неизменно поддерживалась фикцией единства общины и применением насилия [11. С. 17]. Общие же соображения о власти (наподобие необходимости для правителя «советоваться о деле» с общиной или, наоборот, требования к подданным относиться с почтением к «вершащим дела»), по мнению Абд ар-Разика, не могли считаться ни установленной, ни общепринятой правовой основой для халифата как формы правления. Абд ар-Разик полагал, что подлинно исламское правление никак не может быть связано с архаичной идеей халифата, а должно сопровождаться сотворением добра подданным и строгим исполнением религиозных обязанностей. В этом случае форма правления, по Абд ар-Разику, могла быть какой угодно - монархической, республиканской, и даже социалистической или большевистской. Думается, что оценка, согласно которой в понимании Абд ар-Разика халифат вообще не имел ничего общего с исламом [13. С. 146], все же несколько преувеличена. Однако революционные воззрения Али Абд ар-Разика - наиболее противоречивого теоретика исламской власти, высказавшегося на волне кризиса халифата [14. C. 62], действительно суммировали отвержение им иллюзорных устремлений части мусульманской общины к возрождению халифских учреждений. Их открытое высказывание дорого обошлось автору (7). Благодаря его мужеству перед лицом преследований следующим поколениям богословов остался убедительный образец прогрессистской критики халифатских учреждений с религиозных позиций [15. С. 140], также подводивший идеологическую черту под неудачей каирского конгресса. Эхо конгресса в Южной Азии Панисламизм лежал в основе халифатистского движения мусульман Южной Азии, поскольку создавал прецедент выхода за пределы субконтинента и давал возможность определить свое место в исламском мире. В этом контексте панисламские идеи в Южной Азии, особенно ярко прозвучавшие в 10-20-х годах ХХ в., оказали значимое воздействие на развитие идейного климата в мусульманской среде. Они помогли им преодолеть маргинальность в отношении центров мусульманской учености на Ближнем и Среднем Востоке и утерю верховного статуса эпохи Великих Моголов в рамках Индостана. Вместе с тем осознание своего высокого количественного представительства в мире ислама вселяло в индийских мусульманских лидеров надежды на обретение достойного положения в масштабе глобальной уммы. Исследователи халифатизма в Южной Азии отмечают две составляющие панисламского движения - внутреннюю и внешнюю, подчеркивая при этом особую значимость международной деятельности индийских халифатистов, направленную на контакты с лидерами основных ареалов распространения ислама [16; 17. C. 212]. Важную роль в распространении идей панисламизма в Британской Индии сыграли Абул Калам Азад (1888-1958), ставший «апостолом халифатизма», и его сподвижники, не только участвовавшие в практической деятельности халифатистского движения, но и внесших существенный вклад в теоретическую дискуссию о халифате [18. C. 33-37]. Индийские халифатисты выступали в защиту османского султана-халифа и против намерения Антанты расчленить Османскую империю. Наиболее действенными продолжателями поддержки идей халифатизма и налаживания связей со странами исламского мира в 20-е годы ХХ в. были братья Мухаммад Али Джаухар (1878-1931) и Шаукат Али (1873-1938). Оба были выпускниками прославленного в Британской Индии Алигархского университета, активно занимались журналистской деятельностью, пропагандируя идеи панисламизма. Они стали «связующим звеном» с собратьями по вере на Ближнем и Среднем Востоке. Братья Али, несмотря на концентрацию усилий по развитию международных контактов в мире ислама, поддерживали в 1920-е годы тесные связи с Мохандасом Карамчандом Ганди (к началу 1930-х годов начнется их расподобление с Индийским национальным конгрессом и сближение с Мусульманской лигой во главе с Мухаммадом Али Джинной). В период созыва каирского конгресса они считали возможным использование мусульманами гандистских методов протестной деятельности, а именно ненасильственного несотрудничества. Они трактовали его через расширительное понимание хиджры (8) как исхода мусульман в другие страны распространения ислама, в знак оппозиции британской администрации, и воспринимали халифат в антиколониальном дискурсе как объединение свободных от всех видов зависимости от европейцев последователей ислама [19. C. 51-62]. Ликвидация османского халифата в 1924 г. по-новому поставила в мусульманском мире вопрос о контурах идеи мусульманской общности. Халифатистский комитет Индии несмотря на упразднение халифата продолжил свою работу и после этого события. В поисках иной идеи халифата братья Али объявили об изменившихся ориентирах индийских халифатистов - поддержке занявшего в конце 1924 г. Мекку и Медину ваххабитского лидера Абд аль-Азиза (Ибн Сауда), претендовавшего на звание нового халифа, а также защите политических и культурных интересов мусульман Индии в исламском мире [20. C. 164-169]. Мухаммаду и Шаукату Али были адресованы письма с приглашением принять участие в панисламском форуме. Как отмечалось ранее, по первоначальному замыслу организаторов каирского конгресса - улама аль-Азхара - его основной задачей должно было стать избрание нового халифа. Однако братья Али не разделили их идею выдвижения на пост халифа кандидатуры египетского монарха Фуада I и не дали официального ответа на приглашение [5. C. 93-94]. В итоге Всеиндийский халифатистский комитет принял решение отклонить приглашение на конгресс [4. C. 65]. Сходную позицию заняли и индийские халифатисты, оказавшиеся накануне проведения конгресса на Ближнем Востоке и намеревавшиеся принять в нем участие - Хаким Аджмал Хан (1863-1927) и Мухтар Ахмад Ансари (1880-1936). Хаким Аджмал Хан был врачом традиционной медицины, прославленным на всю Британскую Индию, и многие из его индийских последователей удостоили его почетного титула «Масих-уль-Мульк» (Целитель нации). Он ратовал за развитие мусульманского образования, сочетающего традиционные знания и современные дисциплины, стал основателем мусульманского университета Джамия Миллия Исламия в Дели, по праву считался одним из самых деятельных представителей халифатистского движения. В вопросе несотрудничества с руководством аль-Азхара он занял позицию, близкую к братьям Али, несмотря на стремление азхарских улама задержать его в Египте [21; 22]. Мухтар Ахмад Ансари был известным националистом в Британской Индии, внесшим вклад в развитие как Индийского национального конгресса, так и Мусульманской лиги в первое десятилетие XX в., и одним из лидеров халифатистского движения в 1920-е годы. Врач-хирург по профессии, он возглавлял индийскую медицинскую миссию по оказанию помощи раненым турецким солдатам на балканском театре военных действий во время Первой мировой войны и занимал проосманскую позицию в вопросе о наследниках халифата. Ансари был одним из преподавателей мусульманского университета Джамия Миллия Исламия в Дели, а после смерти Хакима Аджмала Хана стал его ректором (с 1928 по 1936 г.). Несмотря на пребывание в Египте в 1926 г. и интерес к теме избрания нового халифа, он занял позицию противодействия намерениям аль-Азхара [23. C. 393-406]. Однако отдельные индийские халифатисты поддержали идею конгресса и сотрудничали с его организаторами. Комитет, занимавшийся подготовкой конгресса, опубликовал предварительную программу на арабском языке, которую составил ранее упоминавшийся Мухаммад Рашид Рида. Ее перевод на язык урду был осуществлен видным индийским халифатистом Инаятуллой Ханом Машрики (1888-1963), известным также как Аллама (9) Машрики. Аллама Машрики был, по отзывам современников, блестящим математиком, склонным сопоставлять научные открытия ХХ в. с Кораном. Он стал активным пропагандистом идеи панисламских конгрессов, с трибуны которых он намеревался не только ратовать за единство уммы, но и излагать свое видение перспектив развития мусульманского вероучения. В 1924 г. в возрасте 36 лет он завершил первый том своего труда «Тазкира» (Напоминание), представлявшего собой комментарий к Корану в свете новых научных достижений. Ему даже было предложено выдвинуть это произведение на Нобелевскую премию, однако автор отказался от номинации [24. C. 131]. В 1930-е годы он станет основателем организации «Хаксар Техрик» (Движение хаксаров), которая будет бороться против идеи Пакистана как уводящей мусульман от понятий панисламизма и единства всемирной уммы и халифата [25. C. 126]. Аллама Машрики стал деятельным участником конгресса. Не было единства и среди сторонников панисламизма в Юго-Восточной Азии. Так, Умар Сайид Чокроаминото (1882-1934), яванский политический и религиозный деятель, один из основателей организации «Сарекат ислам» (Исламский союз) и идейный наставник Сукарно - будущего первого президента Индонезии в результате длительной переписки с оргкомитетом конгресса отказался его посетить. В итоге делегацию, состоявшую из двух представителей, возглавлял Абд аль-Карим Амрулла (Хаджи Расул) (1879-1945) [5. C. 95-96]. Идеи халифата были популярны и среди правителей мусульманских княжеств, прежде всего они занимали низама крупнейшего на территории Индостана княжества Хайдарабад Османа Али-хана (правил в 1911-1948 гг.). Низам считался главой мусульман-суннитов Южной Азии. После упразднения халифата в 1924 г. он решил предложить свою собственную кандидатуру на позицию главы мусульман-суннитов. В целях осуществления своего амбициозного плана он предпринял разнообразные шаги, в том числе организовал брачный союз своего наследника и дочери низложенного османского халифа. Низам Хайдарабада был готов к участию в конгрессе, однако эти планы не были реализованы [26. C. 156-157]. Правители мусульманских княжеств Индостана, традиционно ориентировавшиеся на Османов и вынужденные сделать новый выбор, следили за событиями в Мекке и ожидавшимся провозглашением халифом шерифа Хусейна. Саудовские отряды изгнали Хусейна из Мекки и положили конец притязаниям Хашимитов на халифат [5. C. 85]. Заключение Каирскому конгрессу не было суждено войти в историю ислама как значимому и определившему судьбы мусульманского мира событию. Однако, как представляется, он стал первым общественным полигоном для испытания халифатской идеи после демонстративной отмены османского халифата М.К. Ататюрком (1924 г.). Длительная подготовка конгресса, сложные придворные интриги египетского двора и хитросплетения внутренней конкуренции в аль-Азхаре послужили фоном для соперничества двух идейных моделей - воссоздания халифата и избрания нового халифа, с одной стороны, и десакрализации представлений о халифате и ухода к секулярному восприятию исламских догм - с другой. На обоих исторических путях центральные земли арабо-мусульманского мира неизменно служили примером и сферой особого внимания для мусульман, населявших Южную Азию, Африку и другие периферийные регионы распространения ислама.
About the authors
Svetlana A. Kirillina
Institute of Asian and African Studies, Lomonosov State University
Author for correspondence.
Email: s.kirillina@gmail.com
D.Sc. (History), Professor, Head of Department of Middle and Near East History
11/1 Mokhovaya St., Moscow, 125009, RussiaAlexandra L. Safronova
Institute of Asian and African Studies, Lomonosov State University
Email: al-safr@yandex.ru
D.Sc. (History), Professor, Head of Department of South Asian History
11/1 Mokhovaya St., Moscow, 125009, RussiaVladimir V. Orlov
Institute of Asian and African Studies, Lomonosov State University; Institute of Oriental Studies Russian Academy of Sciences
Email: alsavlor@yandex.ru
D.Sc. (History), Professor, Department of Middle and Near East History, Institute of Asian and African Studies, Lomonosov Moscow State University; Senior Research Fellow, Centre of Arab and Islamic Studies, Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences
11/1 Mokhovaya St., Moscow, 125009, Russia; 12 Rozhdestvenka St., Moscow, 107031, RussiaReferences
- Sékaly A. Le Congrès du Khalifat (Le Caire, 13–19 mai 1926) et le Congrès du Monde Musulman (la Mekke, 7 juin – 5 juillet 1926). Paris: Leroux; 1926.
- Kedourie E. Egypt and the Caliphate 1915–1946. Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland. 1963;(3/4):208–248.
- Hajrutdinov A.G. Poslednij tatarskij bogoslov. Zhizn’ i nasledie Musy Dzharullaha Bigieva [The Last Tatar Theologian. The Life and Legacy of Musa Jarullah Bigiev]. Kazan: Iman; 1999. (In Russ.).
- Islam i sovetskoe gosudarstvo. Vyp. 1: (po materialam Vostochnogo otd. OGPU. 1926 g.) [Islam and the Soviet State. Issue 1: (based on the Materials of the Eastern Department of OGPU. 1926)]. Introductory article, comp. and comments by DY Arapov and GG Kosach. Moscow: Mardjani Publishing House; 2010. (In Russ.).
- Kramer M. Islam Assembled. The Advent of the Muslim Congresses. New York: Columbia University Press; 1986.
- Rida Rashid. Mudhakkirat mu’tamar al-khilafa al-islamiyya [Proceedings of the Islamic Caliphate Congress]. Al-Manar. 1926 June 11; 1926 July 10; 1926 August 18; 1926 September 7. (In Arab.).
- Vatikiotis P.J. The History of Modern Egypt from Muhammad Ali to Mubarak. 4th ed. Baltimore: The Johns Hopkins University Press; 1991.
- Arslan Shakib. Al-Sayyid Rashid Rida aw ikha’ arba’in sanah [Sayyid Rashid Rida, or Forty-Year Friendship]. Damascus: Ibn Zaydun Publishing House; 1937. (In Arab.).
- Rida Muhammad Rashid. Al-Khilafa aw al-Imama al-’Uzma [The Caliphate, or Great Imamate]. Cairo: New Publishing House; 1975. (In Arab.).
- Kerr M.H. Islamic Reform. The Political and Legal Theories of Muhammad Abduh and Rashid Rida. Berkeley–Los Angeles: University of California Press; 1966.
- ‘Abd al-Raziq ‘Ali. Al-Islam wa usul al-hukm: bahth fi al-khilafa wa al-hukuma fi al-Islam [Islam and Principles of Rule: A Study on the Caliphate and Government in Islam]. Cairo: Misr Publishing House; 1925. (In Arab.).
- Hourani A. Arabic Thought in the Liberal Age, 1798–1939. 2nd ed., reissued. Cambridge–London–New York: Cambridge University Press; 1983.
- Syukiyaynen LR. Islamskaya kontseptsiya halifata: ishodnye nachala i sovremennaya interpretatsiya [Islamic Concept of the Caliphate: Fundamentals and Contemporary Interpretation]. Islam v sovremennom mire. 2016;12(3):139–154. (In Russ.).
- Enayat H. Modern Islamic Political Thought. Austin: University of Texas Press; 1982.
- Levin ZI. Razvitie obshhestvennoj mysli na Vostoke. Kolonial’nyj period. XIX–XX vv. [Evolution of the Social Thought in the East. Colonial Period. XIX–XX vv.]. Moscow: Nauka. Oriental Literature Publishing House; 1993. (In Russ.).
- Alavi H. Ironies of History: Contradictions of Khilafat Movement. Our World). Available from: URL: http://ourworld.compuserve.com/homepages/sangat/hamza.htm [Accessed 26.11.2019].
- Minault G. The Khilafat Movement: Religious Symbolism and Political Mobilization in India. Delhi: Columbia University Press; 1982.
- Hasan Mushirul. Maulana Abul Kalam Azad: The Odd Secularist. India Today: 100 people Who Shaped India. A Special Issue. Delhi; 1999, р. 33–37.
- Wasti Syed Tanvir. The Circles of Maulana Mohamed Ali. Middle Eastern Studies. 2002;38(4):51–62.
- Jain MS. Mohamed Ali and the Khilafat Committee, 1925–1926. Communal and Pan-Islamic Trends in Colonial India. Ed. by M. Hasan. New Delhi: Manohar; 1985, р. 164–169.
- Rahman Hakim Syed Zillur. Hakim Ajmal Khan. Government of India. New Delhi: National Book Trust; 2004.
- Regionalizing Pan-Islamism: Documents on the Khilafat Movement. Ed. by M. Hasan and M. Pernau. New Delhi: Manohar; 2005.
- Wasti Syed Tanvir. The Indian Red Crescent Mission to the Balkan Wars. Middle Eastern Studies. 2009;45(3):393–406.
- Malik MA. Allama Inayatullah Mashraqi: A Political Biography. Delhi: Oxford University Press; 2000.
- De Amalendu. History of the Khaksar Movement in India, 1931–1947. Kolkata: Parul Prakashani; 2009.
- Zubrzycki J. The Last Nizam. The Rise and Fall of India’s Greatest Princely State. Sydney: Picador; 2006.
Supplementary files