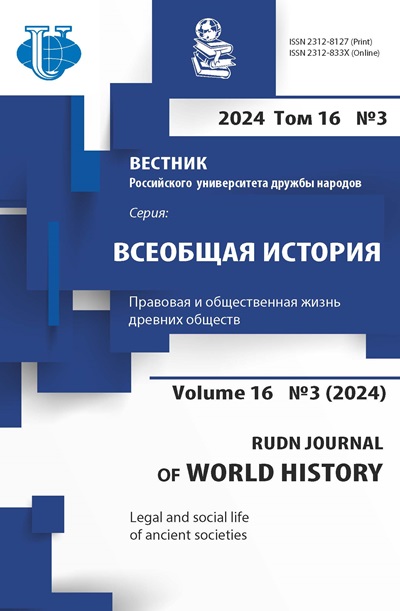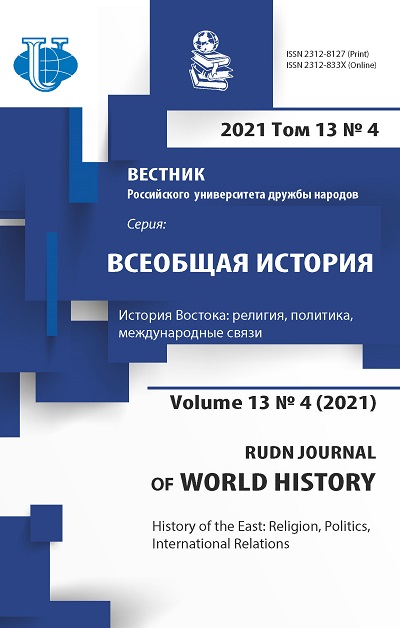Цели монгольских захватчиков согласно европейским источникам середины XIII в. Часть 2
- Авторы: Дробышев Ю.И.1
-
Учреждения:
- Институт востоковедения РАН
- Выпуск: Том 13, № 4 (2021): История Востока: религия, политика, международные связи
- Страницы: 398-419
- Раздел: Восток-Запад: контакты и противоречия
- URL: https://journals.rudn.ru/world-history/article/view/29422
- DOI: https://doi.org/10.22363/2312-8127-2021-13-4-398-419
Цитировать
Полный текст
Аннотация
Середина XIII века - апогей могущества единой Монгольской империи. В 1241-1242 гг. происходит первое, самое кровавое и разрушительное вторжение монголов в Европу. Разумеется, для европейцев жизненно важным было найти ответ на вопрос: чего хотели захватчики, какие цели они преследовали? В данной статье автор показывает, что, ввиду обилия противоречивой информации и острой нехватки на первых порах объективного понимания нового врага, европейские политические и церковные деятели приписывали монголам множество целей (не менее восемнадцати!), из которых полностью подтвердились лишь три - нападение на Русь, Польшу и Венгрию, а остальные либо не были по каким-либо причинам реализованы, либо возникли в умах самих европейцев. Все эти «цели», выявленные в различных официальных и неофициальных европейских источниках, преимущественно датируемых серединой XIII в., обсуждаются с учетом информации синхронных восточных источников. Несмотря на широко известные идеи «мироустроительной монархии», возможно, на самом деле вынашивавшиеся монгольскими ханами, события в Европе позволяют предполагать, что их главной целью там было наказание венгерского короля Белы IV, отказавшегося выдать монголам скрывавшихся в Венгрии половцев.
Ключевые слова
Полный текст
Подчинение/уничтожение римской церкви По меткому высказыванию Т. Мэя, папство так старалось подняться выше светских правителей, что если бы монголы дошли до Рима, папу римского постигла бы та же участь, что и багдадского халифа [49. С. 430]. Для монголов и тот и другой были не просто духовными пастырями их врагов, а наднациональными лидерами, которым подчинялись цари и султаны, т.е. людьми, претендовавшими на универсальное правление - по сути, на ту же самую святыню, к овладению которой стремились потомки Чингис-хана. В своих посланиях монгольским властям папа Иннокентий IV ясно обнаружил свои притязания на роль вселенского монарха, поэтому он невольно позиционировал себя для них как мишень, но планировался ли монголами поход на Рим, трудно говорить с уверенностью, хотя некоторые сведения об этом имеются. Уже в 1238 г. брат Юлиан не только предупредил о готовящемся вторжении в Венгрию, но и сообщил о слухах, что следующей целью монголов намечен Рим и даже дальше: «говорят, что они имеют намерение прийти и напасть на Рим и за пределами Рима» [13. С. 388]. Очевидно, речь в данном отрывке идет именно об угрозе римской церкви и ее главе. Несколькими годами позже хаган Гуюк прямо требовал от Иннокентия IV личного визита в Каракорум с изъявлением покорности в знаменитом письме, оригинал которого был обнаружен в 1920 г. в архиве Ватикана. Впрочем, были опасения продемонстрировать подчинение римской церкви и самого папы его посланниками, если бы они совершили перед монгольским властелином или его полномочным представителем коленопреклонение, как вассалы перед господином. Этот очень важный ритуальный аспект взаимоотношений подробно рассмотрел финский историк А. Руотсала [34. Р. 78-88]. О нем особо предупреждал членов миссии Асцелина Гвихард Кремонский, примкнувший к ней в Тбилиси: «Бояться следует не того, чтобы перед нойоном Байотом (Байджу - Ю.И.) совершить идолопоклонство, ибо не этого он для себя хочет добиться от вас, но бойтесь выказать такое, как вы слышали, вошедшее в обычай у всех прибывающих к нему послов почитание, которое будет сочтено знаком покорности господина Папы и всей Римской церкви, которая по приказу Хана должна быть покорена» (цит. по: [9. С. 97]). Монах доминиканского ордена Асцелин был отправлен папой Иннокентием IV на Ближний Восток в 1245 г. с заданием достичь первого же отряда монголов и вручить их военачальнику папское послание. На пути Асцелина оказались воины нойона Байджу, которому и было передано письмо. Под внушением слов Гвихарда Кремонского папский посол и его спутники категорически отказались совершить коленопреклонение перед Байджу, что, наряду с заявлениями о величии папы, отсутствием подарков и отказом проследовать в Каракорум, едва не стоило им жизни [50. Р. 232-249]. Проведший немало лет на Востоке Гвихард должен был иметь некоторое представление о замыслах монголов. Его заявление относительно ханского приказа о покорении римской церкви находит подтверждение в надежном источнике - у Плано Карпини: «Этот вышеназванный Куйюк-кан поднял со всеми князьями знамя против Церкви Божией и Римской Империи, против всех царств христиан и против народов Запада, в случае если бы они не исполнили того, что он приказывает Господину Папе, государям и всем народам христиан на Западе» [27. С. 62-63]. Фридрих II в «Энциклике против татар» от 20 июня 1241 г. выразил убежденность в том, что монголы хотели дойти до Рима: «Как мы твердо уверены, мать нашей религии и веры, святую римскую церковь, татары желают осквернить, а столицу и главный город нашей империи по праву господства или лучше [сказать] насилия - захватить» [30. С. 161]. Император был далеко не одинок в этом убеждении. В том же году, видя постигшее Венгрию несчастье, европейцы «начали укреплять города и замки, волнуясь, что они (монголы - Ю.Д.) хотят пройти до Рима, опустошая все на своем пути» [18. С. 115]. Своеобразной вариацией этих слухов является сообщение историка-францисканца Салимбене де Адама (Пармского) (1221-1288?), который насчитал в истории четыре народа, собиравшихся завоевать Италию, а «пятым и последним народом… являются татары, как об этом рассказал брат Иоанн да Плано Карпини, который дружески беседовал с великим повелителем татар» [51. С. 228]. Интересно, что сам Плано Карпини, видимо, не писал о планах монголов по захвату Италии, но вполне могло быть, что такие замыслы существовали и обсуждались при дворе Гуюка (и Мункэ), и в этом случае кочевников должен был интересовать понтифик, а не итальянские земли. Исправление христианства Среди обилия фантастических слухов, предшествовавших и сопровождавших монгольскую инвазию в Европу, особняком стояла идея о приходе с далекого Востока огромного христианского воинства, среди которого в особой повозке ехал некто, претендующий называться Иисусом Христом, и вез некую «Книгу исполнения Нового Завета в обуздание власти непокорных и сохранение справедливости к смиренным». Копии этой книги переводились на разные языки и рассылались в разные страны с требованием исполнять то, что в ней написано. Кардинал-пресвитер церкви Святой Сабины Уго утверждал, что отправил такую копию епископу Констанца [13. С. 148]. По мнению Д. Девиза, видящего в этом сообщении отголоски легенды о пресвитере Иоанне, целью миссии якобы было обеспечить подчинение христиан требованиям Нового Завета; они пришли, чтобы распространить очищенное христианство, и их врагами представляются правители и клирики, преступающие законы Господа [52. Р. 53]. Другой точки зрения придерживается Б. Грант. Он полагает, что информация исходила из Иерусалимского королевства и основывалась на данных относительно второй волны монгольского нашествия в Закавказье в 1235-1236 гг., привезенных восточными христианами, возможно, из Грузинского царства. «Книгой» на самом деле был указ монгольского хана о божественном праве монголов на всеобщее господство с требованием подчинения согласно небесной воле, который был в руках нойона Чормагана. Копию указа посланцы доставили в Иерусалим, откуда она попала в Европу [53. P. 117-177]. К сожалению, похоже, что европейские архивы и библиотеки не донесли до нас ничего, что можно было бы уподобить этой загадочной «книге». Другой текст представляет собой письмо, написанное человеком, называющим себя «Мессией», к императору Фридриху II, чье официальное низложение на Первом Лионском соборе в 1245 г. произошло всего за несколько лет до предполагаемой даты составления данного письма. «Мессия» заявляет, что он связан с правителем монголов, и грозит наказать тех, кто преследует Фридриха, а именно римскую курию. Таким образом, в обоих этих сочинениях пострадать от «тартар» должна именно Церковь, а не христианство как таковое [52. Р. 53]. Уничтожение христианства В настоящее время общеизвестно, что монголы не вели религиозных войн, не заставляли никого отрекаться от его веры и поощряли деятельность любой церкви, лишь бы молитвы в ней возносились за здравие монгольского хагана. Законы Монгольской империи (Великая Яса), авторство которых, как правило, приписывается самому Чингис-хану, ставили все религии в равное положение. Однако в середине XIII в. кочевники представлялись европейцам безбожными слугами Антихриста, явившимися с целью искоренения христианства, для чего, надо признать, они предоставили исчерпывающие подтверждения. Во-первых, основную массу монгольского войска составляли монголо- и тюркоязычные народы, поклонявшиеся Вечному Небу - Тэнгри и верившие в многочисленных божеств и духов, что давало христианам повод характеризовать их как язычников. Во-вторых, невиданная жестокость, которую монголы обрушивали не только на тех, кто им сопротивлялся, но и на беззащитное мирное население. Наконец, в-третьих, их абсолютное презрение ко всему, что было свято для христиан: храмы, монастыри, святые мощи, богослужебные книги, кресты, могилы, - все разрушалось, разграблялось и осквернялось, а священнослужители и монахи предавались смерти. Собственно, то же самое происходило и в исламском мире, который имел даже более весомые причины видеть в монголах губителей истинной веры, так как на начальном этапе монгольской экспансии среди монголов практически не было мусульман. Восприятие европейцами монголов как предвестников конца света облегчалось широко известным «Откровением», приписываемым Мефодию Патарскому (ок. 260-312), но составленным, по-видимому, в конце VII в. Согласно этому тексту, в последние дни с севера придут дикие народы, которые были заперты там Александром Македонским, и подчинят всю землю, кроме Эфиопии. Монгольская инвазия живо напомнила современникам об этом пророчестве, вследствие чего события первоначально воспринимались многими в апокалипсическом ключе, но впоследствии в сознании европейцев произошло постепенное «очеловечивание» монголов, понимание их как хотя и крайне опасной, но все же не демонической силы. Парадокс ситуации состоял в том, что среди монголов было некоторое число христиан несторианского толка, великие ханы Угэдэй, Гуюк и Мункэ благоволили христианству, а среди ханских жен и матерей встречались ревностные христианки. В любом случае монголы не имели никаких оснований заявлять об уничтожении этой религии и не делали таких заявлений; все, что на этот счет донесли до нас источники, было рождено в умах самих христиан. Этого заблуждения не смогли избежать даже те, кто побывал в самом сердце Монгольской империи: «А Оккодай, будучи очень силен множеством [людей], подобно тому как ранее сделал его отец, организовал три [войска]. Над первым он назначил Бати, сына брата, и послал его на Запад против церкви Божьей и всех областей Запада» [10. С. 111]. Дело Угэдэя по искоренению христианства якобы продолжил Гуюк, также отрядивший на это треть своего войска: «Он же, после избрания, поднял триумфальное знамя против Церкви Божией, и господства христиан, и всех государств Запада и третью часть всей своей мощи направил на войну» [10. С. 114]. Скорее всего, автор этих строк Ц. де Бридиа, как истинный европеец своей эпохи, не проводит различия между народами Европы, воевать против которых собирались монголы, и христианской религией. В числе наиболее активных проводников этой идеи ожидаемо оказались важнейшие фигуры европейской политики начала 1240-х гг. - Бела IV, Фридрих II и папа римский Григорий IX [17. Р. 142], причем каждый играл свою привычную роль: первый продолжал пугать монголами Европу в поисках помощи против них, второй не забывал упрекать папу римского в бездействии перед лицом монгольской катастрофы, а третий был больше озабочен усмирением германского императора, чем организацией крестового похода против монголов. Их высказывания довольно стереотипны. Приведем несколько примеров. Из письма Белы IV в Рим от 19 января 1242 г.: «Ибо упомянутые хулители имени Христова, если это им позволить, не удовлетворившись нашими пределами, готовятся с лютой неистовой жестокостью напасть на все христианские королевства и разрушить Божьи церкви» [30. С. 196]. Из письма императора Фридриха II английскому королю (август 1241 г.): пришедший «из восточных тартарских пределов» враг «стремится до основания уничтожить как само имя, так и ревнителей христианской веры» [30. С 192]. Из письма папы римского Григория IX от 16 июня 1241 г. с призывом помогать Беле IV: «Ибо как, не без пролития многих слез, мы узнали из писем нашего возлюбленного во Христе сына венгерского короля Б[елы], не знающие Бога татарские народы Господним попущением частично захватили венгерское королевство и хотят не только погубить оставшуюся часть, но и всю христианскую землю стремятся превратить в пустыню» [30. С. 146-147]. Остальные высказывания о намерении монголов стереть христианство с лица земли, сохранившиеся в европейских источниках рассматриваемого периода, повторяют эту мысль без каких-либо принципиальных вариаций [12. С. 141, 145-146, 160; 30. С. 15, 149, 176]; ср.: [54. С. 58]. Впрочем, по меньшей мере, в одном случае средневековый хронист живописует разорение христианских святынь как свершившийся факт и приписывает это «тартарам». В Пространных анналах церкви в Шефтларне на Изаре (Бавария) в записи под 1241 г. утверждается, что неведомое варварское племя, которое называлось татарами или измаильтянами, учинило «великое избиение людей и в особенности христиан, ибо оно появилось ради преследования оных и изничтожения их имени» [55. С. 24]. Двумя годами позже датируются подробности погрома на Святой Земле: «Появившиеся за грехи наши татары, то есть агаряне, словно саранча покрывшие поверхность земли, сокрушили множество Божьего люда, великое множество - перебили и, осквернив Гроб Господень, а также святые места, полностью сровняли с землей Иерусалим и места, где обитали христиане» [55. С. 24]. Скорее всего, автор ошибочно истолковал и неверно датировал информацию из письма папы Иннокентия IV о бесчинствах в Иерусалиме хорезмийцев в 1244 г. Согласно бенедиктинскому монаху Альберту Штаденскому (1197?-после 1256), папа в 1245 г. разослал «скорбное письмо» по всей Германии, в котором сетовал на то, что «Гроб Господень безобразно осквернен неким сарацинским народом, который он называл народом хорезмийцев», и что «эти неверные до основания разрушили и уничтожили досточтимую гробницу Господню, а святое место - уже сровняли с землей» [56. С. 368]. Вторая волна опасений относительно судьбы церкви Христовой была вызвана усилением монгольской активности в 1259-1260 гг. Оживилась переписка Белы IV с Римом. Папа Урбан IV (1261-1264) писал венгерскому королю 28 января 1264 г.: «По очевидным фактам тобой и всеми правоверными королевства Венгрии признается, как к прискорбию христианского народа, постыдная дикость тартар прилагает свою силу к уничтожению христианской религии» (цит. по: [19. С. 298]). Итак, монголы на самом деле не покушались на христианство, однако оно постепенно угасло в их собственной среде, и более поздние попытки католических миссионеров в Сарае или Юаньской империи имели крайне ограниченный и эфемерный успех. Уничтожение священнослужителей и монахов Эта псевдоцель монголов была сформулирована еще в начале 1230-х гг. иерусалимским патриархом в послании папе римскому, а также дошла до нас в более полной копии этого послания, которую Уго, кардинал-пресвитер церкви Святой Сабины, адресовал епископу Констанца. В нем говорится, что в наказание за грехи людские Иисус Христос выпустил из заточения многочисленный варварский народ, почти никого не щадящий и жаждущий «крови клириков и, в высшей степени, монахов» [13. С. 145, 148]. Подобная избирательность кровожадных захватчиков находит, на наш взгляд, свое объяснение в авторстве указанных посланий. Впоследствии, когда Восточная Европа приняла на себя удар армий Бату, современники неоднократно отмечали убийства монголами священников, но это уже никак не подавалось в качестве их цели или, по крайней мере, основного занятия. Уничтожение всего человечества Разумеется, такую цель монголы не преследовали и, видимо, никогда даже не рассматривали (1). Будучи весьма прагматичными (что явствует из анализа их действий), они прибегали к массовым убийствам при вполне определенных обстоятельствах и не утруждали себя всеобщей бойней без необходимости [58. С. 160-169]. Поэтому мы можем отнестись с доверием к словам проведшего много лет на Востоке доминиканского монаха Андре де Лонжюмо (?-ок. 1253): «Царь тартарский стремится только к господству надо всеми, а также к монархии всего мира и не жаждет ничьей смерти, но каждому позволяет пребывать в своей вере после того, как подчинит себе, и никого не заставляет обращаться в чуждую ему веру» [12. С. 160-161]. Действительно, своевременное подчинение монголам чаще всего (но вовсе не всегда!) уберегало людей от гибели, но не будем забывать, что европейцы находились под сильным впечатлением от резни в Венгрии, которая была спровоцирована упорным нежеланием короля Белы IV склонить голову в ответ на ультиматумы Бату (в сообщении Юлиана их названо 30, что, очевидно, ошибка) и выдать бежавших в Венгрию половцев, а также вооруженным сопротивлением (2). Тот факт, что в Европе, как и в Азии, монголы убивали не только воинов, но и мирное население, не разбирая женщин, детей и стариков, несомненно, подогревал опасения, что безжалостные пришельцы намереваются положить человечеству конец. Бела IV был по-своему прав, сообщая германскому королю Конраду IV Гогенштауфену в июле 1241 г.: «Этот народ не имеет жалости ни к чьей участи, полу или возрасту, но, напротив, жаждет крови всех и погибели» [30. С. 187]. В свою очередь, Конрад IV поделился этой мыслью с королем Англии Генрихом III: «намереваясь уничтожить весь род человеческий, считая себя единственными достойными править во всех землях благодаря своей великой и безмерной силе и численности» [12. С. 142]. Это убеждение также разделяла экс-королева Франции Бланка Кастильская (1188-1252), обращаясь к своему сыну - королю Людовику IX: «Ныне неудержимое нашествие тартар грозит полным уничтожением всем нам и святой церкви» [12. С. 141]. Фома Сплитский дал религиозную оценку поведения захватчиков: «У них не было никакого почтения к женщинам, любви к детям, сострадания к старости; с одинаковой жестокостью уничтожая весь род человеческий, они казались не людьми, а демонами» [18. С. 110]. В целом, мысли о стремлении монголов уничтожить все человечество встречаются в европейских сочинениях не часто. Более или менее объективные сведения о монголах и их целях стали доходить до Европы со второй половины 1240-х гг. Становилось очевидным, что в их намерения не входила тотальная резня, являвшаяся не целью, а средством ведения войны. Подчинение/уничтожение непокорных Богу народов Это еще один пример монгольской риторики, призванной оправдать военные действия и массовые убийства, - оправдание, в которое, возможно, верили и сами монголы. Первоисточник этой информации не европейский, видимо, он попал в сочинение Матфея Парижского со слов исмаилитского посольства, побывавшего в 1248 г. у Людовика IX на Кипре, куда тот прибыл перед началом неудачного Седьмого крестового похода. Исмаилиты пытались договориться об отпоре новому противнику и поведали Людовику об «устрашающих посланиях», которые рассылали монголы: «Их предводитель утверждает, что он - посланец всевышнего бога, [для того] чтобы усмирить [и] подчинить народы, восставшие против него» [12. С. 135-136; 13. С. 188]. Судя по дате, послы имели в виду хагана Гуюка, пожалуй, наиболее активного на дипломатическом поприще монгольского суверена. К сожалению, его письма «Старцу горы», т.е. главе исмаилитов, не сохранились, ввиду чего подтвердить справедливость приведенных выше слов затруднительно. Тем не менее, косвенно их подтверждает письмо самого Гуюка папе Иннокентию IV, в котором великий хан объясняет разорение христианских стран тем, что их население не послушалось Божьего повеления, переданного им через монголов: «Чингис-хан и Каан послали к обоим выслушать приказ Бога. Но приказа Бога эти люди не послушались. Те, о которых ты говоришь, даже держали великий совет, они показали себя высокомерными и убили наших послов, которых мы отправили. В этих землях силою вечного Бога люди были убиты и уничтожены» [59. С. 393]. Армянский государственный деятель, военачальник и историк Смбат Спарапет (1208-1276) совершивший в 1247-1250 гг. путешествие в Каракорум, знал о содержании этого письма и передал его основные тезисы кипрскому королю Генриху II де Лузиньяну (1218-1253): «Да будет вам известно, что его святейшество посылал послов к великому хану, чтобы узнать, христианин ли он или нет и почему он послал армию для уничтожения и разрушения мира. Но хан ему ответил, что бог заповедал его предкам и ему посылать своих людей, чтобы истребить все развратные и злые народы…» [60. С. 66]. Для ильханов «злым народом» были мусульмане, о которых они отзывались в своих посланиях в Европу как о «презренных вавилонских крысах», которые «выползли из своих щелей» (из письма Хулагу Людовику IX, 1262 г.) [38. P. 258], или как о «неверных собаках племени вавилонского» (из письма Абаги Клементу IV, 1268 г.) [33. P. 225]. Следует заметить, однако, что этих эпитетов удостоились не те или иные народы, исповедовавшие ислам, а определенные политические группировки: исмаилиты в первом случае и египетские мамлюки во втором. Напомним, что монголы не вели войн за веру и не имели намерения искоренить ислам, а время спустя многие из них сами стали мусульманами. Монгольская классификация народов в XIII в. выглядит достаточно простой: добровольно покорившиеся должны были считаться хорошими, а сопротивляющиеся - плохими. Это не просто проявление этноцентризма, как кажется на первый взгляд. Монголы считали себя исполнителями воли Вечного Неба - истины в последней инстанции, и были столь же ему подотчетны, как и прочие люди. Поэтому народ, не склонившийся перед монгольским хаганом, - это народ, непокорный Богу, и хаган обязан принять соответствующие меры, чтобы не быть наказанным самому за непротивление силам, вносящим в мироздание хаос. Заключение Обилие целей, приписываемых монголам в европейских источниках XIII в. и порой кажущихся противоречившими одна другой, на самом деле не обязывает исследователя пытаться выбирать какую-то одну как истинную и отбраковывать остальные как ложные. Идеальная стратегическая цель монгольских хаганов - мировое господство - достигалась путем решения ряда тактических задач, которые оставили свой отпечаток в средневековой европейской историографии. Монголы воевали и в Азии, и в Европе, подчиняли и мусульман, и христиан, а тех, кто сопротивлялся, уничтожали безо всякого сожаления. Они устанавливали свой мировой порядок, а для этого требовались походы и в Сирию, и в Ливонию. Все эти цели были или могли быть реальными. Несомненно, идея мирового господства постепенно эволюционировала. Первые годы главенства Чингис-хана в Монголии «весь мир» составляли монгольские степи, затем мировое господство могло означать подчинение всех кочевых народов степного пояса Евразии наряду с навязыванием даннических отношений всем, кому только было возможно. Кульминацией могло бы явиться безраздельное правление монгольского хагана над всей Евразией и, возможно, Северной Африкой. Поскольку «весь мир», конечно, не хотел добровольно подчиняться монгольской власти (в Европе о ней были хорошо наслышаны, а венгры даже испытали ее на себе), войны и убийства становились неизбежными, однако, и здесь прослеживается определенная трансформация: постепенный отход от тактики поголовного уничтожения населения целых городов и предъявления военачальникам в качестве доказательства мешков с отрезанными ушами. Замыслы не обязательно превращались в практические цели, а намеченные цели не всегда могли быть воплощены. Кроме того, услышанное в монгольских станах послами, миссионерами или частными людьми могло оказаться намеренной дезинформацией или запугиванием, а могло быть неверно переведено толмачами или неадекватно воспринято слышавшими. Иво Нарбоннский приводит несколько предлогов, которые якобы выдвигались монголами в оправдание своего вторжения в Европу: «Они измышляют, что покидают родину то для того, чтобы перенести к себе царей-волхвов, чьими мощами славится Кельн; то, чтобы положить предел жадности и гордыне римлян, которые в древности их угнетали; то, чтобы покорить только варварские и гиперборейские народы; то из страха перед тевтонами, дабы смирить их; то, чтобы научиться у галлов военному делу; то, чтобы захватить плодородные земли, которые могут прокормить их множество; то из-за паломничества к святому Якову, конечный пункт которого - Галисия. Из-за этих вымыслов некоторые из доверчивых королей, заключив с ними союз, разрешали им свободно проходить по своим землям, но все равно погибли, так как они союзы не соблюдают» [12. С. 150]. Следовательно, монголы ставили своих противников в известность о ложных целях, что было одной из их многочисленных военных хитростей, которой они придерживались и век спустя, и незаслуженно названной папой Бенедиктом XII «нелепыми оправданиями» [20. С. 503]. Разница мировоззрения европейцев и монголов вела к неодинаковому пониманию одних и тех же идей, например, такого принципиально важного внешнеполитического понятия, как «заключение мира», что блестяще показано в труде А. Руотсалы [34. Р. 107-108] (3). Суждения, высказанные в Европе в условиях жестокой войны, очевидно, преувеличивали возможности и желания монголов и наделяли их несуществующими целями. Информацию искажала как монгольская, так и европейская дипломатия, впоследствии ее перетолковывали политические деятели, затем - авторы исторических трудов, позже какие-то ошибки и домыслы могли внести переписчики, переводчики и издатели. Наконец, уже в наше время поиску истины порой мешает догматизм, когда идеальная цель хаганских ультиматумов - всемирная монархия монголов - расценивается как обязательная к исполнению. Из рассмотренных в настоящей статье восемнадцати целей, которые приписывали монголам их европейские современники, три находят полное подтверждение (нападение на Русь, Венгрию и Польшу), десять были теоретически в той или иной степени вероятны либо реально выдвигались монголами (подчинение «всего мира», Европы, Азии, Германии, Чехии, Франции, Иерусалимского королевства, Сирии, Египта; подчинение/уничтожение римской церкви (как института, а не вероучения)), а пять следует расценивать как умышленную дезинформацию, ошибочные интерпретации либо просто порождение страхов (исправление христианства; уничтожение христианства, клириков и монахов, всех людей; подчинение/уничтожение непокорных Богу народов). Независимо от их истинности или ложности, цели можно объединить в три группы: 1) захватнические, 2) религиозные, 3) карательные, причем вторая и третья группы во многом перекрываются и находятся в прямой зависимости от первой, поскольку без подчинения территорий там невозможно проводить религиозные или иные чистки. Захватнические цели варьируются от локальных (Русь, Венгрия, Польша, Германия, Чехия, Франция, Иерусалимское королевство, Сирия, Египет) до субконтинентальных (Европа, Азия) и глобальных («весь мир»). Локальные цели при этом могут расцениваться как частные случаи субконтинентальных и, далее, глобальных. Религиозные цели направлены только на христианство, все остальные религии и культы монголов не интересуют. Как правило, речь идет о его уничтожении, причем под христианством всегда подразумевается только римская церковь. Опыт православия, сумевшего выжить под монгольским ярмом, никак не учитывается. Равным образом, игнорируется то, что среди захватчиков имеются несториане, хотя о них прекрасно известно в Европе. Иногда цель суживается до истребления лишь монахов и священнослужителей. В редких случаях монголы идут в мир христиан «не нарушить, а исполнить» (Матф. 5:17), т.е. заставить христиан соблюдать евангельские заповеди. Подобно захватническим, карательные цели тоже имеют разный масштаб: от выборочного уничтожения людей в пределах одной религиозной общности (разумеется, христианской) до ликвидации неугодных Богу народов и христианства в целом и, наконец, до тотального истребления всего человечества. Карательные цели часто принимают религиозную окраску и оправдываются неисправимой греховностью жертв. В высшем смысле всеми деяниями монголов руководило Вечное Небо, поэтому цели можно понимать как его приказы, переданные через великого хана, ослушаться которого было равносильно самоубийству. Распад Монгольской империи после 1260 г. привел к угасанию имперской идеологии и снятию с повестки дня важнейших обусловленных ею целей, таких как захват и подчинение всей земли или «искоренение человечества». По мере ослабления центральной власти, утраты военного потенциала и боевого духа цели отбрасывались в иерархическом порядке: сначала глобальные, потом общие и в последнюю очередь частные. Внимание улусных ханов направлялось на решение конкретных задач, многие из которых возникали в связи с усилением центробежных процессов на контролировавшихся монголами землях. Улус Джучи и Ильханат переключились на проблемы, имевшие к Европе косвенное отношение, а центральное правительство, которое формально олицетворял двор Хубилая (1260-1294), находилось слишком далеко, чтобы оказывать эффективное влияние на монголо-европейские отношения. Для Хулагу и его потомков Запад стал потенциальным союзником в борьбе с египетскими мамлюками, а для ханов и темников Улуса Джучи он оставался объектом все менее и менее успешных грабительских набегов. Соответственно изменяющейся обстановке, ставились иные цели. Подписание ильханом Абу Саидом Бахадур-ханом (1317-1335) мирного соглашения с султаном Египта Мухаммадом I ан-Насиром в 1323 г. поставило в союзе Европы и Ильханата точку, тогда как «великая замятня» 1357-1380 гг. в государстве Джучидов фактически положила предел монгольской активности у европейских границ. Провозглашая свое сакральное право владеть всей ойкуменой, монгольские хаганы добивались его осуществления довольно непоследовательно и порой более на словах, чем на деле, что, очевидно, предопределялось объективной невозможностью подчинить все страны и народы военной силой или дипломатией. Декларирование права безраздельного господства не подразумевало его немедленной реализации. Последовавшие вскоре утрата имперского единства и разрушение «вертикали власти» привели к неспособности сконцентрировать достаточное количество сил на стратегических направлениях. В постимперский период максимального успеха монголы достигли на Дальнем Востоке, где под власть кочевников впервые в истории попал весь Китай, а Запад так и остался непокоренным. В реконструкции монгольской внешней политики XIII в. современные исследователи вынуждены исходить, главным образом, из данных, предоставляемых внешними, не собственно монгольскими источниками, но, даже имея подробные записи о жизни хаганского двора, подобные китайским «ши лу» («правдивым записям»), все равно было бы слишком рискованным утверждать, что нам известны все экспансионистские замыслы монгольских владык, включая оперативные и долгосрочные цели, сроки, логистику, администрирование и т.д., не говоря уже об особенностях мировоззрения того или иного из них. На каждом театре военных действий, находившемся под руководством разных представителей рода Чингис-хана или других военачальников, воплощение монгольской мироустроительной идеи протекало различным образом, что зависело в том числе и от человеческого, и от временнóго факторов. Поэтому вопрос, чего же добивались монголы в Европе, следует поставить в четкие хронологические рамки и учесть специфику кочевого менталитета. Если мы говорим о событиях 1241-1242 гг., то, по-видимому, корректнее всего было бы предположить, что вооруженные имперской идеологией армии Бату вторглись с целью подчинить либо уничтожить тех кочевников, которые еще оставались вне монгольской орбиты, укрывшись в Венгрии, - без этого власть кочевого вождя не могла бы считаться абсолютной. Несмотря на то, что к тому времени представления монголов о пределах обитаемой вселенной значительно расширились, в их действиях еще заметны рудименты прежних воззрений. Их главные враги - такие же степняки, как и они сами, поскольку именно такими людьми и была населена монгольская ойкумена. Остальное человечество, представлявшее оседлые цивилизации, расценивалось ими как нечто ущербное и маргинальное, и не вызывало у них особого интереса. Средневековая европейская литература содержит много наблюдений, подтверждающих это предположение; выше мы привели несколько примеров. Здесь же, вероятно, находится и объяснение той ненависти, которую монголы питали к непокорным мамлюкам. Выходцы из степей, монголы пытались переносить на оседлый мир традиционную номадную модель властных отношений, рассылали соответствующие ультиматумы и использовали отработанные методы глубоких рейдов. Эта стратегия проявилась и в Европе. Надо сказать, что венгры облегчили задачу Бату накануне его прихода, убив одну часть команов и вынудив бежать другую. Монголам оставалось наказать непослушного венгерского короля и, хотя тот смог сохранить себе жизнь, его земли лежали в руинах. Теперь можно было уходить - и монголы, действительно, ушли. Впрочем, мы воздержимся от утверждения, что это была единственная причина возвращаться в приволжские степи. Хотелось бы обратить внимание еще на один факт. Установление прочной власти на завоеванных территориях подразумевает налаживание административного аппарата, коммуникаций, а в случае средневековых монголов также взимание десятой части доходов с покоренного населения после его переписи и призыв мужчин на военную службу, как это происходило, например, на Руси. В Польше и Моравии не было сделано ничего похожего, в Венгрии эти мероприятия проводились фрагментарно. Непосредственный свидетель нашествия магистр Рогерий Апулийский (?-1266), попавший к монголам в плен, описал зачатки монгольского управления: «Назначили канезиев, то есть бальи (4), которые следили за справедливостью, заботились о своих лошадях, животных, оружии, имуществе и одежде. Моим управляющим был один из таких господ, и управлял он почти тысячей поселений, а было канезиев всего почти сто. У нас был мир и покой, а также была соблюдена надлежащая и одинаковая для всех справедливость. Им были отданы самые красивые девицы, но овец, быков и лошадей их предводители за значительный выкуп вернули. Собирались же канезии почти каждую неделю» [30. С. 51-52]. Рогерий также сообщает о разделе венгерских земель между «знатнейшими татарскими королями», которые еще не пришли в Венгрию [30. С. 43], но с какой целью это было сделано, остается неясным. Возможно, эти «уделы» предназначались не более чем для упорядоченного выпаса скота и боевых лошадей, так как Венгрия располагала ограниченными пастбищами ресурсами. Долгое пребывание монголов в этой стране было вызвано, скорее всего, не их желанием занять ее самим и сделать плацдармом для нападений на соседние государства, а вынужденной задержкой в ожидании возможности форсировать замерзший Дунай и покончить с Белой (5), хотя, возможно, при благоприятном стечении обстоятельств монголы могли бы оставить там гарнизоны и обеспечить прямое управление. Повсеместные грабежи, разорения и убийства, а также подчинение всех, кого удавалось подчинить и обложить данью (6), несомненно, были побочными, но, тем не менее, тоже очень важными целями в обреченном на незавершенность монгольском «мироустроительном» проекте (7). Впоследствии они выдвинулись на передний план, затмив, в конце концов, высокую идею санкционированного Вечным Небом всемирного господства.
Об авторах
Юлий Иванович Дробышев
Институт востоковедения РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: altanus@mail.ru
кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела Истории Востока
107031, Российская Федерация, Москва, ул. Рождественка, д. 12Список литературы
- Оллсен Т.Т. Прелюдия к западным походам: монгольские военные операции в Волго-Уральском регионе в 1217-1237 годах // Степи Европы в эпоху средневековья. Т. 6: Золотоордынское время. Донецк: Изд-во ДонНУ, 2008. С. 351-362.
- Майоров А.В. Завершающий этап западного похода монголов: военная сила и тайная дипломатия // Золотоордынское обозрение. 2015. № 1. С. 68-94.
- Майоров А.В. Завершающий этап западного похода монголов: военная сила и тайная дипломатия // Золотоордынское обозрение. 2015. № 2. С. 21-50.
- Хаутала Р. В землях «Северной Тартарии»: Сведения латинских источников о Золотой Орде в правление хана Узбека (1313-1341). Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2019.
- Рашид ад-Дин. Сборник летописей. Т. I. Кн. 1 / пер. Л.А. Хетагурова. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1952.
- Книга Марко Поло // Путешествия в восточные страны. М.: Мысль, 1997. С. 190-380.
- Козин С.А. Сокровенное сказание. Монгольская хроника 1240 г. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941.
- Рязановский В.А. Монгольское право (преимущественно обычное). Исторический очерк. Харбин: Типография Н.Е. Чинарева, 1931.
- Юрченко А.Г. Историческая география политического мифа. Образ Чингис-хана в мировой литературе XIII-XV вв. СПб.: Евразия, 2006.
- Христианский мир и «Великая Монгольская империя». Материалы францисканской миссии 1245 года. «История Тартар» брата Ц. де Бридиа / критич. текст, пер. С.В. Аксенова и А.Г. Юрченко. Экспозиция, исслед. и указ. А.Г. Юрченко. СПб.: Евразия, 2002.
- Жуанвиль Ж. де. Книга благочестивых речений и добрых деяний нашего святого короля Людовика / пер. Г.Ф. Цыбулько. СПб.: Евразия, 2007.
- Матузова В.И. Английские средневековые источники IX-XIII вв. Тексты, перевод, комментарий. М.: Наука, 1979.
- Хаутала Р. От «Давида, царя Индий» до «Ненавистного плебса сатаны». Антология ранних латинских сведений о татаро-монголах. Казань: Институт истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2015.
- Винсент из Бове. Великое зерцало / пер. Н. Горелова // Книга странствий. СПб.: Азбука-классика, 2006. С. 79-116.
- Biran M. Chinggis Khan. Oxford: Oneworld Publications, 2007.
- Maiorov A.V. They Intend to Come and Attack Rome…: The Real and Sacred Spaces of the Mongol Conquests (в печати).
- Jackson P. The Mongols and the West, 1221-1410. London; New York: Routledge, 2014.
- Фома Сплитский. История архиепископов Салоны и Сплита / пер. О.А. Акимовой. М.: Индрик, 1997.
- Хаутала Р. От Бату до Джанибека: военные конфликты Улуса Джучи с Польшей и Венгрией // Золотоордынское обозрение. 2016. Т. 4. № 2. С. 272-313.
- Хаутала Р. От Бату до Джанибека: военные конфликты Улуса Джучи с Польшей и Венгрией // Золотоордынское обозрение. 2016. Т. 4. № 3. С. 485-528.
- Rogers G.S. An Examination of Historians’ Explanations for the Mongol Withdrawal from East Central Europe // East European Quarterly. 1996. Vol. 30. № 1. Р. 3-26.
- Pow L.S. Deep Ditches and Well-built Walls: A Reappraisal of the Mongol Withdrawal from Europe in 1242. A thesis submitted to the faculty of graduate studies in partial fulfilment of the requirements for the degree of Master of Arts. Calgary, 2012.
- Тизенгаузен В.Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. Т. II. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1941.
- Почекаев Р.Ю. Батый. Хан, который не был ханом. М.: АСТ, 2006.
- Храпачевский Р.П. К вопросу о так называемом «списке покоренных народов» Восточной Европы в «Сокровенном сказании монголов» (1240 г.) // Studia Historica Europae Orientalis. 2013. № 6. С. 91-102.
- Райт Дж.К. Географические представления в эпоху крестовых походов: Исследование средневековой науки и традиции в Западной Европе / пер. с англ. М.А. Кабанова. М.: Наука, 1988.
- Плано Карпини. История монгалов // Путешествия в восточные страны. М.: Мысль, 1997. С. 29-85.
- Guzman G. The Encyclopedist Vincent of Beauvais and His Mongol Extracts from John of Plano Carpini and Simon of Saint-Quentin // Speculum. 1974. Vol. 49. № 2. Р. 287-307.
- Савченко С.В. Письмо магистра тамплиеров к Людовику Св. о вторжении татар в Западную Европу // Киевские университетские известия. 1919. № 1-4. С. 1-4.
- Магистр Рогерий. Горестная песнь о разорении Венгерского королевства татарами / пер. А.С. Досаева. СПб.: Дмитрий Буланин, 2012.
- Рыкин П.О. Создание монгольской идентичности: термин «монгол» в эпоху Чингисхана // Вестник Евразии. 2002. № 1(16). С. 48-85.
- Дробышев Ю.И. Монгольская имперская идеология: понятийный аппарат исследования // Кочевые империи Евразии в свете археологических и междисциплинарных исследований: Сборник научных статей IV международного конгресса средневековой археологии евразийских степей, посвященного 100-летию российской академической археологии (Улан-Удэ, 16-21 сентября 2019 г.). Кн. 2 / отв. ред. Б.В. Базаров, Н.Н. Крадин. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2019. С. 28-31.
- Lupprian K.-E. Die Beziehungen der Päpste zu islamischen und mongolischen Herrschern im 13 Jahrhundert anhand ihres Briefwechsels. Città del Vaticano, 1981.
- Ruotsala A. Europeans and Mongols in the Middle of the Thirteenth Century: Encountering the Other. Helsinki: The Finnish Academy of Science and Letters, 2001.
- Гильом де Рубрук. Путешествие в восточные страны // Путешествия в восточные страны. М.: Мысль, 1997. С. 86-189.
- Somer T. Forging the Past: Facts and Myths behind the Mongol Invasion of Moravia in 1241 // Золотоордынское обозрение. 2018. Vol. 6. № 2. C. 238-251.
- Sophoulis Р. The Mongol Invasion of Croatia and Serbia in 1242 // Fragmenta Hellenoslavica. 2015. Vol. 2. Р. 251-277.
- Meyvaert P. An Unknown Letter of Hulagu, Il-Khan of Persia, to King Louis IX of France // Viator. 1980. Vol. 2. Р. 245-261.
- Гайтон. Цветник историй стран Востока / пер. Н. Горелова // Книга странствий. СПб.: Азбука-классика, 2006. С. 211-274.
- Генрих Латвийский. Хроника Ливонии / пер. С.А. Аннинского. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1938.
- Maiorov A.V. The first Mongol Invasion of Europe: Goals and Results (в печати).
- Каргалов В.В. Монголо-татарское нашествие на Русь. XIII век. М.: Просвещение, 1966.
- Великая хроника о Польше, Руси и их соседях XI-XIII вв. / под ред. В.Л. Янина. М.: Изд-во МГУ, 1987.
- Rady M. The Mongol Invasion of Hungary // Mediaeval World. 1991. Vol. 3. Р. 39-46.
- Полное собрание русских летописей. Т. 2. Ипатьевская летопись. СПб.: Типография М.А. Александрова, 1908.
- Рашид ад-Дин. Сборник летописей. Т. III / пер. А.К. Арендса. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1946.
- Richard J. The Mongols and the Franks // Journal of Asian History. 1969. Vol. 3. № 1. Р. 45-57.
- Николов А. Образ татаро-монголов Золотой Орды и ильханов в сочинениях пропагандистов крестовых походов (конец ХIII - начало XIV вв.) // Золотоордынское обозрение. 2015. № 4. С. 14-28.
- Мэй Т. Монголы и мировые религии в XIII веке // Монгольская империя и кочевой мир. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2004. С. 424-443.
- Guzman G. Simon of Saint-Quentin and the Dominican Mission to the Mongol Baiju: A Reappraisal // Speculum. 1971. Vol. 46. № 2. Р. 232-249.
- Салимбене де Адам. Хроника / пер. и комм. И.С. Култышевой и др. М.: РОССПЭН, 2004.
- DeWeese D. The Influence of the Mongols on the Religious Consciousness of Thirteenth Century Europe // Mongolian Studies. Bloomington, 1978-1979. Vol. 5. Р. 41-78.
- Grant B.C. The Mongol Invasions between Epistolography and Prophecy: the Case of the Letter “Ad Flagellum”, c. 1235/36-1338 // Traditio. 2018. Vol. 73. Р. 117-177.
- Юрасов М. Восприятие венграми монголо-татар во время походов орд Бату в Европу // Альманах по истории Средних веков и раннего Нового времени. Нижний Новгород, 2011. Вып. 2. С. 51-69.
- Книга странствий. СПб.: Азбука-классика, 2006.
- Альберт Штаденский. Анналы / пер. И.В. Дьяконова. М.: Русская панорама, 2020.
- Мункуев Н.Ц. Китайский источник о первых монгольских ханах. М.: Наука, 1965.
- Дробышев Ю.И., Юрченко А.Г. «Заповедники смерти» Монгольской империи // Сибирский сборник-1: Погребальный обряд народов Сибири и сопредельных территорий. Кн. 2 / отв. ред. Л.Г. Павлинская. СПб.: МАЭ РАН, 2009. С. 160-169.
- Джованни дель Плано Карпини. История монгалов. Гильом де Рубрук. Путешествия в восточные страны. Книга Марко Поло / перев. И.М. Минаев. М.: Мысль, 1997.
- Армянские источники о монголах / пер. А.Г. Галстяна. М.: Восточная литература, 1962.
- Bezzola G.A. Die Mongolen in abendländischer Sicht (1220-1270): ein Bei-trag zur Frage der Volkerbegegnungen. Bern, 1974.
- Klopprogge A. Ursprung und Auspragung des abendländischen Mongolen-bildes im 13. Jahrhundert: ein Versuch zur Ideengeschichte des Mittelalters. Wiesbaden: Otto Harrassowitz Verlag, 1993.
- Schmieder F. Europa und die Fremden: die Mongolen im Urteil des Abendlandes vom 13. bis in das 15. Jahrhundert. Sigmaringen: Thorbecke, 1994.
- Майоров А.В. К вопросу об исторической основе и источниках «Повести о убиении Батыя» // Средневековая Русь. Вып. 11. Проблемы политической истории и источниковедения / Отв. ред. А.А. Горский. М.: Индрик, 2014. С. 105-147.
- Laszlovszky J., Pow S., Romhányi B.F., Ferenczi L., Pinke Z. Contextualizing the Mongol Invasion of Hungary in 1241-42: Short- and Long-Term Perspectives // Hungarian Historical Review. 2018. Vol. 7. № 3. Р. 419-450.
- Камалов И.Х. Отношения Золотой Орды с Болгарским княжеством // Золотоордынская цивилизация. 2011. Вып. 4. С. 35-39.
- Узелац А. Сербские письменные источники о татарах и Золотой орде (первая половина XIV в.) // Золотоордынское обозрение. 2014. № 1. С. 101-118.
- Узелац А. Под сенком пса: Татари и јужнословенске земље у другој половини XIII века. Београд: Утопија, 2015.
- Дробышев Ю.И. Кыргызы в Центральной Азии (IX в.) // Восток (Oriens). 2010. № 6. С. 102-109.