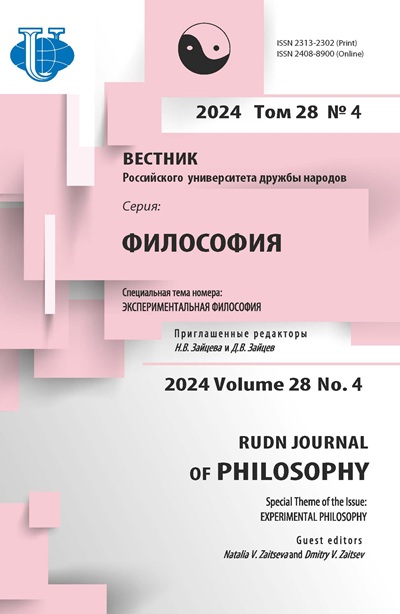Экспериментальная этика и кантианская деонтология
- Авторы: Чалый В.А.1,2
-
Учреждения:
- Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
- Балтийский федеральный университет имени И. Канта
- Выпуск: Том 28, № 4 (2024): ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ
- Страницы: 1014-1031
- Раздел: ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ
- URL: https://journals.rudn.ru/philosophy/article/view/42154
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-2302-2024-28-4-1014-1031
- EDN: https://elibrary.ru/JLTJPD
- ID: 42154
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В исследовании дана оценка основанной на экспериментах критике деонтологической нормативной теории Дж. Грином, предложена альтернативная интерпретация экспериментальных данных, из которой не следуют выводы Грина о несостоятельности деонтологии, проанализированы некоторые аргументативные стратегии и методологические пресуппозиции экспериментального подхода к философским проблемам. Пример критики Грином деонтологической этики с экспериментальных позиций позволяет сделать ряд заключений. Во-первых, экспериментальный материал дает предмет для интерпретаций, но сами интерпретации - это философские абдуктивные теории, претендующие на роль наилучшего объяснения данных. Трудно ожидать, что подобные претензии останутся без возражений и без конкурентов, опирающихся на иные внетеоретические стандарты. Это делает экспериментальную философию ареной особенно интенсивного спора, в котором рождаются новые результаты. Во-вторых, в экспериментальной философии сохраняется базовое напряжение между естественнонаучной склонностью считать наилучшим наиболее экономное объяснение и не останавливаться перед редукцией «псевдопроблем» и более инклюзивным философским отношением к «вечным вопросам», признание важности которых выступает необходимым критерием состоятельности теории. В-третьих, случай критики деонтологии Грином позволяет выделить некоторые характерные для естественнонаучного подхода к экспериментальной философии стратегии аргументации: «мотт-и-бейли», понимание нормы как эмпирической регулярности, приверженность объяснениям через происхождение. Оценка этих стратегий как ошибок или уловок была бы слишком поспешной, правильнее было бы назвать их особенностями типов рациональностей, создающими в экспериментальной философии особую динамику поиска и отличающая научно-экспериментальную партию от партии более философской. Ценность экспериментального подхода несомненна, он обогащает философию не только новыми данными, но и новыми аргументами.
Полный текст
Введение
Экспериментальная философия испытывает философские теории на прочность при помощи методов, выработанных для естественных наук [1]. Ее раздел экспериментальная моральная философия, или экспериментальная этика (будем считать «этику» и «моральную философию» синонимами), занимается «эмпирическими исследованиями моральных интуиций, суждений и поведения» [2]. В отношении эмпирической философии часто утверждается – например, в обоих указанных статьях Стэнфордской филосфской энциклопедии, – что это направление новое, возникшее в начале нынешнего века. Новизна объясняется тем, что только в последнее десятилетие развитие науки и в части экспериментальных методов и технологий, и в части объема и качества данных создало условия, позволяющие ставить задачи проверки философских идей, прежде казавшихся сугубо спекулятивными и недосягаемыми для опыта.
Конечно, нельзя сказать, что до XXI в. философия не принимала во внимание данные опыта и результаты естественнонаучных исследований, пытаясь дать наилучшее объяснение всей совокупности кажущихся разнородными явлений. Однако развитие экспериментальной философии связано с надеждами на возможности применения методов эмпирического исследования, индуктивных обобщений, гипотетико-дедуктивного метода, верификации и фальсификации там, где раньше приходилось угадывать «первопринципы» и «первооснования» и выводить из них объяснения. Важнейшей областью для экспериментальной философии является комплекс проблем сознание–тело, где существует «провал» между естественнонаучными и феноменологическими объяснениями [3]. Экспериментальная этика вынуждена иметь дело с составляющими часть этого комплекса трудностями совмещения научного взгляда и обыденного переживания моральной агентности.
Далеко не все готовы признать экспериментальную программу в философии осуществимой. Возможно несколько стратегий критики. Например, можно попытаться с различной степенью радикальности атаковать реалистские допущения экспериментальной философии, в целом полагающей, что данные отражают или представляют реальность. Для этого не обязательно быть постмодернистом: сами же экспериментальные философы получают результаты, свидетельствующие о связи эмпирических – казалось, бы самых объективных – исследовательских результатов, а также их теоретических интерпретаций и методологических стандартов приемлемости или истинности с моральными убеждениями исследователя [4].
Другая стратегия может отстаивать автономию метафизики как области, занятой осмысленными вопросами за пределами экспериментально добываемых данных о природе. Например, можно продолжать отстаивать то, что только метафизический взгляд позволяет отличать действительное от возможного, случайное, или контингентное, от необходимого, то есть позволяет иметь диапазон модальностей, недоступных эмпирическим наукам, становление которых в современном виде начинается как раз с добровольного самоограничения областью контингентного опыта. Важным для экспериментальной этики аспектом этой стратегии выступает тезис о невозможности из сущего выводить должное [5]. Все эти большие и старые претензии метафизики хорошо известны и в целом принимаются философами, занятыми экспериментальной философией, хотя и не всегда кажутся значимыми или даже не всегда вполне понимаются некоторыми учеными, обратившимися к философским проблемам1. В целом сегодня мало кто сомневается в ценности экспериментальных методов и добываемых ими данных в деле прояснения философских вопросов. Разногласия касаются по большей части того, насколько глубокой может быть экспериментальная ревизия философии и редукция философских проблем к естественнонаучным.
В экспериментальной этике этот комплекс проблем и разногласий имеет свою специфику и особую остроту. На специфику влияют два больших обстоятельства. Во-первых, упомянутый разрыв между сущим и должным имеет для этики центральное значение. Нравственная жизнь в целом мыслится как усилие по приведению сущего в соответствие с должным. За пределами этики, если действительность не соответствует представлениям о ней, это опровергает представления. В этике дело обстоит обратным образом. Если эмпирические науки реализуют прежде всего дескриптивную установку, то этика заряжена установкой ревизионистской, «целится выше» данного в опыте, в истории и антропологии. Если эмпирическая наука фиксирует ставшее, то этика, во всяком случае по замыслу, направляет становление. Такая конфигурация сразу помещает этику в оппозицию к естественным наукам – в том смысле, что ее энергия направлена иначе, – а попытки объяснить долженствование, или нормативный характер этики, естественными причинами заставляет квалифицировать, в получившей широкое хождение терминологии Дж. Э. Мура, как «натуралистическую ошибку» [6]. Более того, из этой конфигурации следует инструментальный характер естественных (и точных) наук: назначение знаний в том, чтобы осуществлять должное. Здесь уже ученый может почувствовать претензию на гегемонию со стороны философа или, о чем речь пойдет ниже, обычного неученого, тем более сомнительную, чем менее философ или человек с улицы разбирается в актуальном состоянии науки и техники. Социально-психологический, партийный, властный и экономический фактор безусловно влияет на положение в экспериментальной этике и, шире, философии. Однако было бы упрощением сводить научный этос к борьбе за власть.
Второе обстоятельство, влияющее на специфику экспериментальной этики и несколько отличающее ее от других областей экспериментальной философии, является доминирующее сегодня представление о том, что этика есть всеобщее достояние, что нравственная жизнь доступна всем и не требует владения глубоко эшелонированными теориями. Сегодня невозможно судить об устройстве вселенной или о клеточных процессах, исходя из одних лишь обыденных представлений. Однако здравого смысла, согласно нашим гуманистическим просвещенческим ожиданиям, должно быть достаточно, чтобы принимать нравственные решения в самых сложных ситуациях и даже иметь обоснованное мнение о добре и зле как таковых. Во всяком случае, любой, усомнившийся в такой способности обычного человека, сразу окажется под подозрением как крайний реакционер и скептик в отношении демократии. Эта презумпция нравственной компетентности всякого здорового взрослого создает в экспериментальной этике ситуацию, которую можно назвать предрасположенностью к ошибке подтверждения: не мнения валидируются ценностями, а ценности мнениями. С одной стороны, презумпция истинности мнений открывает дорогу экспериментальным методам, опросам, массовым лабораторным исследованиям. Мнения выступают «данными» для эмпирических исследований. С другой стороны, когда оказывается, что нормативная теория не соответствует собранному массиву данных, это создает давление на область должного со стороны сущего, и философ, в одиночестве отказывающийся признать фальсифицированность нормативной теории фактами и приводящий в защиту своей позиции какие-то не сразу и не всем понятные аргументы, вызывает раздражение и публики, и ученых, и оказывается в рискованной ситуации, парадигмальным примером которой служит случай Сократа. Значимость обыденной моральной интуиции, «народной моральной психологии» подкрепляется известным принципом, согласно которому нравственность не может требовать неисполнимого: должен, значит, можешь. Непонятность и трудности с исполнением этической доктрины становятся вескими свидетельствами против нее.
Еще одной специфической особенностью экспериментальной этики является наличие у нее явной предыстории в виде моральной психологии – программы исследования морали эмпирическими методами. Появление моральной психологии относят к концу XIX в., однако первые постановки морально-психологических проблем и попытки их решения обнаруживаются, как обычно, еще в античной философии – например, у Секста Эмпирика [2] или у Демокрита [7]. Становление моральной психологии в конце XIX в. можно объяснить общим психологическим поворотом эпохи. И как часть большой парадигмы, моральная психология оказывается уязвимой для общей критики психологизма, в частности, Фреге и Гуссерлем, которая не потеряла актуальности и для экспериментальной философии [8]. Новый импульс эмпирическим исследованиям морали сообщил «когнитивный поворот» 1950-х и достижения нейронаук в последние десятилетия.
В рамках экспериментальной моральной философии выделяют негативную и позитивную программы [2]. Негативная программа нацелена на критику или элиминацию метафизических или философских проблем путем демонстрации их мнимости или сведения к естественнонаучным проблемам. Эта программа не нова и встречает приверженцев как среди ученых, так и среди сциентистски мыслящих философов. Позитивная программа, признавая значимость и нередуцируемость философских вопросов, использует экспериментальные методы и данные, чтобы дать дополнительные аргументы за или против той или иной доктрины или предложить новые вопросы. На данный момент одной из самых крупных и обсуждаемых попыток реализации обеих программ сразу является критика Джошуа Грином деонтологической нормативной этики и защита утилитаризма. Используя экспериментальные данные, Грин выдвинул претензию на решение давнего спора и спровоцировал заметную дискуссию, ход и содержание которой является одной из лучших иллюстраций специфики экспериментальной моральной философии. Далее я сосредоточусь на критике Грином деонтологии и возражениях в ее защиту.
Критика деонтологии Дж. Грином как иллюстрация применения экспериментальных методов в этике
Психолог и философ Джошуа Грин снискал широкую известность в начале нулевых своими экспериментами, в которых вместе с коллегами при помощи фМРТ выявил и описал характер активности мозга у пациентов, занятых решением моральных дилемм [9]. Внимание Грина-философа привлекло хорошо известное в «вагонетковедении», но не имевшее устоявшегося объяснения различие в моральных суждениях испытуемых при, казалось бы, объективно несущественной модификации «канонических» условий задачи: большинство испытуемых готовы направить вагонетку на трек с одним человеком, чтобы спасти пятерых, но не готовы, чтобы спасти пятерых, столкнуть на рельсы толстяка2. Наилучшее объяснение разницы заключается в том, что первый случай характеризуется чувством низкой личной вовлеченности принимающего решение, в то время как второй, где есть персональный контакт с «жертвой», порождает эмоциональное личное отношение. Трудность этого результата – во всяком случае на первый взгляд – в том, что он ставит под сомнение рациональную природу морали. И философы, и широкая публика привыкли считать, что полноценный моральный выбор включает размышление, или делиберацию, и принятие решения, включает разумное усилие и рефлексию, но результаты указывают вместо них на стихийные эмоции.
Стремясь прояснить эту философскую трудность, Грин-нейропсихолог предположил, что мозг испытуемых ведет себя различно в этих двух случаях, и оказался прав: во втором случае и в подобных, которые Грин назвал «морально-личными» (moral-personal), фМРТ фиксирует активность центров, связанных с эмоциями, в то время как в первом, «морально-безличном», а также в контрольных ситуациях выбора, не связанного с моралью, такой активности не наблюдалось. Кроме того, исследования показали, что решение в первом случае, не сопровождающемся эмоциями, занимает больше времени, чем во втором. Чтобы объяснить это, Грин обратился к известной «двухсистемной» концепции Канемана-Тверского: эмоциональная система-1 быстро срабатывает в «морально-личных» случаях, а рациональная система-2 вступает в действие тогда, когда непосредственных личных эмоциональных реакций недостаточно, и требуется моральная делиберация. Важной чертой этой ранней и наиболее цитируемой работы Грина и его соавторов является сравнительная аккуратность выводов: авторы заключают лишь, что «некоторые моральные дилеммы (те, которые относительно схожи с дилеммой пешеходного моста [и толстяка на нем]) задействуют эмоциональную обработку в большей степени, чем другие (те, которые относительно схожи с [исходной] дилеммой вагонетки), и эти различия в эмоциональной вовлеченности влияют на суждения людей» [9. P. 2106].
Экспериментальные данные были получены и требовали философской интерпретации. Можно сказать, что последовавшие попытки Грина подвергнуть ревизии нормативную этику развивались по часто встречающейся во взаимодействии различных дисциплин «стратагеме», известной с подачи философа Николаса Шейкеля как «мотт-и-бейли»3: построив надежную, но не особенно претенциозную «башню» из, в данном случае, экспериментальных данных, интерпретаторы совершают смелые вылазки и пытаются «присвоить» или «разорить» прилегающие философские территории, а при успешной критике выводимых из данных следствий оставляют претензии и отступают обратно в надежное укрепление. Иногда стратегия мотт-и-бейли рассматривается как аргументативная ошибка или риторическая уловка: например, Шейкель вменяет ее систематическое применение в ходе в «научных войн» постмодернистам. Однако есть основания по крайней мере в некоторых случаях считать ее легитимным способом выдвижения смелых, в смысле Поппера, гипотез, привлекающих критику и вполне могущих оказаться на какое-то время успешными или как минимум полезными в развитии знания. Атака Грина на деонтологическую нормативную этику оказалась безусловно полезной, заставив ее приверженцев искать объяснения новых данных и уточнять свои доктрины.
Статью «От нейронного «есть» к моральному «должен»: каковы моральные последствия нейронаучной моральной психологии?» [12] Грин открывает описанием «участка», на который собирается претендовать из нейропсихологической «башни». Он декларирует свою приверженность общефилософским принципам различения сущего и должного и недопустимости «натуралистической ошибки» смешения естественных и моральных свойств. Он также критикует некоторые недавние на тот момент попытки обоснования эмпирическими данными этики добродетели в противовес деонтологии и утилитаризму: из того, что «фактическое принятие моральных решений больше похоже на то, что рекомендует Аристотель», не следует и не может следовать, что Кант и Милль с Сиджвиком опровергнуты [12. P. 846].
Далее он переходит к вопросу: насколько мы можем доверять своим моральным интуициям? «На наши ответы на этот вопрос, – пишет Грин, – вероятно, повлияет лучшее понимание того, откуда берутся наши интуитивные представления, как с точки зрения их непосредственной психологической/нейронной основы, так и с точки зрения их эволюционной истории» [12. P. 847]. Отметим, что вопрос о доверии является нормативным – мы оцениваем правильность интуитивных моральных суждений, – а вопрос о происхождении является фактуальным. Так, Грин, вопреки заявленным и разъясненным (для читателей журнала Nature Reviews Neuroscience, то есть преимущественно для ученых) в первой трети статьи принципам перекидывает мостик с «участка» к «башне»: сущее все-таки может влиять на понимание должного. Пока это аккуратное предположение, влияние еще не означает редукции. Далее Грин описывает две дилеммы, в которых испытуемый должен выбрать, помогать или не помогать нуждающимся. В первом случае это раненый человек на обочине, которому абсолютное большинство испытуемых готовы помочь, во втором это международная благотворительная организация, занятая помощью голодающим в далеких странах, электронные письма от которой большинство выбирает игнорировать. Согласие помочь в первом случае и отказ во втором не имеют внятного рационального объяснения или веской причины (напоминаниями об этом, помимо прочего, знаменит Питер Сингер). Грин пишет: «возможно, эта пара моральных интуиций не имеет ничего общего с «какой-то веской причиной (good reason)», а целиком и полностью связана с тем, как устроен наш мозг» [12. P. 847]. Иными словами, вместо проблемы морального обоснования нам предлагается обратиться к эволюционной нейробиологии.
Далее Грин представляет результаты своих вышеописанных экспериментов – нейропсихологическую «башню». Итогом становится заключение: «мы игнорируем тяжелое положение беднейших людей мира не потому, что мы безоговорочно ценим тонкую структуру моральных обязательств, а потому, что наш мозг устроен так, что нуждающиеся люди, которые находятся „рядом и лично“, нажимают на наши эмоциональные кнопки, а те, кто не попадается на глаза, не приходят и на ум4» [12. P. 848]. Это большая, преимущественно экспериментальная часть статьи.
Заключительная часть посвящена обсуждению метаэтического противостояния морального реализма и антиреализма. Первый Грин определяет как приверженность пониманию моральных истин как «действительно полноценных истин, независимых от разума фактов о природе моральной реальности», второй – как отрицание первого. Грин утверждает – ошибочно, о чем подробнее ниже, – что деонтологические убежения основываются на моральном реализме, то есть что идея долга требует веры в реальность внеэмпирических моральных квази-фактов. На основании данных опросов Грин утверждает, что большинство людей являются стихийными реалистами, потому что верят в независимость по крайней мере некоторых моральных суждений от историко-культурных и природных обстоятельств. Его объяснение этой веры отсылает к эволюции (мы видим здесь опять приверженность естественнонаучным генетическим стандартам объяснения): поскольку идея долга была необходима для эволюционного успеха человеческих групп, она потребовала развития в людях странных онтологических представлений о моральной реальности. Здесь можно усомниться в методологической правильности исследования, предлагающего неподготовленной публике вопрос, на который затрудняются ответить и который даже затрудняются поставить люди, специально им занимающиеся. Дело в том, что для существенной части современных деонтологов реализм–антиреализм является ложной дилеммой, разрешаемой принятием конструктивистской позиции, которую Грин не учитывает. Для конструктивиста подобный опрос оказывается иллюстрацией известного принципа «мусор на входе, мусор на выходе». Это отрезает недостаточно хорошо подготовленную в концептуальном отношении атаку Грина от надежной «башни» эмпирических данных и оставляет на «участке» метаэтики в непростом положении.
В наиболее философски выразительной статье «Тайное остроумие души Канта»5 [14] Грин переходит в решительное наступление на «участок» нормативной этики и делает смелое философское утверждение, адресованное теперь уже философской публике, о том,
«…что деонтологические суждения, как правило, обусловлены (driven by) эмоциональными реакциями и что деонтологическая философия, вместо того чтобы основываться на моральном мышлении, в значительной степени является упражнением в моральной рационализации. Это контрастирует с консеквенциализмом, который, как я буду утверждать, возникает из существенно иных психологических процессов, которые являются более „когнитивными“ и с большей вероятностью включают в себя подлинное моральное мышление» [14. P. 36].
Иными словами, согласно Грину (и Ницше), Кант построил изощренную теорию, из которой в общем следуют наши обыденные действия, полагаемые нами моральными, однако кантовское объяснение морали при помощи «чистой моральной метафизики» является полностью надуманным, а подлинное объяснение дает биология. Совпадение же многих вердиктов, полученных применением кантовской теории, с непосредственными эмоциональными суждениями мы можем отнести на счет кантовской гениальности и трудолюбия в деле подгонки теории к практике.
Грину возражает известный кантианец Марк Тиммонс [15]. Согласно Тиммонсу Грин начинает с неточного определения деонтологии, уточнение которого снимает часть критики. Если Грин считает деонтологию систематической попыткой рационализации непосредственных эмоциональных реакций, то Тиммонс указывает на сущностное значение понятия человечества и связанных с ним понятий достоинства, разумности, свободы, определяющих все остальные ходы в рамках теории. Именно понятие человечества, наиболее известное благодаря кантовской второй формуле категорического императива, является центральным для современных деонтологов [16]. Понимаемое в деонтологии как источник и цель долженствования, человечество выступает ограничителем в случаях, когда утилитаристское исчисление толкает к использованию людей в качестве средств для максимизации полезности. Это понятие с очевидным объемом, но обширным и неясным содержанием и богатой историей выступает предметом непрекращающихся дискуссий [17]. Кроме того, Грин вменяет приверженцам деонтологической этики приверженность неправдоподобной эмпирической моральной психологии, в которой рациональный принцип или норма якобы выступает побудительным мотивом к действию, заменив или вытеснив из этой роли эмоцию. Ниже я подробнее обосную на примере кантовской моральной психологии, почему гриновская интерпретация деонтологической моральной психологии является «соломенным человеком».
Другое, и уже упомянутое, обвинение, согласно которому деонтология основана на моральном реализме, опровергается целым рядом конструктивистских теорий Джона Ролза, Тома Скэнлона, Кристин Корсгард, Роберта Ауди и других. В моральном конструктивизме принципы и ценности не предшествуют морали как некая реальность-в-себе и не «открываются» разумом или интуицией, а учреждаются (конституируются) и укрепляются разумным принятием и систематическим усилием к следованию [18]. Кроме того, деонтологические представления о ценностях и должном не обязательно должны обладать законченным или закрытым характером, который им вменяет Грин. Можно рассматривать их не как ставшее и предшествовавшее человеку бытие, но как процесс, в котором наши моральные и другие представления, наша конституция и ее следствия пересматриваются и уточняются [19].
Такой процессуальный и фаллибилистский взгляд позволяет ответить на еще одно обвинение Грина: деонтология не справляется с непротиворечивым объяснением скачков и колебаний моральных решений испытуемых при модификации предъявляемых им дилемм. Например, если отказ сбросить толстяка с моста можно объяснить запретом использовать людей как средства, то как быть с тем, что большинство согласны перенаправить вагонетку на рельсы с привязанным толстяком в вариации «петля», где толстяк своим телом блокирует путь к пятерым и потому при таком решении используется как средство для их спасения? Конструктивизм, согласно которому мы находимся внутри акта «творения» морального мира как его коллективные законодатели, и фаллибилизм, согласно которому мы не располагаем (и неизвестно, будем ли располагать – возможно, как утверждал У. Д. Росс, множественность и столкновение принципов неизбывны [20]) завершенным зданием морали, принимают это возражение не как фатальное противоречие, но как несовершенство или особенность актуального человеческого состояния, которое приходится обживать и по возможности шаг за шагом обустраивать. Еще одну линию аргументации в этом направлении выстраивает Тиммонс при помощи аналогии с грамматикой, которой, как и моралью, в достаточной мере владеет обычный носитель языка, но выявление которой требует больших усилий и времени, чтобы добиться теоретической полноты и связности6.
Тиммонс также критикует стремление Грина представить деонтологию как целиком рационалистическую доктрину, неспособность которой принять эмоциональные стороны морали означала бы провал. Развиваемая им в ответе Грину и в других работах «сентименталистская деонтология» подчеркивает базовую роль эмоций в моральной мотивации. Однако чтобы обрести моральную полноценность, эмоциональное решение должно быть объяснимым и казаться приемлемым в глазах других. Здесь Тиммонс солидаризируется со Скэнлоном, для которого «правильность действия определяется тем, допускается ли оно принципами, которые никто не станет разумно отвергать» [22. P. 6].
Кроме того, можно произвести философскую операцию спасения понятия рационализации, которым Грин пользуется сугубо пейоративно: рационализировать предосудительно, рационализация есть что-то вроде лжи, пусть даже непреднамеренной. Конечно, «рационализация» имеет отрицательный смысл надуманного, не соответствующего действительности оправдания, однако имеет и положительный смысл рационального познания и упорядочения. В этом вопросе как раз и срабатывает разница в понимании действительности как эмпирической и, для морального реалиста, неэмпирической данности, как ставшего – и как осуществляющегося, конструируемого в пространстве возможного.
Склонность к рационализации в отрицательном смысле хорошо известна деонтологам и учитывается ими. Например, «архидеонтолог» Кант в конце первой части «Основоположения к метафизике нравов» пишет о «естественной диалектике», которая есть «тяга мудрствовать наперекор строгим законам долга и подвергать сомнению их силу, по крайней мере их чистоту и строгость, а также, где это только возможно, делать их более соответствующими нашим пожеланиям и склонностям, т. е. портить их в их основании и лишать их всей полноты их достоинства, чего, в конце концов, не может одобрить даже обычный практический разум» [23. P. 405].
Однако для Канта рационализация в отрицательном смысле это вторичная операция, к которой себялюбие толкает нас уже после того, как мы выполнили первичную рационализацию или разумную рефлексию, то есть сознательно описали собственное намерение, предполагаемое действие, вывели его максиму, проверили, может ли она выступать всеобщим законом природы, уважает ли человечество как цель, может ли быть принята законодателем для «царства целей» – и получили отрицательный результат. Как представляется, более сложное и сбалансированное понимание рационализации в духе Канта предпочтительнее односторонне отрицательного в духе Грина.
Теперь обратимся к «соломенному человеку». Важный пункт в обвинении Грина в адрес деонтологов состоит в том, что они опираются на ложную рационалистическую моральную психологию: гриновский «homo deontologicus» приводится в движение результатами рассуждений и в идеале избавляется от эмоций. Грин утверждает, что его эксперименты опровергают эту концепцию самости или представление о себе деонтологов [14. P. 59]. Такое понимание деонтологии не ново. Например, Шиллер отреагировал на кантовское «Основоположение» эпиграммой:
Сомнение совести
Ближним охотно служу, но – увы! – имею к ним склонность.
Вот и гложет вопрос: вправду ли нравственен я?
Решение
Нет тут другого пути: стараясь питать к ним презренье
И с отвращеньем в душе, делай, что требует долг.
[24. P. 243]
Возможно, рассуждения Канта об отсутствии у эмоций моральной значимости дают повод для такого понимания, но его моральная психология учитывает необходимость эмоций и даже содержит попытку классификации их источников (инстинкт-Trieb, чувственное желание-Neigung, склонность-Hange и др.). Кантовский человек мотивирован не только уважением к абстрактному моральному закону, как, насколько можно судить, полагает Грин (не вдаваясь в подробности) и против чего он справедливо возражает. Тем более перед кантовским человеком не стоит задача избавиться от эмоций. Положительная рационализация как осмысление может последовать только за появлением эмоционального мотива как материала для оформления. Должна, но часто не следует – мы часто совершаем действия сразу, без паузы, рационализации и рассуждения-делиберации с получением деонтического вердикта. Иногда, но далеко не всегда, это является проблемой. «Способность произволения» (Willkür), присущая человеку как животному, часто срабатывает без участия разума, не поднимаясь до отличающей человека от животных воли (Wille). То, что эта способность – как экспериментально показывает Грин – часто срабатывает так же, как потом подсказывает деонтологическая делиберация, не имеет нормативного значения. Как известно, Кант различал поступки, сообразные с законом, и совершенные из уважения к закону, и утверждал, что для «чистой» моральной теории безразлично, был ли совершен на Земле хотя бы один поступок второго рода. Таким образом, как минимум моральная психология некоторых деонтологических теорий является более сложной, чем полагает Грин, и требует более обстоятельного внимания.
Можно попытаться занять в отношении атаки Грина еще более жесткую позицию. Подобно тому, как Грин утверждает, что деонтологи не понимают содержания и импликаций собственной теории, возражающий ему деонтолог может утверждать, что Грин не понимает значения собственных экспериментов. Их результаты описываются рядом эмпирических пропозиций, «точек», объединить которые «линией»-объяснением можно более чем одним способом. Способ, выбранный Грином, является сравнительно более экономным, но оставляет без объяснения, подвергает редукции значимые мировоззренческие вопросы – причем значимые и с обыденной точки зрения. Теория, объясняющая результаты экспериментов и внимательная к важным вопросам, будет предпочтительнее. Решительный критик может начать с суммы экспериментальных результатов:
(1) «Некоторые моральные дилеммы (те, которые относительно похожи на дилемму пешеходного моста [с „толстяком“ – В.Ч.]) задействуют эмоциональную обработку в большей степени, чем другие (те, которые относительно похожи на дилемму вагонетки)» [9. P. 2106].
(2) «реакции „допустимо“ [столкнуть „толстяка“ – В.Ч.] (эмоционально несоответствующие) были значительно медленнее, чем реакции „недопустимо“ (эмоционально соответствующие) в морально-личных ситуациях, и не было никакой значительной разницы во времени реакции между реакциями „допустимо“ и „недопустимо“ в двух других типах ситуаций [морально-безличных и морально-нейтральных – В.Ч.]» [9. P. 2107]. Иными словами, эмоциональная реакция в морально-личных случаях предшествует рациональной, когда последняя имеет место.
Грин предлагает убедительное объяснение генезиса описанных реакций: человеческая эволюционная история, проходившая большую часть времени в малых группах, насилие в которых всегда включало прямой персональный контакт, выработала в нас эмоциональные паттерны и соответствующий коррелят, способный в морально-персональных случаях работать без дополнительных когнитивных операций. Правдоподобным выглядит и объяснение деонтологии как рациональной надстройки над эволюционным базисом: деонтологическая теория, при всех ее нестыковках, предлагает наилучшую рационализацию наших иррациональных импульсов, т.е. подсказываемые эмоциями действия совпадают или коррелируют с предписываемыми теорией. Такова «башня».
Дальше, чтобы захватить «участок», Грин совершает классическую ошибку подмены корреляции каузацией. Корреляция имеет место между морально-личными случаями и высокой активностью эмоциональных отделов мозга, а также между отказом причинять вред в морально-личных ситуациях непосредственного контакта и сравнительно меньшим временем принятия решения. То есть в морально-личных ситуациях имеет место последовательность: сначала фиксируемая наблюдателем эмоциональная реакция, за ней принимаемое испытуемым решение не причинять вред находящемуся рядом, потом рационализация этого решения деонтологическими рассуждениями, апеллирующими к абстрактным принципам и ценностям. Наилучшим объяснением этой последовательности Грин считает то, что эмоции в морально-личных случаях становятся причиной решений, или, если еще сильнее заострить редуктивистский момент (пусть даже Грин этого явно не делает), что их коррелят воздействует на коррелят, определяющий решения, а деонтология является чем-то вроде рационального «парового свистка» над биологической машиной.
Желающий построить кантианский ответ на эту критику может предложить парадигмально иной взгляд на эволюцию или на природу. Генетический подход, изучающий происхождение, нуждается в дополнении телеологическим, объясняющим назначение или, что то же самое, смысл. Кант полагал, что человеческий разум неизбежно «вчитывает» в природу телеологию: ее случайные события не могут не видеться частями как-если-бы плана природы (или Природы). Такой ответ может показаться слишком приближающимся к теизму, поэтому его можно сформулировать более сдержанно: эмерджентные свойства, такие как разумность, не редуцируются к эволюционно или исторически предшествовавшим им свойствам, таким как эмоциональность, даже если надстраиваются над ними и нуждаются в них для работы. В рамках такого понимания рационализация природы есть большой и сущностно важный – возможно, важнейший – процесс и в целом, и в индивидуальных актах. Человек, удерживающий свою эмоцию и предваряющий свое решение делиберацией, повторяет в малом масштабе общий процесс. Онтогенез воспроизводит или даже, возможно, пока опережает филогенез.
И Грин, и его коллеги-экспериментаторы, такие как не менее известный социальный психолог Джонатан Хайдт, сами дают материал в поддержку такого понимания. Грин и Хайдт признают, что в некоторых случаях испытуемые, по-видимому, способны действовать так, как предписывает деонтология, а именно удерживаться от немедленного следования эмоциональному импульсу и предварять свое решение соотнесением с принципами, однако это, на взгляд обоих авторов, «не является нормой» [14. P. 36; 25]. В этой оговорке видно, что «нормой» естествоиспытатели называют актуальную эмпирическую регулярность. Это уместно, когда речь идет о чем-то вроде физического здоровья, которое отмеряет природа, но является методологической ошибкой на этическом «участке», где норму конструирует человек. Здесь естественнонаучная привычка к статистической «норме» заставляет исключать редкие случаи морального поведения как «аномалии», погрешность. В мире гоминид полностью эмоциональная «норма», вероятно, совсем не знала исключений, дочеловеческие существа не прибегали к рационализациям. Но рациональные «аномалии» возникли и, возможно, – добавит моральный оптимист – тенденция такова, что они когда-то будут новой нормой, уже без кавычек. Теория, не вмещающая этой важнейшей тенденции морального развития, просто не годится.
Наконец, то обстоятельство, что эволюция создала в нас предрасположенность быстро и непосредственно, по Грину, «системой-1» реагировать на опасность причинения вреда находящемуся рядом человеку, освобождает нас от необходимости всякий раз включать медленную и энергозатратную «систему-2» и вспоминать вторую формулу категорического императива. Грин находит удивительным совпадение непосредственных эмоциональных реакций и деонтологических предписаний и заключает из этого факта, что разум зависит от эмоций и обслуживает их. Однако может быть и так, что они просто движут нами в одном направлении, и разум позволяет продвинуться дальше, действовать в новых, пост-племенных, условиях, быть точнее и понятнее друг другу7.
Заключение
Пример критики Грином деонтологической этики с экспериментальных позиций позволяет сделать ряд заключений. Во-первых, экспериментальный материал дает предмет для интерпретаций, но сами интерпретации – это философские абдуктивные теории, претендующие на роль наилучшего объяснения данных. Трудно ожидать, что подобные претензии останутся без возражений и без конкурентов, опирающихся на иные внетеоретические стандарты. Это делает экспериментальную философию ареной особенно интенсивного спора, в котором рождаются новые результаты. Во-вторых, в экспериментальной философии сохраняется базовое напряжение между естественнонаучной склонностью считать наилучшим наиболее экономное объяснение и не останавливаться перед редукцией «псевдопроблем» и более инклюзивным философским отношением к «вечным вопросам», признание важности которых выступает необходимым критерием состоятельности теории. В-третьих, случай критики деонтологии Грином позволяет выделить некоторые характерные для естественнонаучного подхода к экспериментальной философии стратегии аргументации: «мотт-и-бейли», понимание нормы как эмпирической регулярности, приверженность объяснениям через происхождение. Оценка этих стратегий как ошибок или уловок была бы слишком поспешной, правильнее было бы назвать их особенностями типов рациональностей8, создающими в экспериментальной философии особую динамику поиска и отличающая экспериментальную партию от партии более философской. Ценность экспериментального подхода несомненна, он обогащает философию не только новыми данными, но и новыми аргументами.
1 Например, когда Роберт Сапольски, объясняя основные идеи своей книги “Determined: A Science of Life Without Free Will” (2023) произносит: «Весь вопрос в том, … как вы оказались с префронтальной корой, у которой есть ценности» (см. Sapolsky R. Neuroscientist: How To Escape The Rat Race. Robert Sapolsky. 2024. Режим доступа: https://www.youtube.com/ watch?v=PNMLlX7tyQk (дата обращения: 31.07.2024), – он пытается риторически перепрыгнуть «провал в объяснении» посредством прямого приписывания естественнонаучной сущности, т. е. отделу мозга, неприродной сущности, т. е. ценности. В философии языка это известно как категориальная ошибка, и, увы, от нее не застрахованы даже самые выдающиеся ученые. Есть некоторая ирония в том, что борьба с метафизической бессмыслицей порождает научную бессмыслицу вида «у префронтальной коры есть ценности». Кроме того, в этой реплике, суммирующей рассуждение, очевидно сведение «всего» вопроса к вопросу о возникновении: генетическое объяснение ценностей (точнее, работы коррелята) оказывается не только необходимым, но и достаточным.
2 Подробнее разные версии этой дилеммы и эксперименты нейропсихологов с ними описаны в монографии Ю.И. Александрова и К.Р. Арутюновой [10].
3 «Замок мотт-и-бейли [в отечественной науке „курганно-палисадный замок“ – В.Ч.] – средневековая система обороны, в которой каменная башня на кургане (мотт) окружена участком земли (бейли), который, в свою очередь, окружен каким-то барьером, например, рвом. Будучи темной и сырой, башня малопривлекательна в качестве места проживания. Единственная причина ее существования — желательность участка, который сочетание башни и рва позволяет относительно легко удерживать, несмотря на атаки мародеров. При слабом давлении ров позволяет легко победить небольшое количество нападающих, когда они с трудом его преодолевают: при сильном давлении ров нельзя защитить, как и участок. Защитники отступают к нежилой, но защищенной, возможно, даже неприступной, башне. В конце концов мародеры сдаются, и защита оказывается в выгодном положении, чтобы снова занять желаемую землю. […] Участок представляет собой философскую доктрину или позицию со схожими свойствами: желательную для ее сторонника, но только слабо укрепленную. Башня — это укрепленная, но нежелательная позиция, к которой отступают, когда на тебя сильно давят» [11. P. 3].
4 Грин использует идиому «out of sight, out of mind», которую велик соблазн перевести как «с глаз долой – из сердца вон». Переводить «mind» как «сердце» было бы слишком большой вольностью, но русская пословица точнее соответствует содержанию тезиса Грина: разница между моральными реакциями в рассматриваемых двух типах случаев объясняется эмоциями, а не рассуждениями.
5 Один из эпиграфов к своей статье Грин выбрал из Ницше: «Остроумие Канта. – Кант хотел шокирующим для «всего мира» способом доказать, что «весь мир» прав: в этом заключалось тайное остроумие этой души. Он писал против ученых в пользу народного предрассудка, но для ученых, а не для народа» [13. P. 463].
6 Концепция «универсальной моральной грамматики» Дж. Михаила [21] и др. является альтернативой сентиментализму Грина и также иллюстрирует достижения экспериментальной философии. Ее рассмотрение – отдельная задача.
7 В 2013 г. Грин опубликовал книгу «Моральные племена: эмоции, разум и пропасть между нами и ними». Основной ее тезис состоит в том, что утилитаризм или, как его называет Грин, «глубокий прагматизм», может стать универсальной моральной философией, в то время как деонтология, по сути занятая рационализацией-оправданием эмоций, оставляет нас в архаичном племенном мире, где принципы разнятся в зависимости от разницы традиций и обрекают их приверженцев на конфликты. Разумеется, главную уязвимость этой оптимистической концепции составляет неопределенность понятий вроде полезности и счастья, в разных «племенах» и разными индивидами понимаемых различно.
8 Дихотомию научно-эпистемологической и моральной рациональности в экспериментальной этике констатирует В. Ю. Перов [26].
Об авторах
Вадим Александрович Чалый
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; Балтийский федеральный университет имени И. Канта
Автор, ответственный за переписку.
Email: vadim.chaly@gmail.com
ORCID iD: 0000-0001-7570-3382
SPIN-код: 6540-1961
доктор философских наук, профессор, философский факультет, Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова; старший научный сотрудник Академии Кантиана, Балтийский федеральный университет имени И. Канта
chaly@gmail.comСписок литературы
- Knobe J, Nichols S. Experimental Philosophy. In: Zalta EN, editor. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Metaphysics Research Lab, Stanford University; 2017.
- Alfano M, Machery E, Plakias A, Loeb D. Experimental Moral Philosophy. In: Zalta EN, Nodelman U, editors. The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Metaphysics Research Lab, Stanford University; 2022.
- Зайцева Н.В., Зайцев Д.В. Феноменологическая перспектива в современной нейронауке // Философские науки. 2017. № 1. C. 71-84.
- Knobe J. Person as Scientist, Person as Moralist. Behavioral and Brain Sciences. 2010;33(4):315-329.
- Апресян Р.Г. Нейроэтика: вызовы и недосмотры // Философия. Журнал высшей школы экономики. 2020. № 4. C. 13-23. https://doi.org/10.17323/2587-8719-2020-1-13-23
- Мур Дж. Принципы этики. Москва : Прогресс, 1984.
- Kahn CH. Democritus and the Origins of Moral Psychology. The American Journal of Philology. 1985;106(1):1-31.
- Бажанов В.А., Шабалкина Е.Е. Проблема поиска нейрофизиологических оснований морали: нейроэтика // Философские науки. 2017. № 6. С. 64-79.
- Greene JD, Sommerville RB, Nystrom LE, Darley JM, Cohen JD. An fMRI investigation of emotional engagement in moral judgment. Science. 2001;293(5537):2105-2108.
- Александров Ю., Арутюнова К. Мораль и субъективный опыт. Москва : Институт психологии РАН, 2019.
- Shackel N. The Vacuity of Postmodernist Methodology. Metaphilosophy. 2005;36(3):295-320.
- Greene JD. From neural “is” to moral “ought”: what are the moral implications of neuroscientific moral psychology? Nature Reviews Neuroscience. 2003;4(10):846-850.
- Ницше Ф. Веселая наука // Полное собрание сочинений: в 13 томах. Т. 3. Москва : Культурная революция, 2014. С. 313-596.
- Greene JD. The secret joke of Kant’s soul. In: Moral psychology. Vol. 3: The Neuroscience of Morality: Emotion, Brain Disorders, and Development. Cambridge, MA, US: MIT Press; 2008. P. 35-80.
- Timmons M. Toward a Sentimentalist Deontology. In: Moral Psychology. Vol. 3 The Neuroscience of Morality: Emotion, Brain Disorders, and Development. Cambridge, MA, US: MIT Press; 2008. P. 93-104.
- Wood AW. Humanity as End in Itself. In: Parfit D. On What Matters: Volume Two. Oxford: Oxford University Press; 2011. P. 58-82.
- Чалый В.А. К чему мы должны относиться как к цели? Кантовский ответ и его современное значение // Вопросы философии. 2021. № 4. C. 98-109.
- Rawls J. Kantian Constructivism in Moral Theory. The Journal of Philosophy. 1980;77(9):515-572.
- Чалый В.А. К кантианскому моральному фаллибилизму: недоопределенность в рассуждениях по первой формуле категорического императива // Вестник Московского университета. Серия 7. Философия. 2022. Т. 1. C. 105-114.
- Ross WD. The Right and the Good. Oxford: Clarendon Press; 1930.
- Mikhail J. Universal moral grammar: theory, evidence and the future. Trends in Cognitive Sciences. 2007;11(4):143-152.
- Scanlon TM. What We Owe to Each Other. Cambridge, MA: Harvard University Press; 1998.
- Кант И. Основоположение к метафизике нравов // Сочинения на немецком и русском языках. Т. 3 / под ред. Н.В. Мотрошиловой, Б. Тушлинга; пер. Э.Ю. Соловьева, А.К. Судакова. М. : Московский философский фонд, 1997. С. 39-275.
- Шиллер Ф. Собрание сочинений: В 7 томах. Т. 1. М. : Государственное издательство художественной литературы, 1955.
- Haidt J. The emotional dog and its rational tail: A social intuitionist approach to moral judgment. Psychological Review. 2001;108(4):814-834.
- Perov VY. Kantian moral universalism, the “Enlightenment Project” and experimental ethics. SHS Web of Conferences. 2023;161(3006):1-7.
Дополнительные файлы