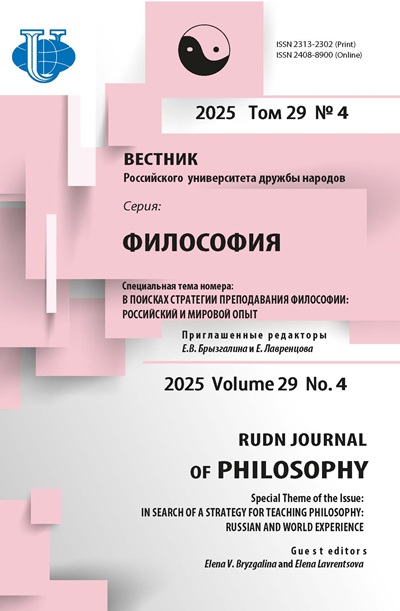От мира восприятия - к феноменологии способностей
- Авторы: Соложенкин Б.С.1
-
Учреждения:
- Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)
- Выпуск: Том 28, № 1 (2024): ФИЛОСОФИЯ БУДДИЗМА МАХАЯНЫ
- Страницы: 199-218
- Раздел: ИСТОРИЯ ФИЛОСОФИИ
- URL: https://journals.rudn.ru/philosophy/article/view/38432
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-2302-2024-28-1-199-218
- EDN: https://elibrary.ru/BHLXSU
- ID: 38432
Цитировать
Полный текст
Аннотация
«Феноменология восприятия» Мерло-Понти содержит посылку о восприятии как о первичном уровне данности мира. Восприятие предстает как всегда незавершенный синтез множественного, сводящий вместе телесные и вещественные аспекты. Такая наиболее простая трактовка восприятия как некого общего установления контакта внутри диады «тело-мир» есть предварительная аксиома для объяснения дальнейшего процесса смыслообразования. При этом теоретические искания Мерло-Понти явно предполагают большее, и восприятие мыслится им также и окончательной точкой поисков смысла этого контакта. Тем самым в Феноменологии различима и вторая трактовка восприятия как наделяющего смыслом, работающего в связке с дорефлексивным когито. Мерло-Понти предполагает, что эти трактовки совместимы друг с другом, однако переход между ними представляется действительно проблемным. В данной работе автор показывает, что предел изначального синтеза восприятия - некоторый смысл воспринятого («эта лошадь», «зеленая густота, которая неслась навстречу») - недостижим изнутри самого восприятия и только его силами. Оно само опосредовано другими способностями, такими как память, рефлексия, и воображение. Необходимость этого аргументируется несколькими способами; отношения в паре восприятие-воображение представляют наиболее характерный случай, где Мерло-Понти, если судить по более поздним работам, сам подходит близко к признанию ограниченности гипотезы «мира восприятия», к необходимости феноменологической разработки темы способностей. Исходя из применения феноменологического метода и анализа концептуальных построений Мерло-Понти, можно заключить следующее: «Мир восприятия» - не существует, но возможна (и необходима!) феноменология способностей.
Ключевые слова
Полный текст
Введение
В своей, пожалуй, ключевой работе М. Мерло-Понти периодически обращается к аргументации в пользу смысловой исполненности восприятия, «которое угадывает в раме присутствие холста, в памятнике — присутствие рассыпающегося цемента, в герое — присутствие вымотавшегося актера» [1. C. 51]. Качественную сторону этой смысловой полноты, еще не выраженной в конкретных речевых актах, нельзя недооценивать, ведь «восприятие несет в себе больше, чем я знаю в отчетливом знании» [1. C. 487]. Говорим ли мы о «раскрытии имманентного или зарождающегося в живом теле смысла» [1. C. 256] или об одушевляющем пепельницу смысле, мы обозначаем нечто, существующее до интерпретации [1. C. 410]. Существует предпонимание, обретенное в процессе первичного контакта с миром, постоянно возобновляемого контакта, который и будет назван восприятием. «Я» и «Мир» были тесно переплетены в этом процессе, и только потом, посредством судьбоносной трещины рефлексии, получили свою хрупкую свободу. Значила ли эта переплетенность нечто сама по себе? Хотя Мерло-Понти стремится показать, что это так, сама по себе гипотеза о внутреннем для процесса восприятия «смысле» — не столь невинна и даже проблематична.
Можно задать следующий методический вопрос: служит ли вообще немедленность интерпретации в случаях восприятия свидетельством в пользу существования внутреннего смысла воспринимаемых вещей? Та легкость, с которой имена даются вещам, а события приобретают свой отчетливый смысл, есть предмет философского интереса, удивления. «Материальное априори», «одушевление интенциональной ноэзой», «дорефлексивное когито» — признаки состоявшегося философского решения (того или иного). В своем работе я анализирую ряд значимых мест концепта восприятия, который становится все более проблемным от пункта к пункту, в итоге приводя нас к необходимости переосмыслить его.
В первом разделе я разбираю базовый концепт работы Мерло-Понти в свете предполагаемых им онтологических и эпистемологических сдвигов, особенное внимание уделяя проблеме идентичности вещи. Восприятие предшествует любому аналитическому делению на составляющие нашего опыта как некоторый уже свершившийся синтез. Подразумеваемая им динамическая связь между воспринимающим телом и множеством воспринимаемых аспектов вещи (все это и составляет природу этого синтеза, описанную в самом общем виде) не приобретает какого-либо значения в силу самого существования этой связи. Здесь и возникает основная проблема, которой посвящен второй раздел: как происходит переход от восприятия к смыслу? Наличие невыраженного словесно, но тем не менее вполне «операбельного» и стабильного опыта восприятия, возможность его выражения (а значит и вопрос о его смысле, о мотивированности восприятия и границах феномена), — все это предметы интереса второго раздела. Заключение продолжает его дополнительной аргументацией и подчеркивает необходимость обращения к ноэтически влиятельным и различным по принципам своей работы способностям, определяющим «что» и «как» будет извлечено из первичного синтеза восприятия[1].
«Никогда не завершенный синтез»
Первичность синтеза в объяснении восприятия встречает нас, когда в тексте открыто заявляется: восприятие обеспечивает единство идеи «Я», идеи объекта и истины [1. C. 75]. Перед воспринимающим сознанием предстает синтетическая картина, в которой все части даны сразу и одновременно. Совокупно даны величины деревьев и человека, весь пейзаж в наполняющих его деталях, — все эти элементы целостного опыта восприятия затем будут распознаны в качестве таковых в рефлексивных процедурах. Любой самый простой пример восприятия, развернутый по логике Мерло-Понти, представляет собой Целое (или: некоторую воспринимаемую целостность), существующее «до» выделения элемента субъективности или объективности. Выделение конкретных элементов требует расторжения этого прочного союза, разрушения исходного Целого.
Следующий фрагмент разъясняет нам необходимость отвлечения, редукции, позволяющей обнаружить как данное сознанию, так и субъекта его процессов: «… наше существование слишком прочно скреплено миром, чтобы знать себя как таковое в тот миг, когда оно в него погружается, и что оно нуждается в поле идеальности для того, чтобы познать и завоевать собственную фактичность» [1. C. 14].
Редукция сопровождается расшифровкой мира самого восприятия, поскольку сама и состоит в удержании удивления, смысловой разомкнутости[2]. Наше описание опыта восприятия должно обозначить его основные генетические моменты. «Условия возможности» этого опыта должны обнаружиться в дескрипции — это переживаемые «фактичности», сами вещи в их существовании, моя телесность и способ ее задействования. Восприятие — это неизбывное пополнение нерасчлененного опыта, это линия, замыкающая и редукцию, и дескрипцию в круг.
Первичное восприятие предстает как нечто, предшествующее нашей расшифровке, нерасчленённое на отдельные элементы. Смысл этой целостности станет более понятен нам, если мы последуем за двумя концептуальными стратегиями, между которыми Мерло-Понти располагает собственную мысль. Эмпиризм не мог постичь саму целостность, синтетичность опыта, рационализм (читай: интеллектуализм) же искал ее исключительно на стороне субъекта, постулируя необходимость достижения им особенного состояния, из которого синтез (опыта) и свершался, и был понят[3]. Кульминацию этой идеи мы находим у Шеллинга и Гегеля, разделявших общую посылку: сначала должно быть совершенно восхождение (или: поворот) к подлинной и всеобъемлющей субъективности, и только когда субъективность осуществится абсолютным образом, станет возможным рассмотрение предшествующих форм сознания с их специфическим способом получения опыта. Системы великих идеалистов строились на принципе, подтверждавшим свою значимость во всех формах сознания просто за счет своего появления и, затем, подчинения их своей задаче. Субъект и мир должны быть поняты из единого принципа тождества, который является самым производительным и самым формальным[4].
Для феноменологической позиции Мерло-Понти нет нужды в построении истории самосознания для указания места восприятия в ней: генезис уже свершен, нам не нужно восходить к более зрелому сознанию, достигать свободы самосознания или же абсолютного начала, чтобы объяснить восприятие. История моего восприятия разворачивается в самом акте восприятия, самостоятельном и полноценном.
- Со стороны Субъекта
Процессуальная трактовка Субъекта приходит на смену трансцендентализму, когда Субъект теряет конституирующую роль. Он более не связующий центр, но «временность», «уникальный опыт, который невозможно отделить от него самого» [1. C. 517]. Отождествление с опытом не проходит бесследно: на первый план выходит «истина тела». Только для действующей и осознающей себя телесности, открыта возможность «совпасть» с восприятием «и понять его» [1. C. 78].
«Сознание находит себя уже за работой в мире» [1. C. 546], а субъект является «возможностью ситуаций», поскольку в самом субъекте заложены онтологические тело и мир [1. C. 518]. В этом месте можно заметить, как обсуждение отдельно взятой категории избегает дуального разъединения, онтологического разрыва: чтобы понять субъекта, нужно постичь и то, что ему принадлежит (тело), и то, что не является всецело предметом его определений (вещи, мир).
- Со стороны Объекта
Но что есть Вещь, прописанная через экзистенцию в самую сердцевину субъективности? Мы наблюдаем встречное движение, проблематизирующее любое установление идентичности вещи. Неверно было бы сказать о том, что речь идет о редукции Вещи просто к феноменальному полю, ко множеству проявлений. Разнообразие способов данности все равно фундированы в чем-то одном, множество феноменальных «снимков» связаны друг с другом за счет сохранения общего сюжета, который лишь по невнимательности можно было назвать «просто той или иной вещью». Обозначая проблему идентичности, я хочу подвести к решению, которое переворачивает саму постановку вопроса: «Что есть вещь?» будет заменено на «Что есть синтез?».
Психолог и эмпирик наивно отсылали к внешней реальности, полной сложившихся объектов, обладающих определенной структурой и качествами. Дисквалификация научного познания у Мерло-Понти предваряет обращение к исходному восприятию, предшествующему его рационализации и объективизации. Вещь во всей ее смысловой полноте не дана заранее для этого исходного восприятия, ее единство неочевидно; и, тем не менее, восприятия согласованы — мой опыт складывается из взаимодействия с вещами[5].
С одной стороны, вещь — это необходимая посылка, своего рода абсолютный Другой, неустранимый из опыта. Вещь не была «положена» мною, она конституируется в «потоке субъективных кажимостей», принадлежа своей трансцендентальной действительности [1. C. 418]. С другой стороны, независимое существование вещей — это только возможность, предстающая для сознания в качестве «веры в вещи» [1. C. 423]. Сознание будто бы заранее приняло презумпцию завершенности синтеза восприятия, который на самом деле не может быть завершен. Отрицая мир, состоящий из объектов, помещенных в однородное картезианское пространство, феноменолог восприятия все равно имеет дело с ними как с единствами — дерево и книга остаются чем-то сохраняющим свое субстанциальное единство по ту сторону потока переживаний. Но тогда сам феномен независимого бытия вещей-вне-нас должен быть объяснен без участия концепта конституирующего сознания. Руководящим принципом на этом пути объявляется перцептивная вера, и круг замыкается.
Впрочем, вполне возможно развернуть текст Мерло-Понти к более радикальной интерпретации, избавляясь и от «веры в вещи»[6]. Хотя само восприятие убеждает нас в каждом своем отдельном акте или мгновении в реальности происходящего, в действительности противолежащей силы или вещи, оно вовсе не находится в сильной зависимости от категории единства. Нет никакой необходимости в том, чтобы эта категория была погружена в саму вещь, кроме метафизической. Прочтение бытия вещи в терминах субстанциальности, сущности, монады — это только один из вариантов. Вместо субстанциальной трактовки Мерло-Понти предлагает другую, контекстуальную, утверждающую множественность и различие. Итак, «вещь — «сгущение среды», «часть атмосферы»[7]. Адекватно понять эти отсылки к «среде» и «атмосфере» можно, только если одновременно учитывать их экзистенциальную направленность.
Ответом на вопрос «что есть вещь?» будет не субстанциальное единство по ту сторону субъекта или сознания (которое могло подчинить контекстуальную трактовку старому доброму «исчислению предикатов»: различить эссенциальные и акцидентальные признаки, первые подчинить единству понятия и т.д.), а прежде всего способ ее бытия[8]. Такое операционное или экзистенциальное прочтение концепта предполагает, что идентичность вещи отсылает в своем обосновании исключительно к телу. Вещь начинает пониматься как операциональная среда, ее идентичность есть «лишь еще один аспект идентичности собственного тела в рамках движений обследования» [1. C. 242].
Аналогичная мысль имеет место быть и позже, когда восприятие берется в виде среднего термина, который в равной мере разделяют тело и мир. Утверждается, что «мое тело есть движение в сторону мира, а мир — точка опоры моего тела» [1. C. 447]. Поэтому, когда говорится, что «единство объекта основано на предчувствии какого-то неизбежного порядка…» [1. C. 41], речь идет о функциональной взаимосвязи между телом и миром, а не о внутреннем устройстве вещи.
Мерло-Понти балансирует между экзистенциальным и реалистическим способами осмысления мира и вещи: объективность последних несомненна, однако непредставима изнутри нашей вовлеченности в мир. Онтологическое обоснование этой объективности не входит в задачи «Феноменологии Восприятия», поскольку саму вещь она уже трактует процессуальным образом. Ее открытием и аксиомой является неразрывность, переплетенность диады тело-мир. Движение внутри этой диады, совершаемое нами регулярно и повседневно, можно было бы назвать диалектическим, если бы не одновременность открытия мира и сознания в опыте восприятия. Встреча с миром не происходит на некоторой дистанции: сначала различаются компоненты, вроде фактуры предмета и освещения, влияющих на цветовое восприятие, а только затем переживается глубокий синий цвет ковра. Наоборот, синтез уже представляет нам «вещь-в-среде», то есть взаимосвязанность множества аспектов единого «слепка» воспринятого.
Только рефлексия, мысль о восприятии находится на некоторой дистанции к диаде тело-мир, она размечает последовательность схватывания, переход от сенсорных систем к феноменальным аспектам и обратно. Взаимное влияние полюсов диады становится различимым только в рефлексии: так можно выделить, как мой взгляд создает глубину, которой нет в вещах[9], или же оценить то, как смена наблюдаемой поверхности влияет на восприятие цвета.
- Множественность
Теперь нам понятно, в чем заключается проблема объяснения восприятия. Само восприятие маркирует сам момент встречи сознания и мира, sensorium-а тела и вещей. Хотя сам процесс осознания совпадает с осознаваемым [1. C. 476—478], не совсем понятно, как эта комплексность возникла. В ее истолковании мы не можем ни опереться на качества, присущие вещам (эмпиризм), ни прибегнуть к помощи категорий, через которые силы сознания упорядочивают мир. Наши суждения есть попытка дать комментарий тезису, утверждаемому столь позитивно: «Внутреннее и внешнее неразделимо. Мир весь внутри, а я весь вне меня» [1. C. 517].
Онтологический приоритет Мерло-Понти отдает становлению: восприятие мыслится как «никогда не завершенный синтез, который вместе с тем утверждает себя, невзирая на то, что незавершен»[10]. Этот синтез, однако, уже есть «имеющийся в нашем распоряжении доступ к истине» [1. C. 16]. На эту истину можно опереться в практике, она подтверждает себя во время ориентации в мире. Непрерывный действительный синтез между телом и миром является согласованностью разнородного с обеих сторон. Причиной для философского удивления является сам факт этой встречи, эта слаженность, утверждаемая наподобие предуставленной гармонии.
Со стороны сознания мы избегаем ловушки солипсизма, не имея, уже со стороны мира, некоей вещной реальности, имеющей единственно верное истинное отображение, описание (хотя бы оно и мыслилось в качестве идеальной эвристической перспективы). Каждый акт восприятия, искусственно выделенный из общего феноменального потока в дескрипции, это акт схождения двух множеств[11]. С одной стороны, мы имеем множество «всех чувств», «систему перцептивных возможностей», а с противоположной — множество «коррелятов тела», феноменальных аспектов вещей. Напомним, что задачей описания (этого схождения, согласования) является раскрытие уникальности вещи во множестве ее аспектов. Нас интересует не род вещи, позволяющий усмотреть общее в частном, но уникальная комбинация факторов, сложившаяся в восприятии частной вещи. Проблема идентичности вещи (и объекта в целом, соответственно его широкой трактовке, о которой упоминалось ранее) в конечном итоге сводится к тому, сможет ли кто-то еще, или я в отдаленном будущем, воспроизвести те же самые опыты, пользоваться ручкой или книгой сообразно их назначению или различать какой-либо оттенок цвета среди близких ему.
Существует внутренняя центрирующая сила, тела открывают не только способы бытия вещей, но и последние позволяют обнаружить реализацию навыков, развить свои способности[12]. Стоит ли упоминать, что показателем развития, в свою очередь, способностей всегда является обнаружение новых нюансов в самих вещах? Учась распознавать мельчайшие оттенки ароматов, дегустатор становится способен сказать о выдержке вина, времени и влиянии внешних факторов на процесс. Игра в шахматы блестяще иллюстрирует то, как незначительное изменение во внешнем поле восприятия — сдвиг фигуры — порождает активную внутреннюю деятельность, то есть планирование своих действий исходя из изменившийся расстановки сил.
От восприятия к смыслу
Обозначив свое прочтение базовой модели восприятия у Мерло-Понти, в этой части я перехожу к критической части, сосредоточенной вокруг вопроса о смысле воспринятого. Сама интенциональность акта восприятия[13] составляет значительную проблему для более раннего тезиса о восприятии как уже свершившемся синтезе. Почему было воспринято именно «это» и именно «так»? Каким образом синтез обрел свои очертания в нашей мысли так, что мы можем утверждать об отдельных актах восприятия, отличая их как друг от друга? Восприятию изначально был выдан слишком большой аванс; дальнейшее пояснение мотивационных аспектов прольет свет на его мнимую автономность.
С одной стороны, феномен мотивации объясним во внутреннем для восприятия поле. У самого Мерло-Понти мотивация понимается как связь между феноменами, один мотивирует другой, который в итоге объясняет его [1. C. 82]. Так, хлопок двери объясняет мою мотивацию посмотреть в сторону хлопающей двери. Яркая вспышка света заставляет зажмуриться, уменьшить поток нахлынувших восприятий: тем самым одни восприятия устраняют возможные другие посредством изменений в телесности. Мотивация, объясняемая ретроспективным образом, направляет мое настоящее действие. Она появляется до рефлексивного анализа, до усмотрения порядка феноменов и облачения ее в значение — «хлопок двери», «яркая вспышка света». Однако это явно не единственная возможность.
Как произошла, в частности, фиксация горизонта воспринятого? Отбор существенного, звуков, цветов и фигур, на которые стоит обратить внимание, не сводится только к реакции на импрессиональную перемену (в интенсивности, качестве переживания). Другим ответом здесь, столь же явным, сколько и скрытым, служит внимание. Подчиняя внимание задачам восприятия, мы упускаем из виду, что перед сознанием имеется совершенно особенная способность. Опытный лектор, сосредоточенный на чтении лекции и реакции публики, может быть совершенно не затронут периодически открывающейся дверью. Его поле восприятия ограничено способностью управлять вниманием, удерживать объекты (слушателей, аудиторию в целом) в определенной рамке восприятия.
Допустим, имеется следующее содержание восприятие: «несущаяся навстречу мне зеленая густота». Наблюдая за нею из окна, я могу не замечать оконной рамы, и уж тем более не примешивать к этому созерцанию гул колес. Этот гул является условием моего опыта, таким же как поезд, мой статус пассажира и выбранный маршрут поездки. Однако из всех условий гул и оконная рама выделяются как ближайшие к восприятию. Один сопровождает мое созерцание зеленой густоты, при этом не являясь объектом сознательного интереса. Рама буквально обрамляет мое видение, ограничивая его содержательный состав. Рама и гул выступают в качестве пассивно-воспринятого. Мое видение при этом само заключено «в рамки» в двойном смысле: со стороны внешних условий (движение поезда, ландшафт местности, оконная рамка) и со стороны более актуальной настроенности созерцать движение зеленой густоты.
Тем самым из нашего примера можно извлечь метафору незримой рамки. Оно прочерчивается каждый раз как область наделенного вниманием восприятия, и потому различается со всей множественностью дополнительных условий. В гораздо большей степени она зависит от выбранной установки: я решил смотреть из окна, созерцать, а значит разместить свое бытие в избранном поле восприятия. Дело не в том, что внутри восприятия есть осознаваемое и неосознаваемое, но в том, что имеют место быть две разнородных способности: восприятие и созерцание[14].
Даже если мы спускаемся на уровень гилетики, «импрессиональных материалов», диктующих «ноэзам способы их собственного осуществления» [8. C. 26—27], мы не имеем права оставить в стороне ответную силу, движение способности. Пассивность импрессии еще не задает никакого объекта, не «обрамляет» феноменальное в соответствующий опыт сознания. Она только располагает к выбору той или иной способности, которая и меняет содержательный состав. В нашем примере с поездом одна и та же зрительная картина будет различной в смысле предъявляемой феноменологии в зависимости от того, будет ли наводить эта «несущаяся зелень» на различные мысли, давать простор воспоминаниям, побуждать к активности воображение. Вопрос «что дано сознанию?» не относится автоматически именно к восприятию. Ответить на него в духе Мерло-Понти значит только предпочесть созерцательное отношение, одну лишь способность из числа многих.
Развертывание основного концепта происходит у Мерло-Понти в двух направлениях: восприятие выступает и как всесторонний синтез условий опыта, и как сообщающая смысл способность, работающая в связке с дорефлексивным когито. С одной стороны, говорится, что «восприятие не есть знание о мире, это даже не акт, не обдуманное занятие позиции, восприятие — это основа, на которой развертываются все наши акты и оно предполагается ими» [1. C. 9]. Осознание же этих «актов», облечение материальной импрессии в смысловую форму невозможно без рефлексии. Рефлексия является «осознанием мира», позволяет «увидеть бьющие ключом трансценденции», ослабить «интенциональные нити, связывающие нас с миром» [1. C. 13]. Эта рефлексия — всегда «о нерефлексивном», она представляет собой «подлинное творчество», «изменение структуры сознания». Хотя она и объявляется творческой способностью, это творчество существенно ограничено. Когито должно следовать за восприятием. Ему надлежит раскрывать непрозрачность восприятия, и в то же время удерживая заключенное в нем многообразие аспектов [1. C. 74]. Феноменология восприятия, ставя свои задачи, переосмысляет роль рефлексии, в конечном итоге заменяя ее дорефлексивным когито.
Идея дорефлексивного когито подразумевает следующее: хотя сохраняется дескриптивная функция рефлексии, ей отказано в полноте власти, отныне она подчинена иным задачам. Нам не нужно «усматривать всеобщее» для обнаружения истины переживания, ведь в последнюю мы посвящены уже на уровне уникального случая восприятия. Сложность составляет как раз обратное: постичь сложенность феномена восприятия, не заменяя его на родовой, универсальный образец, на сущностный инвариант. Индивидуальные условия созерцания «зеленой густоты» не могут быть заменены простым разъяснением того, что «на самом деле» видится лес близко посаженных деревьев, и наблюдающий лишь по зрительной ошибке называет совокупность конкретных растений — густотой, примешивая сюда отдельное качество зеленого цвета.
В этом теоретическом движении к переживаемому-конкретному сближаются Мерло-Понти и Мишель Анри[15]. Они оба меняют смысл эйдетической редукции: если для второго она служит вратами в царство «метафизики репрезентации» [8. C. 145], где реальное безвозвратно утеряно и заменено мыслительным дубликатом, то для первого она «заключается в решении показать мир таким, какой он есть до нашего обращения к себе, в стремлении уравнять рефлексию с нерефлексивной жизнью сознания» [1. C. 15]. Как это стремление может быть реализовано так, чтобы мы случайно не оказались перед вратами вышеуказанного метафизического царства?
Воспринятое не просто предполагает, но и предпосылает дальнейший анализ. Эта «нерефлексивная жизнь сознания», как мы можем понять из замечательных строк посвященных анализу вещи, есть смыслонаделяющее восприятие. Мерло-Понти пишет, что «cмысл населяет вещь», как душа населяет тело [1. C. 410]. Далее: «Чудо реального мира… в том, что в нем смысл и существование суть одно…» [1. C. 415]. Восприятие каким-то образом поставляет нам смысл и способ бытия, при этом не являясь рефлексирующим в традиционном смысле. Оно не говорит на языке психологов, но на языке моего тела, ориентируя и вовлекая в мир. Язык, на котором формулируются сообщения восприятия, не является приватным. Даже «психика другого становится непосредственным объектом, как бы отмеченным печатью имманентного значения» [1. C. 91]. Еще не вводя концепт «плоти», Мерло-Понти располагает схемой «Я-Другой-Вещи», свидетельствующей о потенциальной способности Другого усвоить богатства воспринимаемого аналогично мне. Понятие изначального восприятия включает в себя «выражение, нацеленное на мир и адресованное «другому»» [9. C. 584].
Сложность заключается в феноменологической трактовке смысла-в-себе. Как смысл мог изначально «населять вещь»? Хотя возможность подобного и гарантирована устройством нашей телесности (коль скоро она позволяет извлекать повторяющийся в реакциях и оценках опыт «горячего», «печального» или «приятного»), по большей степени однозначность — это результат согласования наших описаний. На помощь приходит экзистенциальная стратегия: определять нечто как крупу — это хорошо отработанная практика использования языка, применяемая, когда имеет место быть некоторая организация «чувственно воспринимаемых аспектов» [1. C. 414]. Экзистенциальная трактовка призвана ответить на следующий вопрос: если наши восприятия (весь богатейший материал импрессии) не имеют единого способа расшифровки, то есть многозначны, почему мы выбираем то или иное прочтение?
Использование экзистенциальной трактовки (или же привлечение внимания к прагматике) в постижении вещи лишь углубляет проблематику, но теперь со стороны герменевтики[16]. Восприятие тогда не есть заранее предопределенная интерпретация. Наоборот, одушевление смыслом случается в тесном взаимодействии с вещами. В речевом поведении и практиках обращения с вещами мы формируем и присваиваем значения последним. Мир не только не пронизан смыслом, но полон ситуаций, чье содержательное наполнение и зависит от герменевтического поиска[17]. Мир не понятен сам по себе и не растолкован заранее, ему придается то или иное значение в соответствующих обстоятельствах. Порядок культуры и субъективная настроенность модифицируют восприятия, чей исходный посыл оказывается не так уж легко уловить в его нейтральности[18].
Допуская творческую, а не только сугубо выразительную, силу языка, Мерло-Понти оставляет тезис об «уже говорящих значениях» в слабом положении. Потенциал экзистенциального значения оказывается ограничен тем, насколько различно интерпретаторы подходят к предположительно одному и тому же феномену. В чем смысл «боли при ожоге»? Пытаясь уловить однозначность такого послания, можно было бы сослаться на совокупность привычек и реактивных действий, подтверждающих истинный смысл чувственной импрессии. «Боль» от прикосновения к «горячему» подтверждает себя в качестве таковой самой реакцией (например «отдернуть руку»). Однако в этом ли заключается смысл этой боли в случае с ритуальным самосожжением, искупительной болью или садомазохистским наслаждением? Если бы событию ожога в этих примерах не придавался изначально иной смысл, то не было бы и самого ожога.
Однозначность не обещана, когда в игру вступает язык. В языковой практике (а значит при рефлексии и описании) это всегда достижение, продукт тренировки и успешного вовлечения в процессы интерпретации. Восприятие не «говорит» со мною изначально о том, что страшно, а что является достойным вызовом для проявления храбрости, но может научиться этому. О каком бы виде обучения нашего вкуса (музыкального, визуального, дегустаторского) ни шла речь — восприятию еще предстоит состояться среди новых различий, изначально чуждых ему.
Смысл более позднего положения об «универсальной видимости» заключается как раз в исключительном доверии к той настоятельности порядка взаимодействия, к которому вынуждает та или иная вещь. Дверная ручка требует повернуть ее, а зонт — раскрыть его; «Видимое и Невидимое» доводит логику экзистенциального прочтения вещи до полного сокрытия того факта, что и сам способ использования может быть переопределен. На каких основаниях можно противостоять следующему тезису: в конечном итоге, мы имеем дело с образами, спроецированными на восприятие? Если у нас нет образа зонта, концептуально нагруженного способом обращения с предметом схожей формы «как с зонтом», то что мы имеем перед собой кроме непонятной заостренной палочки с ручкой[19]?
Так, восприятие встречается с воображением, чтобы быть наделенным интенцией[20]. По-видимому, без встреч подобного рода мы в принципе лишены очевидного ответа на вопрос: что вообще является сообщением в импрессии[21]? Границы феноменального регламентированы посредством языка, но тот не столько транслирует имманентный смысл, сколько толкует о нем в модальности возможного. Сообщение смысла возможно только когда восприятие переходит в наблюдение за опытом, за моментами изначального синтеза. Без такой смены модальности на разновидность созерцания мы не смогли бы уловить концептуального различия между фоном и объектом, то есть ту самую незримую рамку, упоминаемую ранее.
Необходимость переключения способностей высвечивает сама дуальная разработка проблемы: Мерло-Понти пишет о присутствии перед субъектом восприятия, который сам есть «возможность ситуаций», незавершенного, но целого мира [1. C. 515—518]. Как мыслить такое — быть целым и незавершенным? Обнаружение целостности — это свидетельство в пользу какого-то рода завершенности. Ситуация незавершенного синтеза восприятия не исключает образа целого, который имеется всякий раз, когда мы наблюдаем конкретную картину, пейзаж, вспоминаем о любимых местах и людях, воображаем желанное. Именно в этих ситуациях мы обращены лицом к лицу к целому нашего опыта, которое не перестает восприниматься в своей импрессиональности. Именно тогда он перестает быть просто тотальностью воспринимаемого, вместе с периферийными и фоновыми явлениями, а приобретает смысл.
Иметь мотивацию «видеть так» значит перейти вглубь этой целостности к акцентированным элементам[22]. Но в таком случае требуется переоткрытие интенции: хотя Мерло-Понти помнит о ней в отношении отдельных аспектов восприятия (зрительная глубина, тяжесть вещей), его методология будто упускает из виду, что именно мотивированная интенция позволяет перейти от воспринимаемой целостности к ее выражению. Но она не может сделать этого, не преобразовав само восприятие. Я последовательно заключаю в свое обрамленное интенциональностью поле зрения — деревья, затем дом, затем на горизонте горы. Эта последовательность вторична по сравнению с базовой картиной, когда все эти элементы были даны в синтетическом видении. Вопрос в сознательности, «данности» этого первичного восприятия решается на правах иной мотивации, принадлежащей памяти, воображению, рефлексии.
Мотивация не находится внутри автономного круга восприятия. Модальности восприятия, концентрация на тех или иных феноменах, оперирование с контекстом — все это подчинено интенциям других сознательных актов, возникающей мотивации помнить «таким образом», вычленять образы «так» и с «такой целью».
Однозначность послания — «зеленая густота», «деревенский пейзаж», «скучное зрелище» — может заключаться в наших сложившихся практиках «видеть», обращаться с вещами, и в привычках. В конце концов, в нашем исходном примере пассажир выбирает созерцательное отношение, поскольку к этому его располагает привычный опыт. Именно выбор еще одной способности конститутивно ведет к тому, что синтетическое восприятие в конечном счете приравнивается к элементам экзистенциальным, именно к этой ситуации «наблюдения из окна».
Анализирующее, наделенное дорефлексивным когито восприятие сталкивается с герменевтической проблемой однозначности выражения (воспринятого). Другая связанная проблема связана с обратной транскрипцией: как перевести более-менее сложное описание, например слова поэта, в последовательность переживаний? Проблема перевода смыкается здесь с проблемой границ феномена: как транскрибировать языковой опыт, рефлексию — обратно в соответствующие переживания, а значит и вновь совершить переход, хоть и в обратную сторону, от интеллигибельной интуиции к чувственной? Если мы не можем сделать этого, то никакая феноменология невозможна. Восприятие не пишет, не чувствует, не мыслит за нас.
Однако субъект (не подошел бы здесь лучше в качестве термина — «личиночный субъект» Делеза?) воспринимает, мыслит и пишет. Решение содержится в следующих словах: «Субъект ощущения — это …. своего рода способность, которая рождается или действует одновременно с определенной средой существования» [1. C. 272]. Он «дан сам себе только как определенный способ овладения миром» [1. C. 451]. Этот субъект ощущения есть обладающий историей, а коррелятивная способность — память. Понимание сказанного — это побуждение к новым действиям и ощущениям, но они возможны не для него как «всеобщего sensorium» или «безграничного индивида», но для того, кто вполне способен овладеть всем богатством выходов к миру (Сартр). Поэтому необходимо рассмотреть и принять во внимание вклад других способностей. Сам Мерло-Понти делает это изредка, лишь намекая на подобные горизонты рассмотрения. Стоило бы спросить: не порождаются ли новые интенции нашей памятью и желаниями? Не нуждается ли сама интенция в аналитике? Чем именно она была приведена к жизни? Дискурс о способностях необходим, когда мы хотим разъяснить происхождение интенций, не прибегая к сторонней причине («жизненный мир», «гиле» (hyle)), а исходя из нас самих, субъекта-способности.
Если покажется, что вышеприведенные вопросы являются «праздными», что сама концепция восприятия с ее упором на телесности располагает достаточными объяснениями, то желательно произвести следующий мыслительный эксперимент. Что останется от восприятия, если лишить его воздействия иных сил — не гилетических, не Жизни, но Памяти, Воображения, Желания? В конечном итоге даже понимание тела, выведенное из-под тени психологического объективизма, сосредотачивается на том, что «…тело должно, в конечном счете, стать мыслью или интенцией, которые оно для нас обозначает» [1. C. 256].
Частично опираясь на данные восприятия, с вещами как смысловыми целостностями мы знакомимся в непосредственном обращении с ними, использовании. А сам способ использования уже зависит от других способностей, а не только восприятия. Мир человеческого действия — это не мир восприятия, а последний не есть весь Мир[23]. В противном случае такой мир был бы лишен большей части интенций, событий и даже объектов (чье бытие не исчерпывается связями с восприятием).
Заключение
Подытоживая написанное выше, я мог ограничиться заключением длиной в одну фразу: мир восприятия — не существует, но возможна феноменология способностей. Чем сильнее утверждается первое, тем больше ощущается необходимость во втором. «Мир» нельзя дедуцировать из некоторого чистого опыта «восприятия», поскольку последнего просто нет. «Мир восприятия» это в такой же степени мир иных способностей, взаимозависимый с нашими интересами. Обыденного ситуация нашего опыта сознания состоит как раз в их неразличенности: без дополнительного переключения внимания, рефлексивного акта я попросту не знаю — был ли я погружен в фантазии, думал о чем-либо или просто воспринимал! Аргументы в пользу того, что некоторая распознаваемая мною вещь является объектом восприятия (и «вписывается» в его гештальты), а не памяти, это всегда аргументы-после. Иначе говоря, изнутри и посредством самой феноменологии восприятия Мир недостижим, это отдельная аксиома реализма, которая является строго дополнительной. Логичнее было бы заявить не о трансцендентности Мира, но об ограниченности самого восприятия, которое не способно овладеть своим объектом полностью[24]. Это несовершенство указывает не на недостижимый и в то же время слишком близкий Мир, но на мечту о совершенном состоянии знания, знания о всех возможных состояниях объекта[25].
Более того, как было показано в статье, само «послание» восприятия, которое оно стремится донести в лучшем случае является двойственным. Смыслонаделяющее восприятие (как я назвал его, следуя за цитатами из Мерло-Понти и его мыслью) — это проблема, для решения которой нет универсальной отмычки типа перцептивной веры[26]. Принять такую веру в отношении мира или отдельно взятой вещи значит уже располагать некоторым ее смыслом (как у Шпета — «внутренним смыслом вещи»), который представлял бы в дескрипции объект этой веры. Однако мы нашли исходный синтез восприятия имеющим дело с разнородным и множественным, проинтерпретировав идентичность вещи с позиции согласованности взаимодействия системы тело-мир. Осмысление этого взаимодействия (динамического хиазма) и его логический предел (собственно некоторый конечный смысл) есть, согласно нашей гипотезе, результат постоянного вмешательства других способностей. Они проверяют, утверждают или опровергают возможный набросок того, что мы видим/слышим/чуем. Морли дает наиболее показательный пример с пятнами Роршаха для утверждения дуальной переплетенности восприятия и воображения в истолковании отдельно взятого феномена [17. P. 98]. Однако нужно расставить акценты: то, что различимо в этих пятнах это не есть утверждение восприятия (которое высказывается в присущей ему модальности «как если бы» или «наверное я вижу это»[27]), но других способностей, например воображения или желания, которое выражает субъективность в истолковании «всего лишь пятна». Тем самым должен быть расширен сам дискурс, обязательным условием которого должна стать взаимосоотнесенность и напряжение способностей.
1 Существующая литература по концепции восприятия у Мерло-Понти не уделяет должного внимания некоторой общей модели взаимодействия способностей. Обычно они рассматриваются по отдельности и в лучшем случае анализируются в парной комбинации. Наиболее популярной для изучения является связь между восприятием и воображением. Эта работа предполагает синтетическую перспективу: прояснить сущность восприятия — значит выяснить смысл глагола «воспринимать» по отношению к другим глаголам, таким как «помнить», «воображать», «желать» (и другим) как взятым вместе, так и по отдельности. Автор надеется, что разбираемый в работе пример является достаточно убедительным для утверждения такой перспективы для феноменологического и философского в целом поиска.
2 Это действительно ключевой момент в понимании редукции у Мерло-Понти, как отмечает Е.А. Шестова [2]. В качестве общего места разворот от редукции к дескрипции в развитии французской феноменологии в целом выделяет Ямпольская [3. C. 30, 108–128].
3 Некоторые авторы отводят решающую роль в выделении такой бинарной диспозиции для понимания мысли Мерло-Понти. Например, способ «растолкования» текста Феноменологии, используемый Маршаллом [4], предполагает постоянное выделение в нем позиций интеллектуализма и эмпиризма. Его работа показывает фундаментальную значимость балансирования между двумя позициями для Мерло-Понти, пытавшегося найти и оставить лучшее из них для собственной модели.
4 Ни последняя глава «Феноменологии Духа», ни предисловие «Системы Идеализма Шеллинга» не оставляют в этом сомнений. Разумеется, сам принцип звучит по-разному для философов, когда речь заходит о его реализации: как стремление «понять субстанцию как субъект» или же как необходимость интеллектуального созерцания «тождества субъективного и объективного».
5 Из некоторых мест текста мы можем понять, что под объектом восприятия понимается не только и не столько физическая вещь. «Государство» и «религия» не в меньшей степени являются такими объектами, чем «вещи» или «эмоции» [1. C. 50]. Последствия этого решения значительны и ведут к серьезным следствиям, далее рассматриваемым в статье.
6 Этому явно противостоит Аллен, утверждающая, что в «Феноменологии Восприятия» развивается модель трансцендентального наивного реализма (при этом не лишенная идеалистических прибавлений!) [5. P. 20–21]. Прийти к такому выводу ему позволяет удержание примата мира и сохранение трансцендентального статуса вещей самим Мерло-Понти. При этом Аллен также приводит признание самим Мерло-Понти наличия в «Феноменологии Восприятия» дуализма («сознание-объект»), ведущего к неразрешимому выбору между идеализмом и реализмом. Мой тезис заключается в том, что уже в «Феноменологии Восприятия» подготовлены все условия для снятия этого дуализма и перехода к анализу вещи-как-процесса (восприятия).
7 Более нейтральное замечание о необходимости контекста, ландшафта дополняется сильной деконструкцией картезианских представлений о пространстве. Мерло-Понти также меняет трактовку пространства, придавая ему множество смыслов, влияющих на определение вещи. Существование пространственно, а само пространство – и экзистенциально, и ментально [1. C. 378]. Мифологические и психологические пространства (сон, безумие) неоднородны друг другу, а, следовательно, смысловое единство вещи, соблюдаемое в одном из них, может отсутствовать в другом.
8 В поддержку этого тезиса можно привести и более поздние, проблематические пассажи. Вешь следует понимать как некоторую силу, развертывающую свои следствия при благоприятном стечении обстоятельств; поиски тождественности вне реального опыта со-общения с нею – вовлечение в «мышление опыта на основе ничто». Интонация Мерло-Понти в данном месте является критической [6. C. 236–237].
9 Мерло-Понти пишет о «включение моего взгляда в объект» [1. C. 340]. Это прямое свидетельство напряженной работы способностей, создающих новые измерения в вещах. Мерло-Понти иногда называет этот процесс – одушевлением вещей.
10 Теоретическую поддержку (или зеркальное отражение?) это положение находит в теории времени, излагаемой Мерло-Понти. Ускользая от того, чтобы быть «полностью конституированным», время восприятия тем не менее устанавливается «мгновенно», в виде альянса «настоящего» и «грядущего-прошлого» [1. C. 525, 532]; оно должно и протекать, и иметь дискретную точку отсчета в субъективности.
11 Более позднее и здесь только предвосхищаемое понятие хиазма будет призвано определить условия существования этой двухчастной структуры: нераздельность двоицы (субъект и объект, тело и мир) при сохранении дистанции, наличие круговой обратной связи [6]. Понятие «плоти» будет служить той же цели: указать на необходимое родство между телом и вещами. Тело вещественно в той же мере, в какой вещь отелеснена, обладает плотью. Вещь будет описана как «точка пересечения всех свойств», как множество, данное только совокупно [6. С. 236]. Исходя из нашего анализа и прочтения «Феноменологии Восприятия», можно отметить, что при отсутствии нужных терминов, вся описываемая ими структура и онтология уже присутствуют в развертывании разных частей более ранней работы.
12 Способности представляют собой динамические капилляры, связывающие тело и мир. В качестве примера здесь хорошо подходит «Феноменология Духа», где способности обозначены как middle term (die Mitte), своего рода посредники, чье вмешательство обуславливает как форму сознания, так и его объект [7. P. 81]. Желать, воспринимать, производить суждения — значит производить этот контакт между сознанием и бытием, но совершенно различным образом. Наиболее важен для нас акцент на творческой и конструктивной функциях способностей (что роднит их с символическими формами Кассирера). Я намеренно не воспроизвожу какого-либо списка способностей, считая эту задачу чрезмерно амбициозной для статьи. Мерло-Понти сам употребляет «способность» в достаточно широком диапазоне, ориентируясь, правда, на классические примеры — воображение, желание, воля [1. C. 237, 256].
13 Еще раз: хотя синтез незавершен, он все же утверждает себя, он имеет логический предел в некотором акте, событии восприятия, сосредоточен в комплексном феномене и т.д.
14 Здесь мы имеем в виду под созерцанием – направленное восприятие, ограниченное намеренно удерживаемой зоной внимания. Созерцание в смысле Гуссерля имеет больше коннотаций с мышлением, усмотрением сущностного в феномене, то есть сразу со сложной процедурой различения смысла. Созерцание таким образом берется здесь как момент нацеленного восприятия до возведения к смыслу и сущности, когда интенция воспринимать нечто конкретное сложилась до акта выражения этой конкретности. Выделять такое созерцание весьма полезно для прояснения мира восприятия (в концепции Мерло-Понти), в котором смысл существует до рефлексии.
15 Первая часть эссе Анри целиком посвящена этому движению [8].
16 Этот подход получил свое полноценное развитие и поддержку в энактивизме. Очевидно, энактивисты могли найти источник своего вдохновения в некоторых положениях «Феноменологии Восприятия». В то же самое время Чапек предостерегает от прагматистского прочтения Мерло-Понти, поскольку данность мира (и «вовлеченность в него») в восприятии не является производной от нашей практической деятельности [10].
17«Что я воспринимаю?» – ответ на этот вопрос мы получаем не только от комплекса тело-мир, но и от нашего языка (в его прагматическом аспекте). Этот реверанс в сторону имплицитной для феноменологии герменевтики был совершен еще Шпетом [11].
18 Из более современных авторов на это указывает Айди, исследующий мультистабильность восприятия [12].
19 Даже мысль «Видимого и невидимого» в принципе остается внутри отношения Восприятие-Язык, а язык (вместе со всей «тотальностью смысла») остается «голосом вещей»
[6. C. 225–226].
20 Мерло-Понти в позднем творчестве сам обнаруживает эту связь и «переоткрывает» организующую роль воображения. К примеру, в «Оке и духе» его замечания насчет «воображаемой текстуры реального» и «диаграммы жизни действительного в моем теле» подчеркивают структурную, посредническую роль воображения для процессов восприятия [13. C. 17–18].
21 См. Анри о необходимости «одушевлении интенциональной ноэзой» для схватывания смысла материальной импрессии [8. C. 18].
22 Первая глава «Знаков» вплотную подводит к изучению мотивированности нашего взгляда. Когда Мерло-Понти пишет о стиле, присущем художнику, он размечает то творческое силовое поле, образуемое нашими способностями. Однако непосредственный шаг к ним, как к подлинным мотиваторам нашего видения он не делает. «Глубина синего цвета» остается загадкой индивидуального стиля восприятия, но не манящим образом или воспоминанием, которые и мотивируют художника снова и снова выражать этот цвет в морской волне или небе (пример мой, связанный отрывок – [14. C. 63]).
23 Озаглавливая цикл своих лекций как «Мир Восприятия», Мерло-Понти не сомневается в наличии такого мира, напротив, идея его постоянного осуществления есть отправная аксиома для многих построений мыслителя [15].
24 Говоря о двойственности, переплетенности воображения и восприятия, Мерло-Понти схватывает именно ограниченность подхода к постоянной эмансипации восприятия, отстаивания его функциональной полноты перед другими способностями (например, как тут с памятью: [1. C. 48, 188]). Когда Перцева цитирует Дюфурк относительно воображаемого как «онтологической модели», необходимости перехода «от восприятия к воображению и обратно» для адекватного описания этих установок (цит. по [16. C. 118]), отчетливо чувствуется нехватка следующего шага, раскрытия конструктивной роли воображения. В чем именно она заключается? Каков баланс между двумя установками? Может ли быть так, что одна из них становится ведущей, пока другая осуществляет свою теневую работу, как в случае, когда определенный созерцаемый ландшафт навевает мысли о прошлом? Без подробной разработки теории взаимодействия остается простор для впадения в одну из крайностей: мир восприятия или мир как представление.
25 Намек на ключевую здесь функцию фантазии слишком очевиден.
26 Концепт «перцептивная вера» – сложный, составленный из нескольких допущений. В частности, иметь такую веру значит четко улавливать различие между воображаемым и воспринятым (о важности этого смотри: [17. P. 97]) Откуда происходит это различие, если речь идет о просто вере? Почему эта вера сущностно является хрупкой и пластичной? Приписывая этой вере недосказанность (за всяким ее положением относительно «что» феномена следует «возможно»), Мерло-Понти превращает ее в неуверенность!
27 И тогда мультистабильность выступает как базовая черта восприятия, которую перцептивная вера должна сгладить, привести к минимуму.
Об авторах
Борис Сергеевич Соложенкин
Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет)
Автор, ответственный за переписку.
Email: gerzhogzdes@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-1125-1342
кандидат философских наук, доцент, кафедра гуманитарных наук
Российская Федерация, 119991, Москва, ул. Трубецкая, д. 8, стр. 2Список литературы
- Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. М. : Ювента, Наука, 1999.
- Шестова Е.А. Язык и метод феноменологии: О. Финк и рецепция его идей: М. Мерло-Понти, Ж. Деррида: дис.. канд. философ. наук. М., 2017.
- Ямпольская А.В. Феноменология в Германии и Франции: проблемы метода. М. : Российский государственный гуманитарный университет, 2013.
- Marshall G. A guide to Merleau-Ponty`s Phenomenology of perception. Milwaukee : Marquette University Press, 2008.
- Allen K. Merleau-Ponty and Naïve Realism. Philosophers’ Imprint. 2019. № 19.
- Мерло-Понти М. Видимое и невидимое. Минск : Логвинов, 2006.
- Heidegger M. Hegel’s Phenomenology of Spirit. Bloomington: Indiana University Press, 1988.
- Анри М. Материальная феноменология. М. : Центр гуманитарных инициатив, 2016.
- Вдовина И. М. Мерло-Понти: от первичного восприятия - к миру культуры // М. Мерло-Понти. Феноменология восприятия. М. : Ювента, Наука, 1999. С. 582-596.
- Čapek J. Perceptual Faith beyond Practical Involvement: Merleau-Ponty and His Pragmatist Readers // Pragmatic Perspectives in Phenomenology. New-York and London : Routledge, 2017.
- Шпет Г. Явление и смысл. феноменология как основная наука и ее проблемы. Томск : Водолей, 1996.
- Ihde D. Expanding Hermeneutics: Visualism in Science. Evanston : Northwestern University Press, 1998.
- Мерло-Понти М. Око и дух. М. : Искусство, 1992.
- Мерло-Понти М. Знаки. М. : Искусство, 2001.
- Merleau-Ponty M. The World of Perception. New York : Routledge, 2004.
- Перцева А.А. Образ Другого в ранней теории воображения М. Мерло-Понти // Философский журнал. 2017. Т. 10. № 1. С. 116-135. https://doi.org/10.21146/2072-0726-2017-10-1-116-135
- Morley J. The texture of the real: Merleau-Ponty on imagination and psychopathology // Imagination and its pathologies. Cambridge : MIT Press, 2003.
Дополнительные файлы