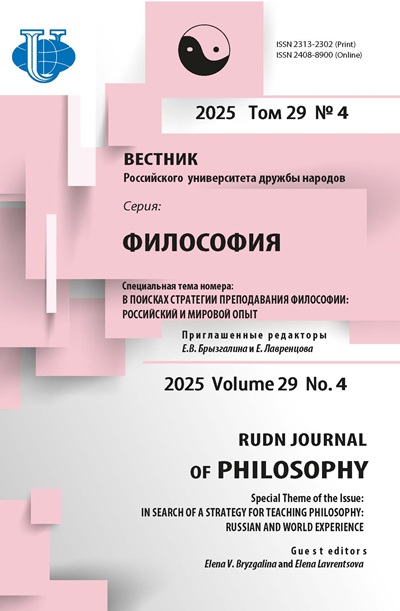Плененность и открытость как онтологические интуиции в творчестве А. Бергсона
- Авторы: Литвинов М.Ф.1
-
Учреждения:
- Воронежский государственный университет
- Выпуск: Том 27, № 2 (2023): МУСУЛЬМАНСКАЯ ФИЛОСОФИЯ: ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ
- Страницы: 332-344
- Раздел: ПРОБЛЕМЫ ОНТОЛОГИИ
- URL: https://journals.rudn.ru/philosophy/article/view/35001
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-2302-2023-27-2-332-344
- EDN: https://elibrary.ru/IQHFIU
- ID: 35001
Цитировать
Полный текст
Аннотация
В статье рассматривается проблема свободы с точки зрения недиалектического соотношения плененности бытием и открытости бытию. Такая перспектива проясняет не только основную мысль Бергсона, но и последующую некорректность сдвига внимания к полюсу открытости в герменевтическом истолковании фактичности, осуществленном Хайдеггером. Работа условно поделена на две части. В первой ставится вопрос о специфике метода, применяемого Бергсоном. Подчеркивается близость ориентации Берсгона на здравый смысл феноменологическому исследованию, при всем различии данных подходов. Дается общий разбор бергсоновских концептов, применяемых в «Эссе о непосредственных данных» и «Материи и памяти» с целью удовлетворительной постановки вопроса о свободе человека, действующего исходя из конкретных практических условий своего существования. В приспособленности интеллигибельного к прозе жизни Бергсон прочерчивает дороги свободы, учреждая незыблемыми границы плана имманентного. Во второй части анализируются эстетические следствия бергсоновской концепции восприятия и памяти, открывающей доступ к нисходящим потокам в обработке сенсорных данных. Теория длительности и тот акцент, который она ставит на ретроспекции в прояснении того, что сопровождает акт восприятия, аргументирует связь творчества с процессом актуализации виртуального. Со ссылкой на Делеза критикуется иррациональная попытка утвердить начало творчества как в небытии, так и в реализации возможного путем его ограничения. Таким образом, обращение к бергсоновским онтологическим интуициям позволяет уйти и от эстетики истока, и от логики подручного сущего в качестве первично встречаемого в мире. В заключении рассматривается полемика Бергсона с Эйнштейном, в разрешении которой логика дифференциации представляется предпочтительней логики диалектического снятия.
Ключевые слова
Полный текст
Введение
Плененность и открытость — фундаментальные онтологические интуиции, отталкиваясь от которых, Анри Бергсон создает основу для своей версии философии жизни. Начиная с «Опыта о непосредственных данных» эти две составляющие одной и той же темы приобретают в последующем его творчестве все более объемное и цельное звучание, буквально аккомпанируя самой жизни, подвергающей себя тщательному и осторожному философскому вопрошанию. Составляя фундамент проблемы осмысления жизни, они не разрешаются друг в друга. Пленненность бытием у Бергсона не отменяет открытости и не возвышается до нее. Открытость бытию не отменяет плененности и не восходит к ней как к своему скрытому глубинному основанию. Это обстоятельство определяет меру апорийности мысли о жизни, трансцендирующей свои собственные границы, но при этом остающейся самой собой. Включенность индивида в этот гетерогенный жизненный поток сообщает восприятию, плененному своей гилетичностью, новизну.
Плененность и открытость — онтологические условия дискурса о свободе
Камнем преткновения для вопрошания о свободе действующего индивида является расхожее мнение, подкрепленное успехами естествознания, согласно которому наши представления порождены мозгом. Примечателен тот факт, что Бергсон отвергает эту детерминистскую позицию не потому только, что является апологетом свободы: будучи заложником истины, как ярчайший представитель своего времени он поверяет это предубеждение здравым смыслом и находит его несостоятельным, метафизически избыточным и тупиковым. Церебральная активность, как она описывается в «Материи и памяти», застревает в середине мира. Она однозначно трактуется как движение. Поскольку мозг, как часть материального мира, не имеет ничего общего с процессом порождения представлений, данная функция у Бергсона закрепляется за памятью. Трансцендентальное основание реальности переносится из сферы пространственной гомогенности, способствующей вычленению и рядоположению доступных чувственному схватыванию вещей, вкупе с дедуцированными из них априорными формами, в сферу гетерогенной континуальности, длительности. Однако такое разделение вовсе не отменяет необходимости методологического воссоздания той интегральности бытия, в которой живой индивид с его способностями к восприятию и воспоминанию обнаруживает, по меткому выражению Янкелевича, ученика Бергсона, дуализм тенденций1, а не субстанций. В итоге такого дифференцирования и закрепления представления вместе с воспоминанием за памятью, а не за мозгом, высвобождаемая человеческая реальность начинает утверждать свой виртуальный центр, столь же необходимый и для понятия материи, вне одной только психической сферы, встраиваясь в космический временной поток. Но память не дает забыть и о теле, вне которого удержать и воскресить пережитый опыт, а значит — воспринять что-либо было бы невозможно.
Разоблачая детерминистский предрассудок, Бергсон предлагает помыслить тело-дух как интегральную реальность, сцепляющую восприятие с воспоминанием без того, чтобы редуцировать одно к другому, без того, чтобы выбирать между материализмом и идеализмом. Так, согласно Бергсону, материализм, задаваясь вопросом о физическом носителе представлений и воспоминаний, сам загоняет себя в ловушку понятия однородного, недлящегося и складируемого времени, которое очевидно противоречиво. Идеализм несостоятелен по той же самой причине опространствования времени: идеальное идеализма может быть лишь застывшим, вневременным, и даже диалектика не может ничего с этим поделать. В «Опыте о непосредственных данных сознания» Бергсон рассматривает разграничение механистического и метафизического детерминизма, читай материализма и идеализма, как условное, подчеркивая, что «всеобщность принципа сохранения энергии может быть принята только на основании психологической гипотезы» [2. С. 114], окрашивающей все в идеалистические тона. Пересмотр же механистического принципа обратимости времени ведет Бергсона к постановке вопроса о свободе воли. «…материальная точка, как ее понимает механика, вечно пребывает в настоящем, но для живых тел — вероятно, а для сознательных существ — несомненно, — прошлое является реальностью. Прошедшее время ничего не прибавляет и не убавляет в системе сохранения энергии, но для живого существа и тем более существа, одаренного сознанием это, безусловно, приобретение. Нельзя ли при этих условиях поддержать гипотезу сознательной силы или свободной воли, которая будучи подчинена действию времени, накопляя в себе длительность, ускользает тем самым от власти закона сохранения энергии?» [2. С. 117]. Все предрассудки субстанциализма, навязывающего физико-психологический детерминизм в качестве единственно верной системы, Бергсон отбрасывает в сторону, выбирая точку зрения здравого смысла, трактуя прошлое как присутствующее в настоящем, слитое с ним в нерасторжимое целое. Прошлое, будучи сохраняющимся, а вовсе не бесцельно накапливаемым, повторяясь, способствует разъятию круга одного и того же, сплавляя доступные расщепляющему взгляду моменты нашего существования в единство решительно действующей личности, возвышающейся над принуждающим действием ассоциации. «В самом деле, свободное решение исходит от всей души в ее целостности» [2. С. 123]. Такова общая канва мысли об открытости и свободе, предоставленной действующему индивиду. Однако, что за метод стоит за таким способом рассуждения?
Метод Бергсона можно было бы с полным правом назвать феноменологическим, ибо, демонстрируя недостаточность чисто феноменалистского подхода — здравый смысл подсказывает, что мир не ограничен сферой наших переживаний, — он требует применения математического инструментария в философском исследовании непосредственно данного сознанию. Этим определяется тот методологический ход, которым пользуется Бергсон в «Материи и памяти», начиная с полагания экстремумов чистого восприятия и чистого воспоминания, невозможных в действительности структур психической жизни. И только после уяснения различий по природе между материей и памятью, Бергсон переходит к стягиванию нитей исходного абстрактного гипотезирования, двигаясь мыслью от привилегированного положения математической точки, выдаваемой поначалу за воспринимающее тело, к действующему в своих интересах живому индивиду, умеющему как не потеряться в бесплотном фантазировании, так и не замкнуться в вечно возобновляемом настоящем простого реагирования. Первой очевидностью, что открывается такому феноменологическому прояснению, оказывается образ в качестве тела.
Образ — одно из ключевых понятий в философском словаре Бергсона. Расположив данное сознанию содержание между экстремумами чистого восприятия и чистого воспоминания, здравый смысл, наделенный онтологической интуицией, выводит мысль к образу, как чему-то меньшему, нежели грубая вещественность (наличное бытие), заведомо предполагаемой материи в реализме, но большему, нежели прихотливое представление, должное породить из себя протяженность в спиритуализме. Образ тем самым, даже будучи отграниченным от других тел, являет собой истину длительности, поскольку материальность движения в понятии образа выхватывается2 длящимся актом восприятия. И если в актуально проживаемом восприятии воскрешается предшествующий опыт, отпечатанный в определенной сенсомоторной активности действующего индивида, это вовсе не значит, что материальное тело растворяется в субъективном акте и теряет свою автономию и экстериорность. Ведь само восприятие, согласно Бергсону, также есть образ, не нуждающийся в посредствующих звеньях и представителях3: «… я называю материей совокупность образов, а восприятием материи те же самые образы в их отношении к возможному действию одного определенного образа, моего тела» [4. С. 169]. Образ дан, но в то же самое время образован, хотя произвольность субъективного полагания в этом образовании без труда поддается вычитанию. Дело в том, что пространственность интерпретации всего сущего есть закономерный итог успешного приспособления к среде. Учитывая данное обстоятельство, Бергсон выходит к точке выше того поворота, за которым опыт становится человеческим. Обращение к чистому восприятию, передающему движение и являющемуся движением, призвано это показать4. Вычленение экстремумов служит этой цели, выявляя различие между материей и памятью по природе, а не по степени, демонстрируя невозможность сугубо количественного различения воспоминаний и восприятий, которое, с одной стороны, ведет по ложному пути поиска аналога физического хранилища для воспоминаний, а с другой, — воспринятое превращает в нечто призрачное и сомнительное.
Образ — это переменная, свободно пробегающая по образуемому чистым восприятием и чистым воспоминанием ряду, связывая два экстремума. Сами же восприятие и воспоминание посредством образа обнаруживают логику дифференциации, заявляя об открытости и плененности индивида, с одной стороны, являющегося образом, с другой, — оперирующего образами. Если здесь и возможен разговор о диалектике, то только в отношении крайних позиций, занять которые индивиду невозможно по причине их предельной чистоты. Так, в точке чистого восприятия открытость окружающему миру, несомая пространственностью положения, есть также и плененность этим положением, встраивающим все во все, пронизывающим все неделимым движением. В точке чистого воспоминания скованность грузом прошлого есть открытость новому, благодаря памяти освобождающая от необходимости мгновенного реагирования5. Однако в самой непрерывности ряда, заданного экстремумами, в континуальности, предоставляющей возможность переходить с одного уровня памяти на другой, поднимаясь от сжатой в острие перевернутого конуса абстракции схемы к разреженной атмосфере сингулярного события, диалектика бессильна. Диалектическое движение мысли именно движением и не является, симулируя данную для себя невозможность скачком от одной стадии к другой. И если по отношению к предельным точкам такой ход мысли еще вполне допустим, ибо в них движение остановлено, открытость обращена плененностью, а плененность — открытостью, и на этом все закончено без того, чтобы начаться, то уже по отношению к плану имманентного, первой определенностью которого является движение, уместнее говорить о различении двух значимых для нашего анализа аспектов бергсоновской философии. В любой точке ряда, сталкивающего в образе две различающиеся природы, открытость не отрицает плененности, полностью ее замещая, но несет уязвимость, делая индивида заложником своего явления. В тоже время плененность прожитым встраивает в причинно-следственный ряд обуславливающих друг друга явлений свободную причинность, фундированную способностью действовать в согласии с произвольной памятью. Тем самым дуализм бытия и ничто в бергсоновской мысли выведен из игры и возмещен монизмом различающегося бытия6. Различные уровни различения того, что в композите, с одной стороны, различается по природе, а по степени, — с другой, выставляют диалектику бесполезной в прояснении действительной связи между пленненностью и открытостью, всегда уже заключивших живого индивида в свои объятия.
Монизм различения есть результат последовательного избавления от несуществующих или плохо сформулированных проблем, постулирующих небытие как предваряющее то, что есть, и в этом смысле, превосходящее бытие. Подчеркнуто позитивистская позиция Бергсона водворяет мысль в сферу виртуального. Поскольку небытия нет, поясняет этот момент бергсонизма Делез, последовательный переход от одного способа существования к другому осуществляется благодаря наличию в виртуальном множества связанных с конкретным сущим определенных опций, в разной мере готовых к актуализации. Виртуальное в данном случае становится не только решением проблемы негативного, но и прекрасной демонстрацией того, как бессилие (бессознательное) связано со свободой. Для прояснения этого момента еще раз вернемся к бергсоновскому пониманию образа.
Образ, как уже было сказано, есть не только данность, но и своего рода конструкция, прочерчивающая линию данного прямиком в затемненную область интегрального бытия. Темнота для действующего индивида равнозначна бессилию, раздвоенному различающимися, но сходящимися протяженностью и длительностью. Живое и сознающее существо, прошлым которого невозможно пренебречь в слепом следовании механистическому принципу сохранения энергии, предстает в «Материи и памяти» под видом «центра индетерминации», окутывающего мраком все то, что напрямую индивида как бы и не затрагивает. Согласно Бергсону, сознание затемняет, перераспределяя, замедляя, купируя множество движений, пронизывающих воспринимающего индивида, давая ход тем из них, что непосредственно связаны с выживанием, направляя их от периферии к центру и обратно, используя для этого афферентные и эфферентные нервы соответственно. Если бы мы пребывали в плену абстракции чистого восприятия, не различая протяженности и длительности, количества и качества, такое событие затемнения необходимо было бы признать «одномоментным», уже случившимся, но никак не длящимся. Таковым событие все же быть не может по причине как присущей ему временности в частности, так и примата временности в истолковании действительности вообще. Следовательно, индетерминация, предполагающая живое и сознательное существо, означает не только перераспределение движения, раз и навсегда заданное инстинктом, или любой другой программой, но и возможность, обретаемую вместе с прошлым, свободно пробегать по ряду, образуемому экстремумами чистого движения и чистой грезы, беспрепятственно, в согласии с природой восходить по уровням памяти все выше и выше, вплоть до доступного предела сингулярности того или иного воспоминания, вплоть до космического уровня длительности. С этим связано одно важное обстоятельство: бессилие, охотно допускаемое в отношении пространственного истолкования сущего — воспринятое не очерчивает действительных границ мира, но всей своей определенностью указывает в сторону неданного и несомненного целого, — немыслимо вне допущения того же самого бессилия, но представленного уже временностью. Учитывая качественное различие между восприятием и воспоминанием, материей и памятью, телом и духом, это поддерживаемое темпоральностью бессознательное Бергсон обозначает сферой виртуального, которое в отличие от возможного, обладая всеми признаками реального бытия наряду с актуальным, различается с последним. Реальность виртуального добавляет монизму, трактуемому традиционно субстанциалистски, гибкости, вариативности, гетерогенности, предохраняя мысль от ненужных метафизических скачков в трансцендентное. Делез, анализируя логику осуществления возможности, заряженной небытием, замечает по этому поводу: «Виртуальное, напротив, может быть не реализовано, а скорее актуализировано; и правила актуализации — вовсе не правила сходства и ограничения, это правила различия или расхождения, правила творчества. […] Ибо, чтобы актуализироваться, виртуальное не может развиваться путем элиминации или ограничения, но оно должно творить собственные линии актуализации в позитивных актах. Причина этого проста: в то время как реальное существует по образу и подобию реализуемого им возможного, актуальное, со своей стороны, вовсе не похоже на воплощаемую им виртуальность» [6. С. 307]. Так, актуальное, служащее непреложным началом этого и других философских изысканий, приводит к различающемуся с ним виртуальному, вынужденному прокладывать себе путь к haec est.
Эстетика следа против эстетики истока
Прошлое, встраивая всякое сингулярное бытие в единый поток длительности, действует на манер «следа», окаймленного темнотой, из которой проступает то, что в следе заявлено без представленности. Прошлое есть бытие, онтологичность которого заключается в том, что оно никогда не было представлено в качестве прошедшего настоящего. Делез, разъясняя этот момент, ссылается на Пруста [7], показывающего с самых первых страниц своих «Поисков», что инициация возобновления и повтора задает перспективу свершения нового. Обретение времени по Прусту заключается именно в этом движении пробуждения, возвращения к своей собственной личности после долгого и крепкого сна, оставляющего проторенные знакомые дорожки к себе недоступными, отмененными, отжившими свое. Бергсон если и не определяет такого рода литературное письмо, то уж точно методологически его проясняет своей философией ретроспекции. Требованием проверять на истинность сами проблемы, а не только способы их разрешения, обнаружением того, что привычные подходы ведут мысль в метафизические тупики, Бергсон открывает и обосновывает онтологическую значимость нисходящих путей обработки данных. Тем самым метафизике истока наносится сокрушительный удар. Досадное же укоренение интуиции истока в феноменолого-экзистенциальной философии можно расценивать как еще один довод в пользу того, чтобы перестать называть интуитивизм Бергсона иррационализмом.
Феноменологическая трактовка восприятия, этого основополагающего обосновывающего акта, что продолжает превалировать в гуссерлианском требовании очевидности, еще настаивает на возможности выйти к незамутненному чистому опыту благодаря серии редукций. Но такого рода возобновляемый эмпириокритицизм, хоть и призывает обратить внимание на искажения, наслаивающиеся с течением времени на воспринятое, все же, по существу, влечет за собой, по крайней мере в тенденции, игнорирование длительности самого акта восприятия. Временность обработки данных и одномоментность схватывания, членящего временной поток на множество существующих отдельно друг от друга мгновений реальности, связываемых сигнификативной интенцией, возвращают к гомогенизированному представлению о времени. В такой трактовке нет следа присутствия длительности в самом акте восприятия. Хайдеггерианское противопоставление наличного сущего подручному сущему следует в этом же фарватере.
Внешним образом дело обстоит так, как если бы Хайдеггер мыслил в согласии с философией жизни: равноисходность бытия и времени, критика методологизма неокантианской программы тому подтверждения. «Всматривающееся обсуждающее-свидетельствующее определение» ученым того или иного сущего, усмотрение, к тому подталкивающее, действительно вторичны, согласно феноменологическому подходу7. Попытка выставить в качестве первичной данности аморфное наличное сущее, с которым как раз имеет дело чистая деятельность определяющего мышления, разоблачается как абстракция и Бергсоном. Но подталкивает ли это обстоятельство к необходимости искать первично данное на стороне подручного сущего, не облаченного в форму, но исходно заявляющего о себе в качестве хорошо ложащейся в руку естественной формы? Конечно, и Бергсон следует за определенностью образа непосредственно данного. Но она трактуется Бергсоном исходя из присущей ей гибкости и вместе с положением о примате временного истолкования действительности, схватываемой в длящемся восприятии, вместе с положением о перевернутом конусе, демонстрирующим подвижность границ определенности данного, это следование отнюдь не предполагает для образа столь жестких рамок, каковые несет подручность, и не изымает окончательно вырезанное рассудком представление из стихии длительности, в которой представленное подлежит переплавке. Что же касается подручного сущего, то его принятие в качестве первично данного замыкает мысль на интуиции, исходно присущей гению древнегреческого языка, в свете бытийной открытости усмотревшего когда-то мирность мира. Все что требуется в этом случае — это герменевтически следовать к истоку, сматывая катушку времени в стремлении достичь эпохального события [открытия мира/забвения бытия], однако, ускользающего от длительности в своем мгновенно-очном свершении. Философия ретроспекции не так наивна. Если для нее и уместно использование термина «исток», то только в смысле условного начала рассуждения, способного обнаружить для сознательного внимания множество секретов8, а то и помочь осознать включенность потока своей психической жизни в предельный космический поток длительности как таковой.
Бергсонизм — это не методологизм постулирования наличного сущего, ибо метод Бергсона следует за жизнью, а не за абстракцией. Но это и не обманутость истоком подручного сущего. Время в бергсонизме — это не то, чем можно располагать, или то, в чем можно расположиться, но то, что следует обретать, вспарывая в точке настоящего реальность, тем самым, проваливаясь в толщею прошлого, бытия: жало-плоть — жало в плоть.
Вместо заключения
В заключение этой небольшой аналитики плененности бытием, отношение с которым несет открытость миру, обратимся к провокационной полемике, состоявшейся между Бергсоном и Эйнштейном, затронувшей тему границ применимости научного метода. Оставим в стороне вопрос о том, кто безусловно прав, и возьмем за образец в разборе этого спора кантианский способ разрешения динамических антиномий. Не впадая в излишнюю конкретику, сошлемся на принципиальное и обоснованное требование различать виртуальное и актуальное бытие, предъявляемое Бергсоном к мысли о действительной жизни. Разграничение двух областей одной и той же реальности, материи и действующего бессознательно духа, позволяет говорить о двух различающихся способах отнестись к бытию. Для одного характерно опространствование времени, следование детерминистской установке, стремление абстрактное положить в основание реальности. Такова в общем и целом позиция ученого. Другому способу характерно внимание к временной определенности сущего, понимание действенности свободы, невозможное намерение выразить в языке интуицию конкретного сингулярного бытия. Такова, согласно Бергсону, позиция философа. «Уловка ученого релятивиста заключается в том, чтобы не располагаться ни в какой системе отсчета и рассматривать реальность и виртуальность в одной и той же плоскости. В этом нет ничего плохого, если данная процедура позволяет ему достовернее осуществлять измерения и точнее определять положения. Но философ, который не может оставить в стороне различия между реальностью и виртуальностью, располагается в средоточии всех одновременных друг другу систем, и ни в одной из них время не растягивается. В действительном времени, в темпоральности жизни и сознания, два последовательных факта не смогут стать одновременными, так же как два одновременных факта не смогут стать последовательными. Ничто не длится ни быстрее, ни медленнее, потому что ни большее, ни меньшее не входят в длительность, поскольку она не может быть исчислимой и не может измеряться» [1. P. 37]. Еще раз подчеркнем, эти позиции ученого и философа не являются взаимоисключающими или диалектически переходящими друг в друга. Детерминизм первой нисколько не препятствует абстрактному извлечению наблюдателя S из соответствующего ему временного потока и навязыванию ему определенных пространственно- временных координат, представляющих систему отсчета R, исходя из сопоставления его с абстрактно же извлеченным из соответствующего потока наблюдателем S', получающим, таким образом, пространственно-временные координаты системы R'. Провозглашаемая сциентистским мышлением необходимость не препятствует открытости для осуществления такого рода мыслительной процедуры. В то же время, обнаружение себя свободно присутствующим во всех системах единого космического потока длительности не избавляет философский разум от ангажированности, плененности бытием. Монизм различающегося бытия, в качестве онтологической структуры подкрепленный интуициями плененности и открытости, освобождает от соблазна мыслить отношение науки и философии с помощью диалектики, а также в терминах концепции двойственной истины. Таким образом о себе заявляет принцип различения уровней различий по природе и по степени единого и гетерогенного бытия.
1 «Длительность и материя являются двумя тенденциями одного и того же движения, это два направления одного же порыва. Слово «длительность», по всей видимости, имеет два смысла — широкий и строгий. Материя — это предельный случай длительности в широком смысле. Длительность в строгом смысле — это другой предельный случай длительности в широком смысле» [1. P. 100].
2 Хотя вернее было бы сказать — возвращена длительности.
3 Стоит отметить поразительное единогласие в этом вопросе между Бергсоном и Гуссерлем. Несмотря на минимальные различия в терминологии, касающиеся понимания образа, их мнения о восприятии, дающем из первоисточника, идентичны. В подтверждение приведем пассаж из произведения «Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии»: «Отражение как реальный момент психологически-реального восприятия было бы в свою очередь чем-то реальным — таким реальным, которое лишь функционировало бы, как образ, взамен другого. Однако оно могло бы функционировать так лишь при условии, что существовало бы сознание отражения: в нем нечто сначала являлось бы — тут мы имели бы первую интенциональность, — а затем функционировало бы по мере сознания как «образ-объект» взамен другого, — для этого необходима вторая, фундируемая в первой интенциональность. Не менее очевидно, однако, и то, что каждый из этих способов сознания уже требует различения имманентного и действительного объекта, то есть заключает в себе ту самую проблему, которая должна была быть разрешена всей этой конструкцией» [3. С. 288—289].
4 Бергсон начинает свой анализ с восприятия, принимая всю формальность такого начинания с перцептивно данного содержания, в котором всегда уже обосновалось время, прошлое, в качестве следа указывающее в сторону духа.
5 Вот как эта диалектика, с отсылкой к сфере затемненного бессознательного, разворачивается самим Бергсоном: «… наше актуальное восприятие, будучи протяженным, по своей природе всегда будет только частичным внутренним содержанием по отношению к более обширному и даже бесконечному содержащему ее опыту, и этот опыт, отсутствующий в нашем сознании, потому что он выходит за воспринимаемый горизонт, от этого нисколько не меньше кажется нам актуально данным. Но тогда как от этих материальных предметов, которые мы наделяем наличной реальностью, мы чувствуем себя зависимыми, наши воспоминания, напротив, в той мере, в какой они принадлежат прошлому, оказываются мертвым грузом, который мы тащим за собой, охотно теша себя мыслью от него избавиться». [4. С. 250—251]
6 «Нет абсолютного различия между различиями по природе, связанными с памятью, и различиями в степени, связанными с материей, между творением и повторением, духом и материей, но есть степени различия в лоне одной и той же природы. Момент «компенсированного и нейтрализованного» дуализма «Материи и памяти» базируется на монизме различия, которое ослабляется в степенях различия. Длительность, есть то, что различается по природе с собой, и то с чем она различается, есть ее самая низкая степень, или материя. Это также означает, что длительность включает в себя различия по природе, тогда как материя удерживает только различия в степени. Дуализм исчезает, это больше не дуализм тенденций, это монизм различия» [5. P. 5].
7 «…„релятивная система“как конститутив мирности настолько не испаряет бытие внутримирно подручного, что только на основе мирности мира это сущее в своем „субстанциальном“ „по-себе“ и может быть открыто. И только когда внутримирное сущее вообще может встречаться, имеется возможность в поле этого сущего сделать доступным всего лишь наличное. Это сущее может на основе своей всего-лишь-наличности быть определено со стороны своих „свойств“ математически в „функциональных понятиях“» [8. С. 109—110].
8 «…аффективная реакция всегда основана на оценке когнитивно обработанного сигнала (хотя эта обработка может оставаться предварительной), и, по крайней мере в некоторых случаях, сознательное внимание способно регулировать нисходящим откликом эмоциональную реакцию, вызванную на более низком уровне когнитивной обработки при восходящей обработке» [9. P. 145].
Об авторах
Максим Федорович Литвинов
Воронежский государственный университет
Автор, ответственный за переписку.
Email: litvinov@phipsy.vsu.ru
ORCID iD: 0000-0003-0161-9254
кандидат философских наук, доцент, кафедра истории философии и культуры, факультет философии и психологии
Российская Федерация, 394018, Воронеж, Университетская пл., д. 1Список литературы
- Cherniavsky A. Exprimer l’esprit. Temps et langage chez Bergson. Paris : L’Harmattan, 2009.
- Бергсон А. Опыт о непосредственных данных сознания // Собрание сочинений в четырех томах. Т. 1. М. : Московский клуб, 1992. С. 45-155.
- Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Книга первая. М. : Академический проект, 2009.
- Бергсон А. Материя и память // Собрание сочинений в четырех томах. Т. 1. М. : Московский клуб, 1992. С. 157-316.
- Montebello P. Deleuze, lecteur de Bergson // Bergson. Les cahiers d’histoire de la philosophie. Paris : Cerf, 2012. Режим доступа: https://www.academia.edu/22983843/Bergson_est_il_deleuzien (дата обращения: 30.12.2022).
- Делез Ж. Бергсонизм // Эмпиризм и субъективность: опыт о человеческой природе по Юму. Критическая философия Канта: учение о способностях. Бергсонизм. Спиноза. М. : ПЕР СЭ, 2001. С. 227-322.
- Делез Ж. Марсель Пруст и знаки. Статьи. СПб. : Лаборатория метафизических исследований философского факультета СПБГУ, Алетейя, 1999.
- Хайдеггер М. Бытие и время. Харьков : Фолио, 2003.
- Schaeffer J.-M. L’expérience esthétique. Lonrai : Gallimard, 2015.
Дополнительные файлы