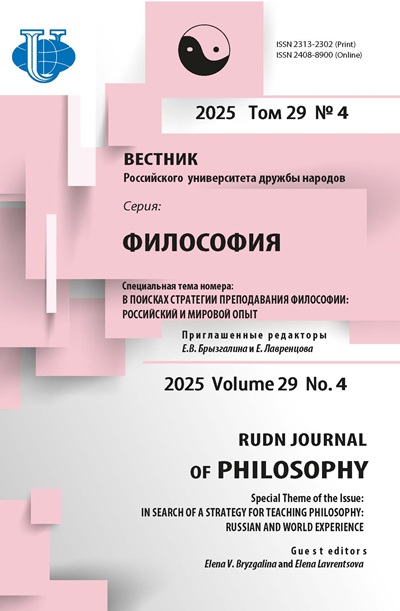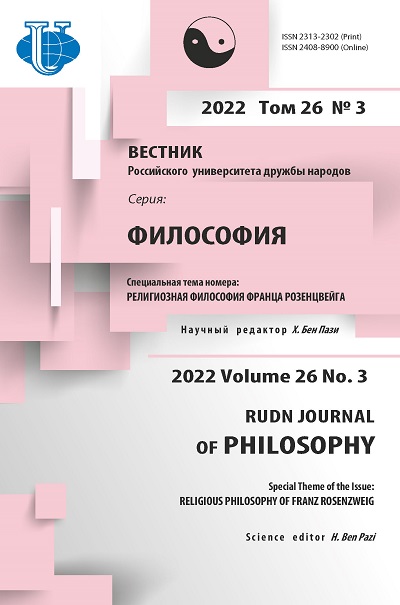Старый, давно необитаемый флигель: «Критика практического разума» как порождение архитектурного классицизма
- Авторы: Судаков А.К.1
-
Учреждения:
- Институт философии РАН
- Выпуск: Том 26, № 3 (2022): РЕЛИГИОЗНАЯ ФИЛОСОФИЯ ФРАНЦА РОЗЕНЦВЕЙГА
- Страницы: 623-643
- Раздел: КЛАССИЧЕСКАЯ НЕМЕЦКАЯ ФИЛОСОФИЯ
- URL: https://journals.rudn.ru/philosophy/article/view/32111
- DOI: https://doi.org/10.22363/2313-2302-2022-26-3-623-643
- ID: 32111
Цитировать
Полный текст
Аннотация
«Критика практического разума» традиционно считается одним из основных произведений Канта по практической философии, структурные и стилистические аналогии которого с «Критикой чистого разума» подкрепляют убеждение в его фундаментальном систематическом значении. Тем не менее очерк строения системы философии в первой «Критике» отдельной критики разума в его практическом употреблении не предусматривает. Это побуждает исследовать вопрос о смысле и задаче критики практического разума в основных сочинениях Канта 1780-х годов. В ходе такого исследования выясняется, что понятие такой критики появляется у Канта в «Основоположении к метафизике нравов», имеющем целью отыскать и утвердить верховный принцип чистых нравов, дать его полноценную «дедукцию», и постольку служить достаточным введением в систему метафизики морали. Именно для такой дедукции, для доказательства нормативной силы и истины категорических императивов Кант считает необходимым переход к критике практического разума. Однако этот переход и эта критика подразумеваются внутри предметного поля «Основоположения»: изложенные в «Основоположении» основные черты практической критики разума достаточны, по Канту, для целей обоснования критической морали. Если же данная в нем дедукция закона потерпит неудачу, никакие последующие «успехи метафизики» этой неудачи не компенсируют, - ибо дедукция совершается у «последней границы практической философии», за которой простирается область моральной веры. Кантоведы признают новшествами второй «Критики» учение о «фактуме разума» и о высшем производном благе. Однако позволительно сомневаться в том, что они действительно представляют собою новшество и движение вперед.
Полный текст
Введение
Интеллектуальные построения немецких философов классической эпохи отличаются тщательной продуманностью структурных элементов, их взаимного отношения и последовательности. Философская конструкция состоит из дисциплин и частей, каждая из которых выполняет свою функцию; в каждом «корпусе» и каждой «комнате» философского «дома» кто-нибудь живет, в каждой «комнате» выполняется некая необходимая для нужд целого «работа». Не составляет исключения из этого и система Канта, и в частности — кантовская практическая философия. Между тем в «конструкции» этой последней сохраняется один архитектурный парадокс: фундаментальный принцип кантовской этики дедуцирован и осмыслен в контексте системы в «Основоположении к метафизике нравов» (1785), за которым спустя целое десятилетие последовала «Метафизика нравов» (1797), систематически излагающая (в ее этической части) нравственные обязанности человека перед самим собой и другими, и, таким образом, полностью очерчивающая кантовское понятие о добродетели, кантовскую идею практического идеала, как полного определения нравственной воли. Наряду с этими двумя сочинениями существует, однако, «Критика практического разума» (1788), которая, по утверждению самого Канта, ставит своей целью обоснование верховного принципа нравственности (подобно «Основоположению») и содержит, кроме того, суждения о добре и зле как «предмете практического разума», безусловную тотальность которого образует, согласно Канту, понятие о высшем благе, как необходимом и пропорциональном соединении добродетели и блаженства. «Критика практического разума» заключает в себе не только отличное от данного в «Основоположении» понятие о высшем благе как существенно двусоставном, но и теорию «постулатов», признание которых необходимо только в интересе практического разума, а именно, делает возможным воплощение высшего блага в мире. Итак, в «Критике» устанавливается и дедуцируется нравственный закон, — но, по собственному признанию Канта, это уже было сделано прежде в «Основоположении»; напротив, цельное понятие о добродетели конечной воли не дедуцируется и не развивается систематически, но просто предполагается для целей анализа предмета практического разума и его «диалектики»; в «Критике практического разума» мы не находим системы нормативных правил, но встречаем некую общую метафизико-этическую конструкцию, не только не наполняемую конкретными содержаниями нравственной воли, но, по общему впечатлению, не требующую и даже не допускающую подобного наполнения. Многое в методике и структуре этой «Критики» симметрично воспроизводит методику и структуру «Критики чистого разума»; кажется, будто текст создан просто для архитектурной симметрии с первой «Критикой». Но, — если верно, что дедукция и утверждение принципа нравственности, равно как и конструирование системы конкретных норм и правил практического разума на основе этого принципа, совершаются Кантом в другом месте, — во второй «Критике», в отличие от первой, не происходит не только концептуального прорыва, но и систематического движения. Симметрия целого, по видимости, соблюдена, здание этической «Критики» монументально и, по видимости, внушительно; однако оно оказывается предметно нефункциональным, а вследствие того — пустым и необитаемым. В него, как в старую часовню, заглядывают разве что для просвещения о Боге и бессмертии. Кантовскую этику в большинстве случаев находят более удобным изучать по «Основоположению», кантовскую теорию права и политики — по трактату о вечном мире или первой части «Метафизики нравов». «Критику практического разума» профаны с двусмысленным почтением оставляют в стороне: это здание из старых времен стоит и впечатляет; оно есть, но для чего оно есть, понять затруднительно. К этому присоединяются особенности стиля: В «Основоположении» и «Метафизике нравов» Кант говорит с людьми о человеческих вопросах (морали и права), — в этической «Критике» он, казалось бы, беседует исключительно с современными ему профессорами моральной философии и богословия о проблемах вполне отвлеченных.
Однако для того, чтобы в достаточной мере обосновать наш взгляд на «Критику практического разума» как просто на памятник философской архитектуры, бесспорно заслуживающий охраны (от повреждения и поругания идейными противниками), но не заключающий в себе ни систематического развития, ни потенциала такого развития, мы хотим рассмотреть в данной статье, как вопрос о критике практического разума, ее смысле и задачах, ее систематической необходимости представлялся самому Канту в зрелые годы его философского творчества.
Вопрос о месте и праве этической «Критики» в исследовательской литературе
По мнению Ф. Паульсена, «Основоположение» есть первый опыт применения критического идеализма к этическим вопросам, «первое связное изложение» этической теории Канта [1. С. 281]; Паульсен замечает как то, что по замыслу автора «Основоположение» «должно было играть роль Критики» [1. С. 286], так и то, что некоторые существенные идеи «Основоположения» (как, например, идея нравственного совершенства как царства целей, впрочем, по мнению Паульсена, не играющая в «Основоположении» какой-либо роли при построении этики [1. С. 300]) были впоследствии Кантом оставлены [1. С. 281]. «Критика практического разума» обосновывает систему этики, занимая «место пропедевтической дисциплины» [1. С. 108][1]; именно она содержит принципы моральной философии и этикотеологии [1. С. 101]; правда, собственно важным прибавлением Паульсен признает только последнюю. Позднейшую «Метафизику нравов», как собственно изложение системы конкретной этики, Паульсен считает малоценным продуктом старческого возраста Канта [1. С. 108, 281], и потому в его глазах «Критика практического разума» есть «главное сочинение по нравственной философии» Канта [1. С. 287][2].
Согласно В. Ф. Асмусу, в трех «трактатах Канта по вопросам этики» — как в «Основоположении», так и во второй «Критике», и в «Метафизике нравов» — «излагается по существу одна и та же система этических взглядов» [3. С. 318]; однако они различаются целью создания и потому характером изложения. «Основоположение» ставит целью обоснование нравственного закона; в «Критике практического разума» проблема обоснования морали ставится в сопоставлении с критикой теоретического разума, причем автор отмечает параллелизм в построении первой и второй «Критики»; «Метафизика нравов» есть изложение системы на почве данного в двух предыдущих трактатах обоснования [там же]. При таком понимании дела, сводящем различие между «трактатами» к сугубо стилистическому, при полном тождестве систематического содержания, вопрос о цели написания Кантом «Критики» после «Основоположения», нового обоснования морали после уже однажды данного, в отсутствие концептуальных перемен и новшеств, остается неясным.
А. В. Гулыга видит в «Основоположении» не простую пробу пера, но первое систематическое изложение кантовской этики [4. С. 153]. Он делает акцент на замечании философа из предисловия к этому сочинению, согласно которому критика практического разума требует ясного понятия о единстве теоретического и практического разума, и полагает, что в 1785 году Кант был «еще не в состоянии решить подобную задачу» [4. С. 153], а к 1788 году она уже была ему по силам, и философ создал «Критику». По содержанию же «Основоположение» и «Критика практического разума» отчасти повторяют друг друга, отчасти же друг друга дополняют (такая форма речи подчеркивает, опять-таки, что некоторые содержания ранней работы были утрачены в более поздней, — хотя и никак не объясняет этого). Общий вопрос остается в тумане — если дело только в строгом понятии о единстве человеческого разума, которое уже в «Основоположении» Кант внятно осознает и которого требует, но которое только не может удачно выразить, и если при этом систематическое изложение (или хотя бы полный очерк системы) дано уже в этом раннем тексте, и постольку уже в нем основные задачи удовлетворительно решены, — то (если предположить, что в позднейшем сочинении «слово найдено» и желательная форма выражения достигнута) велико ли будет, в самом деле, значение позднейшего сочинения за рамками стилистики?[3].
Впрочем, проблема может заключаться именно в этом: насколько удовлетворительно решены задачи этического обоснования в самом «Основоположении». Хайнер Ф. Клемме справедливо подчеркивает, что ответ на вопрос о мотивах происхождения и цели второй «Критики» Канта определяется нашей интерпретацией третьего раздела «Основоположения», содержащего попытку дедукции морального закона. Вторая «Критика» дает учение о «фактуме чистого разума», играющее ключевую роль в структуре аргументации «Критики практического разума» [5. P. 15]. Спрашивается: означает ли это учение неявное признание Кантом неудачи предпринятой в 1785 году попытки дедукции, или же некий вариант фактума разума есть уже в «Основоположении», и во второй «Критике» мы имеем только «более утонченную версию» [5. P. 12]? По мнению Клемме, фактум разума можно считать удостоверенным только после разрешения «антиномии практического разума». Антиномия же была открыта после того, как в 1786—1787 годах Кант по-новому определил соотношение чистого и эмпирического практического разума, так что она не была и не могла быть известна Канту ни в пору создания «Критики чистого разума», ни в год написания «Основоположения». Клемме резюмирует свою позицию так: «Вторая «Критика» возникает из дополнения «Критики чистого разума» «критикой чистого практического разума», которое Кант первоначально предполагает дать, и в котором он хочет устранить возражения, выдвинутые против его концепции практического употребления разума и его совместимости с чистым спекулятивным употреблением разума» [5. P. 28]. Вопрос только в том, действительно ли учение о фактуме разума не имеет себе соответствий в «Основоположении», и действительно ли диалектика практического разума в том виде, в каком мы находим ее в этической «Критике», имеет столь принципиальное значение для общего понятия о разуме, что только с ее открытием становится возможно отчетливое представление о единстве разума в двух его употреблениях.
По мнению Б. Людвига, решающий момент в возникновении замысла второй кантовской «Критики» следует искать в метафизической дедукции из третьего раздела «Основоположения», которую, однако, этот автор трактует скорее как дедукцию свободы (а не закона нравов). Непосредственная категориальная взаимосвязь между свободой и нравственным законом составляет эпохальное новшество «Основоположения»: свобода — основание бытия нравственного закона. Однако в этой работе философия Канта, по Людвигу, еще не является последовательно-критической: действительность свободы как «нечувственной способности» здесь все еще обнаруживается «в области теории» [6. S. 415]; здесь еще сохраняются претензии «на спекулятивное постижение причастности человека тому умопостигаемому миру, в котором только и может быть мыслима трансцендентальная свобода его воли» [6. S. 414] (иными словами, Кант «Основоположения» еще сохраняет претензии проникнуть мыслью в умопостигаемый мир?). Поэтому и дедукция свободы в «Основоположении» остается чисто спекулятивной. Во второй «Критике» (и одновременно во втором издании первой «Критики») Кант оставляет эту дедукцию как догматическую ошибку, признает «эпистемический приоритет» морального закона перед свободой, и соответственно — признает этот закон исключительным основанием познания свободы [6. S. 414]. Свобода (и наше умопостигаемое существование) обнаруживается только в сознании безусловно повелевающего морального закона [6. S. 416]. Таким образом, также и согласно Людвигу, «Критика практического разума» есть основное произведение Канта по (последовательно-)критической этике, тогда как «Основоположение» — только подготовительный опыт, к тому же не свободный от догматических ошибок. Это понимание теоретического истока второй «Критики» было бы предметно-основательно, — если бы в самой этой второй «Критике» метафизическая дедукция свободы из закона не дополнялась еще и метафизической дедукцией закона из свободы, и если бы, в свою очередь, в «Основоположении» Кант не отрицал одинаково строго и определенно философскую весомость как попыток вчувствования в умопостигаемый мир, так и попыток проникнуть в него при помощи мысли.
Во всяком случае мы видим, что вопрос о том, оправдано ли появление отдельной «Критики практического разума» концептуальными переменами в философии Канта 1780-х годов, и в чем именно состоят эти перемены, и наконец — составляют ли они прогресс или отступление в движении «последовательного образа мысли спекулятивной критики», — хотя историки и нечасто ставят вопрос в таком виде, — можно считать открытым для дискуссии.
1781: критика разума в первом проекте системы трансцендентальной философии
В «Критике чистого разума» система чистой философии, как познания из чистого разума, представляется философу Канту состоящей из пропедевтики и метафизики. Пропедевтика есть критика разума, метафизика есть система реальной науки разума на основании, подготовленном критикой. Задача критики — исследование «способности разума в отношении всего чистого знания a priori» [7. С. 616 (В869)], «чистого разума, его источников и границ» [7. С. 68 (В25)], или иначе — «всего, что может быть познано a priori» [7. С. 616 (В869)]. В критике разума подвергаются оценке не отдельные познания разума, но сам разум, «что касается всей его способности и пригодности к чистым априорным знаниям» [7. С. 567—568 (В789)], или рассудок «в отношении его априорных знаний» [7. С. 69 (В26)]; поэтому она предназначена «определить и обсудить права разума вообще (согласно первым основоположениям его устройства)» [7. С. 562 (В779)]. Критика доказывает, на основании строгих принципов, существование определенных границ разумного познания; эта ступень самопознания разума возможна «лишь для зрелой и возмужалой способности суждения» [7. С. 567 (В789)]. Только такая зрелость способности суждения позволяет обоснованно решить вопрос о том, возможно ли для нас безграничное познание чистым разумом, или это познание заключено в известные границы [7. С. 568 (В789—790)]. И потому пропедевтика или «критика чистого разума… может служить не для расширения, а только для очищения нашего разума и освобождения его от заблуждений» [там же]. Критика очищает метафизику как науку и приводит ее благодаря этому «в устойчивое состояние» [7. С. 39 (BXXIV)].
А именно, критика освобождает разум от иллюзии, будто существует возможность «выходить с помощью теоретического разума за пределы опыта» [там же]. Критика ограничивает теоретическое применение разума сферой возможного опыта. Однако, когда разум пытается выйти за пределы этой сферы, он пользуется для этого основоположениями, имеющими эмпирический характер, и потому грозящими отождествлением области чувственно опосредованного опыта с областью познания разумом вообще. Это отождествление, равносильное отождествлению сферы явлений и сферы вещей в себе, — этот привычный натурализм философствующего разума есть, по Канту, «препятствие, ограничивающее и даже угрожающее совсем уничтожить практическое применение разума» [7. С. 40 (BXXV)]. Критика разума уничтожает это препятствие, и потому, согласно Канту, она приносит также положительную пользу, расчищая место для практического применения разума, или, точнее выражаясь, удостоверяя разум в том, что это «место» (которое в детерминистических и натуралистических концепциях представляется беспочвенной выдумкой мистиков и идеалистов) в действительности свободно. Разуму в теоретическом применении отказано в самой возможности выхода за пределы чувственно опосредованного опыта. Тот же разум в чистом практическом применении необходимо выходит за эти пределы, не нуждаясь для этого в помощи теоретического разума, однако нуждаясь в гарантиях от посягательств с его стороны и от противоречий с самим собою [7. С. 40 (BXXV)]. Критика чистого теоретического разума учит принимать всякий объект познания одновременно в двух значениях: как явление и как вещь в себе, и показывает, что «основоположение причинности относится только к вещам…, …поскольку они суть предметы опыта» [7. С. 41 (BXXVII)], а постольку воля человека может быть мыслима как свободная без противоречия универсальному значению законов природы для той же воли. Нравственность же необходимо предполагает свободу воли, ибо ее априорными предпосылками являются «практические изначальные, заложенные в нашем разуме основоположения, которые были бы совсем невозможны без допущения свободы» [7. С. 42 (BXXVIII—XXIX)]. Постольку критика разума, как пропедевтика его систематической науки, должна показать эту возможность непротиворечивого мышления свободы и ее закона; критика разума показывает, что мыслящий разум должен допустить возможность такого мышления, трансцендирующего границы возможного опыта. Но эта пропедевтическая задача определенно возлагается в «Критике чистого разума» на теоретический разум; речь идет именно о пропедевтике чистого теоретического разума; поприще таких исследований, как и догматических возражений против таких исследований, находится в юрисдикции теоретического разума: именно теоретический разум пытается доказать, «будто свобода вовсе не может быть мыслима» [7. С. 42 (BXXVIII)]; именно теоретический разум не должен противодействовать утверждениям практического, а значит, именно он же должен занять принципиальную позицию, дающую ему возможность не противодействовать (трансцендентальный идеализм). Постольку все необходимые для этого «критические различения» также относятся к юрисдикции теоретического разума и его критики. Постулаты Бога, свободы воли и бессмертия души «для целей необходимого практического применения разума» [7. С. 43 (BXXIX—XXX)] также суть допущения теоретического разума, с необходимостью предполагающие его критическое самоограничение. Постольку ограничение разума, благодаря которому можно предоставить место для практической веры, также предполагает критику разума — но только критику чистого теоретического разума. Догматизм метафизики, говорит Кант, есть убеждение, будто прогресс в положительном метафизическом знании, — все равно, считают ли такой прогресс возможным в пределах самого теоретического, или только в пределах практического разума, — возможен без предварительной критики разума [7. С. 43 (BXXX)]. Если же в мире всегда будет существовать метафизика, то всегда будет существовать и необходимо присущая ей диалектика разума. Философия должна поэтому устранить вредное влияние естественно возникающей в разуме антиномии, заткнуть раз навсегда источник метафизических заблуждений [7. С. 43—44 (BXXXI)]. Но таково призвание критической части теоретической философии; для этого не требуется еще одна критика разума.
Вообще говоря, намеченная Кантом в первой «Критике» архитектоника системы философского знания не исключает возможности особой критики разума в практическом его применении, если бы в такой критике обнаружилась предметная потребность: система положительного философского познания представляется здесь философу состоящей из двух частей — метафизики природы и метафизики нравов. Первая имеет предметом чистые принципы разума a priori в отношении теоретического познания вещей, вторая — чистые принципы разума a priori, «определяющие и устанавливающие необходимость всякой деятельности или воздержания от деятельности (welche das Tun und Lassen a priori bestimmen und notwendig machen)» [7. С. 616 (В869)]. Вообще говоря, здесь может быть поставлен также и вопрос о способности разума устанавливать подобные чистые законы свободного самоопределения, равно как и определять волю согласно им. Может ли чистый разум иметь также практическое применение, и как далеко простирается его познавательная и нормативная сила в этом применении (каковы границы практического разума) — такие вопросы были бы вполне закономерны в системе трансцендентального идеализма на кантовских основаниях. Однако своеобразие кантовской этико-философской позиции в «Критике чистого разума» состоит в том, что не только вопрос о праве и границе чистой практической философии, или метафизики нравов, здесь еще не возникает, — но и сама действительность чистого практического применения человеческого разума есть для Канта этого времени не более чем весьма желательная гипотеза. Философ Кант утверждает в этом сочинении, что если трансцендентальная философия «имеет дело исключительно с чистыми априорными познаниями» [7. С. 591 прим. (В829 прим.)], то «практические понятия» касаются предметов удовольствия и неудовольствия, но чувство удовольствия и неудовольствия «не есть способность представления вещей и находится вне всей способности познания» [7. С. 591 прим. (В829 прим.)]. Постольку практическое познание как таковое недостаточно чисто для того, чтобы практическая философия могла входить в состав системы трансцендентального идеализма. К тому же, по Канту времен первой «Критики», «хотя высшие основоположения морали и основные понятия ее суть априорные знания, тем не менее они не входят в трансцендентальную философию», поскольку необходимо вводят в состав системы этики «понятия удовольствия и неудовольствия (Unlust), вожделений и наклонностей (Begierden und Neigungen) и т.п., которые все имеют эмпирическое происхождение» [7. С. 70 (B29)]. Кант допускает, «что в самом деле существуют чистые нравственные законы, которые вполне а priori… определяют применение свободы разумного существа вообще» [7. С. 594-595 (В834—835)]; что такие законы «должны быть продуктом чистого разума» [7. С. 591 (В828)], — и что, если действительно существуют такие законы, есть и чистая практическая философия, — но Кант говорит это пока что в сослагательном наклонении (würden reine praktische Gesetze… Produkte der reinen Vernunft sein). А постольку в отдельной критике разума в практическом его употреблении не возникает предметной потребности потому, что чистые практические принципы разума, а тем самым и чистая этика как критико-философская дисциплина остаются здесь весьма желательной, но не удостоверенной возможностью. Кант говорит о критике разума вообще, но подразумевает критику чистого теоретического разума. Практическая метафизика есть здесь своего рода «философия как-если-бы»; Кант пока не убедился в том, может ли она совершить то, что она в принципе предназначена сделать.
1785: критика и метафизика чистых нравов
«Основоположение к метафизике нравов» составляет решающий шаг в развитии кантовской этики именно потому, что оно есть «предварительная обработка основы» [8. С. 55] для намеченной в первой «Критике» системы практической философии. Поначалу Кант рассматривает как единственное содержание этой работы «отыскание и утверждение верховного принципа моральности» [8. С. 55], то есть именно первого основоположения названной системы. Однако в действительности «Основоположение» дает для кантовской этики намного больше: оно не только обнаруживает верховный закон этики и удостоверяет его источник в чистом разуме, но претендует также «доказать a priori, …что есть практический закон, который повелевает сам по себе абсолютно…, и что следование такому закону есть долг» [8. С. 157]. Если раньше закон чистой этики доброй воли представлялся философу чем-то только возможным или мыслимым, то теперь Кант претендует дать полноценную философскую дедукцию этого закона, показав действительность его нормативной власти в человеческой воле. В процессе же подготовки к такой дедукции закона морали оказывается необходимым также «проследить и четко представить практическую способность разума» [8. С. 117] (причем это должно быть совершено в рамках второй части кантовской работы, в переходе от популярной этики к метафизике нравов). «Основоположение» должно одновременно служить полноценным введением в чистую практическую философию. Сложность для Канта состоит в том, что сама эта философская наука есть некая «совершенно новая область» [8. С. 61]. Поэтому он подробно говорит здесь о том, каков предмет и задача метафизики нравов.
А именно, метафизика нравов имеет целью установить границы познания чистым разумом в области практического и источники чистого практического познания [8. С. 45], а значит, источник априорных практических принципов [8. С. 49] и «истинное назначение» верховных нравственных принципов [8. С. 97]. Поскольку «все нравственные понятия имеют свое место и источник вполне a priori в разуме» [8. С. 115], принципы нравственности можно совершенно a priori найти в разумных понятиях [8. С. 111]; это изыскание и есть не что иное, как чистая практическая философия или метафизика нравов [там же], в которой только и может быть найден «нравственный закон в его чистоте и подлинности» [8. С. 49]. Эта наука должна быть отделена «от всего эмпирического» [8. С. 107], должна излагать «понятия и законы нравственности» из чистого разума вполне чисто и обособленно от эмпирических правил, и именно для этого необходимо определение границ и объема «всего этого практического или чистого познания разума» [8. С. 115; ср. с. 107]. Метафизика нравов должна поэтому предшествовать эмпирической части этики [8. С. 49]; учение о нравах должно быть основано на метафизике [8. С. 109]. Не может быть моральной философии без метафизики нравов [8. С. 49]. Не только для системы философского знания, но и для чистоты самих нравов, как и для их правильной оценки, насущно необходимо излагать учение о нравах независимо от антропологии, «как метафизику» [8. С. 115].
Однако если, согласно Канту, не может быть этики без метафизики, и если метафизика нравов есть единственное основание всякого этического исследования, — то что служит теоретическим основанием самой метафизики нравов? Именно в связи с вопросом об основаниях Кант впервые вводит в свою систему понятие критики практического разума. А именно, он убежден: единственным основанием метафизики нравов может быть «только критика чистого практического разума» [8. С. 53]. Поэтому «Основоположение», как введение в метафизику нравов, должно представить читателю также и переход «от метафизики нравов к критике практического разума» [8. С. 57], - точнее, к «критике чистого практического разума» (как озаглавлен третий раздел работы) [8. С. 221].
Но для чего же, собственно, необходим такой «переход»? Какова, иначе говоря, теоретическая задача в пределах чистой практической философии, которую Кант не считает возможным решить без помощи критики практического разума, и которая в то же время не подлежит решению в пределах этико-философских задач «Основоположения к метафизике нравов»? Последняя оговорка в данном случае совершенно необходима: ибо, если «критика практического разума» целиком совершается в концептуальном поле «Основоположения», как введения в чистую этику, «критика чистого практического разума» не выполняет какой-либо особой теоретической задачи, и за «Основоположением» как введением может непосредственно следовать система этики, или метафизика нравов. По-видимому, именно так Кант и представляет себе дело, когда в предисловии к «Основоположению» указывает, что собирается в будущем «предложить публике метафизику нравов», предварением к которой и служит «Основоположение» [8. С. 53], и отмечает, что при разработке метафизики нравов уже не потребуется отвлекаться на спекулятивные «тонкости» и можно будет сосредоточиться на «более понятных учениях» [8. С. 55]. Это совершенно согласуется также с общим представлением философа о двучленной структуре системы реальной философии, состоящей из метафизики природы и метафизики нравов; критика разума как пропедевтика (теоретические задачи которой, в случае практической метафизики, могут выполняться вне самой системы) этой системе предшествует, а не следует за нею (как непременно должно было бы представляться их соотношение, если допустить, что «переход» к критике практического разума — это переход в некую особую дисциплинарную область критики практического разума, а не только к другой теоретической задаче в пределах все той же этической пропедевтики).
На каком же именно шаге этической рефлексии «Основоположения» оказывается необходимым «переход к критике практического разума»? Категорический императив нравственности есть, по Канту, «синтетическое практическое положение a priori» [8. С. 217]; поскольку оно синтетическое, мы не можем доказать путем простого анализа понятий, что «это практическое правило есть императив, т.е. воля каждого разумного существа необходимо связана с ним, как с условием» [8. С. 205]; для такого доказательства необходимо выйти за рамки «познания объектов» «к критике субъекта, т.е. чистого практического разума» [там же]. Иными словами, переход к критике практического разума требуется именно для трансцендентальной дедукции («утверждения») верховного принципа нравственности, — то есть, для того, что, по словам самого же Канта, относится к предметному полю «Основоположения». К нему же относится и удостоверение «того, что нравственность не есть химера», доказательство истинности и безусловной нормативной силы категорических императивов [8. С. 219]. Для такого доказательства, по Канту, безусловно необходимо «синтетическое употребление чистого практического разума» [там же], но для возможности такого употребления необходима критика этого разума, то есть выяснение объема и границ возможного для нас практического познания. Критика практического разума необходима как условие возможности синтетически-практического познания в ходе конструирования системы этической метафизики. Дело, однако, в том, что если само основоположение этой системы есть практический синтез a priori, и если таковы же все производные основоположения системы, критика практического разума совершается внутри самой этической пропедевтики, а не последует за нею там, где по смыслу конструкции может начаться построение практико-философской систематики (конкретной этики), и потому не покушается заменить собою эту систематику (к чему вполне может склонять известное недо-разумение формальности ее основоположения). Поэтому Кант говорит только, что задача критики чистого практического разума «не относится к настоящему разделу» работы [8. С. 205], она должна быть решена в другом ее разделе. В этом (третьем) разделе работы философ обещает изложить «главные черты» критики практического разума, «достаточные для нашей цели» [8. С. 219], а именно для цели обоснования метафизики нравов, выяснения и утверждения ее основного закона. Если же сказанное в третьем разделе должно быть «достаточно» для этой цели, никакой другой критики практического разума (в которой, соответственно, излагалось бы нечто для этой главной цели избыточное) читатель кантовского «Основоположения» ожидать уже не должен[4]. Можно, конечно, полагать, что теоретические выкладки третьего раздела «Основоположения», которые можно относить к главным чертам практической критики разума, не достигают поставленной цели, «недостаточны» для нее; в таком случае эта цель этической теории должна быть достигнута как-то иначе, однако достигнута в пределах предметного поля этической пропедевтики, то есть на поприще «Основоположения». На той стадии развития кантовской этической системы, которой философ достиг в «Основоположении к метафизике нравов», в отдельной критике практического разума опять-таки не возникает предметной потребности, однако на этот раз — потому, что содержательные задачи такой критики разума либо уже решены в самом «Основоположении», как этической пропедевтике, в достаточном для целей такой пропедевтики объеме, либо могут быть решены в другой версии той же пропедевтики; иначе говоря, потому, что принцип чистой этики уже дедуцирован и утвержден.
1785/1788: «Критика практического разума» меньшая и большая
а) Дедукция свободы
В частности, Кант считает возможным решить в третьем разделе проблему: как возможен категорический императив в качестве верховного практического синтеза? Решение этой проблемы, говорит он, «не лежит уже в границах метафизики нравов» [8. С. 217]. Однако после метафизики нравов уже не предполагается никакой иной практико-философской науки, кроме этической антропологии, к ведению которой этот вопрос определенно не относится. Важно, однако, другое: может ли «Основоположение» в качестве этической пропедевтики изложить хотя бы «главные черты» этого вопроса, достаточные для утверждения принципа морали, так чтобы сделать «понятной дедукцию свободы из чистого практического разума, а вместе с ней также и возможность категорического императива» [8. С. 225]?
Ему это в самом деле удается: ибо «на вопрос, как возможен категорический императив, мы в состоянии, конечно, ответить постольку, поскольку можно указать на единственную предпосылку, при которой он возможен, именно, идею свободы, а, равным образом, … убедиться и в необходимости этой предпосылки» [8. С. 267]. Практически полагать свободу воли «в основу всех своих произвольных действий … необходимо для разумного существа, сознающего в себе причинность через разум, следовательно, волю» [там же]. Этого указания и этого убеждения, — по существу дела, этой идеи, только как идеи, полагает Кант, «достаточно для практического употребления разума, т.е. для убеждения в значимости этого императива, следовательно, также и нравственного закона» [там же][5]. Но разум никогда не сможет постигнуть, «как возможна самая эта предпосылка» (свобода воли как практическая сила) [там же].
Итак, «Основоположение» объявляет невозможным «сделать понятной дедукцию свободы из чистого практического разума», в пределах первого опыта кантовской этической пропедевтики такая рационализация оснований не достигается. Впоследствии, в «Критике практического разума», такая дедукция, по наружному впечатлению, происходит в §5: из факта (фактума) действительного определения воли одной лишь «законодательной формой максимы» как достаточным основанием [9. С. 343] здесь, казалось бы, дедуцируется свобода такой воли. На деле же в указанном месте практической «Критики» Кант всего лишь констатирует, что трансцендентальная свобода действующей причины в уже известном из первой «Критики» смысле, т.е. как независимость «от естественного закона явлений в их взаимоотношении» [9. С. 345], есть необходимая предпосылка морального способа самоопределения к действию. Чтобы мыслить волю определяющейся известным образом, ее необходимо предполагать как свободную. Иначе говоря, здесь перед нами не логическое умозаключение о предмете, а просто констатация действительности предмета. §5 не говорит ничего такого, чего бы еще не знало «Основоположение» и даже «Критика чистого разума». Прироста философского знания в нем не происходит; об основаниях возможности свободы как практической силы философский разум знает благодаря ему не более, чем без него.
В «Основоположении» Кант определенно утверждает: объяснить, как простая «форма чистого разума» [8. С. 269], «принцип всеобщей значимости всех максим разума как законов… без всякой материи (предмета) воли» может быть источником морального интереса к поступку [8. С. 267, 269], то есть — «как чистый разум может быть практическим» [там же], разум совершенно не в силах. Если, стало быть, такая проблема не может быть решена разумом в силу его непреодолимых трансцендентальных границ, то она не может быть решена ни в «Основоположении», ни во второй «Критике», ни даже в систематическом трактате о нравственных обязанностях человека, для которого «Основоположение» служит введением и основой.
Три года спустя, однако, Кант формулирует эту же самую теоретическую проблему: «как… чистый разум… непосредственно может быть определяющим основанием воли, т.е. причинности разумных существ в отношении действительности объектов (только посредством мысли о всеобщей значимости их собственной максимы как закона)» [9. С. 383], или «каким образом разум» в качестве источника сугубо формального практического основоположения «может определять максимы воли» [9. С. 385], а значит, определяется ли разум только эмпирическими основаниями, или он может быть также чистым практическим разумом, — «как относящуюся к критике практического разума» [9. С. 385]. Иными словами, возникает впечатление, что вопрос о том, как чистый разум может быть практически законодательным и причиной предметов своих представлений a priori, — ответ на который «Основоположение» с критической осторожностью признало превосходящим познавательные компетенции человеческого ума, — Кант во второй «Критике» вновь объявляет теоретической проблемой, относящейся к ведению критики разума в его практическом употреблении. То, что было вынесено за границы чистой практической философии, как познания разумом, должно быть вновь внесено в ее границы, и подвергнуто теоретическому изысканию? Не означает ли это реставрации догматической метафизики морали?
Не означает — ровно до тех пор, пока остается в силе общая установка критической философии: исследование условий возможности положений дел в сфере «теории» или «практики» при одновременном убеждении в их опытно удостоверяемой действительности. Мы не можем установить, как это возможно, чтобы чистый разум был практическим, т.е. чтобы сугубая законодательная форма максимы была сама по себе достаточна в качестве основания определения воли к действию согласно такой максиме, — и однако это так: «Чистый разум сам по себе есть практический разум и дает (человеку) всеобщий закон» [9. С. 351]. Это утверждение выражает неоспоримый факт (Faktum) [9. С. 353]. В предисловии к работе Кант утверждает даже, что вся «Критика» должна доказать только это: «то, что чистый практический разум существует» [9. С. 279]. Однако, если даже это было не более чем гипотезой для Канта первой «Критики», — в «Основоположении» это уже со всей определенностью установлено, и постольку для этого нет надобности в особой линии рефлексии, в особой критике практического разума — сверх той, разумеется, которая уже произведена в проблемном поле самого «Основоположения».
Для чего же нужна в таком случае в системе чистой практической философии по Канту «Критика практического разума», если в этом единственном доказательстве после «Основоположения» нет насущной необходимости? Мы находим у Канта еще один ответ на этот вопрос, — и этот ответ выглядит весьма убедительно, будучи сформулирован в точной аналогии с ответом на вопрос о задаче критики спекулятивного разума, что при предпосылке убеждения в «параллелизме практического и спекулятивного разума» [9. С. 279] звучит, на первый взгляд, вполне «кантиански». Критика практического разума, утверждает философ Кант, «должна только показать принципы его возможности, объема и границ полностью без особого отношения к человеческой природе» [9. С. 295]. И это в самом деле было бы удовлетворительным ответом, если бы этот же самый набор теоретических задач не был прежде обозначен в «Основоположении» как предмет метафизики нравов (чистой практической философии) в ее целом[6], и как проблемное поле, которое моральная философия может изучать только при условии чисто априорного характера ее методологии. Если этика строится априорно-синтетическим путем, она непременно поставит перед собой эти вопросы, и для этого опять-таки нет надобности в особой интеллектуальной задаче «критики чистого практического разума». Кант прежде считал такую задачу «не так настоятельно необходимой» [8. С. 53]; по прошествии времени новых оснований для признания ее насущной у него также не появилось.
б) Возможность моральной мотивации и действительность морального чувства
Проведенная Кантом в «Основоположении» «последняя граница практической философии», его критическая скромность в определении того, что может знать и какие проблемы может ставить критическая этика как философская наука, обусловливает также и весьма своеобразный ответ философа в третьем разделе работы на вопрос о мотивах чистого практического разума.
Для мышления о мотивации к поступку, внутренне согласному с нравственным законом, разум имеет в распоряжении только чистую форму всеобщей значимости максимы как принципа; поэтому либо здесь вовсе нет никакого особого нравственного мотива[7], либо же нравственным мотивом служит сама «идея интеллигибельного мира», «как целого всех интеллигенций, к которому… мы сами принадлежим» [8. С. 271]. Единственно мыслимая возможность чистой практической мотивации к действию есть, таким образом, мотивация одной лишь идеей всеобщего царства разумно-свободных целей. Однако для нас совершенно невозможно сделать такую мотивацию рационально постижимой; она мыслима только как содержание разумной веры, на границе которой кончается всякое знание [там же]. Мотивирующая идея не только полезна для практического самосознания, она есть «дозволенная идея»: ее возможность удостоверена критически сознательным теоретическим разумом. Но где проходит граница знания, там нет места и философствованию; о мотивах чистого практического разума говорит моральная вера, а не практическая философия. Или иначе: практическая философия не может сказать о них больше, чем моральная вера. Это обстоятельство: что мотивация воли чистым практическим разумом не поддается философской рационализации, т.е. осмыслению в категориях чистого разума, есть нечто, лежащее вне его «пределов», — если его открывает философия, может быть весьма неприятно для самосознания самой философии. Философ может попытаться компенсировать это обстоятельство тем или иным способом. Наиболее прямолинейный способ такой компенсации — иррационалистические построения в этике. Более сложный случай представляют философы, которые, вполне признавая сам основополагающий факт, и вполне понимая несостоятельность иррационалистических уловок, тем не менее строят философскую теорию моральной мотивации. Один из примеров такого рода — Кант «Критики практического разума»: обширный раздел второй «Критики» трактует «о мотивах чистого практического разума» [9. С. 465—517], хотя «Основоположение» признало невозможной содержательную рациональную теорию об этом предмете.
Каковы причины того, что философ, тем не менее, все же решил об этом говорить? Обращает на себя внимание, что в этом разделе Кант, в сущности, повторяет свой вывод из предыдущей работы: «каким образом закон сам по себе может быть непосредственным определяющим основанием воли (а ведь это и составляет суть всякой моральности) — это проблема, неразрешимая для человеческого разума» [9. С. 467]. Как же и о чем же, в таком случае, можно говорить на эту тему? Кант собирается говорить не о том, как возможно непосредственное определение воли законом, т.е. «на каком основании моральный закон служит мотивом» [там же], а только о том, что моральный закон как мотив поступка порождает (wirkt) «в душе» [9. С. 467]. Если «моральный закон непосредственно определяет волю» [9. C. 465] то «она как свободная воля определяется только законом» [9. С. 467]. «Чувственные побуждения» и «склонности» не только не содействуют ей в этом, но, поскольку они могут противодействовать моральному самоопределению, они совершенно вытесняются из нравственной воли; поэтому моральный закон оказывает негативное «действие на чувство (путем потеснения склонностей)» [9. С. 467] и таким образом порождает некоторое чувство. Это, говорит Кант, «первый и, быть может, единственный случай, когда из понятий a priori мы можем определить отношение познания… к чувству удовольствия или неудовольствия» [9. С. 469]. И далее философ обращается к анализу психологии себялюбия, благорасположения к себе и т.д. При этом он замечает, в частности, что «стремление к высокой самооценке» наносит ущерб моральному закону, «поскольку такая самооценка основывается на чувственности» [9. С. 469], моральный же закон «оказывает влияние на чувственность субъекта и возбуждает чувство, которое содействует влиянию закона на волю» [9. С. 475]. Эти замечания открывают перед нами сущность произошедшего: отчетливо понимая невозможность для критического философа вести рациональную речь об условиях возможности чистой мотивации законом практического разума, Кант перевел разговор в плоскость психологических условий действительности такой мотивации, в перспективу отношения между идеей (понятием) чистого, в данном случае — практического, разума и фактической природой человека как разумного и свободного, но при этом также чувственного существа. Отвлекшись от рефлексии о чистых законах разума a priori, какими их знает чистая этика, Кант заговорил о человеке, находящемся под влиянием склонностей и чувственных побуждений, и постольку о «действиях и условиях человеческого воления вообще» [8. С. 51], и тему моральной мотивации рассматривает теперь с той точки зрения, как можно открыть закону «доступ к воле человека и убедительность для исполнения» [8. С. 49], не унизив при этом ни достоинства закона, ни достоинства человека как субъекта закона. Иными словами, рассуждение о том, что порождает закон морали «в душе», исследование мотивации воли одним лишь законом через выяснение морального отношения разума к чувственности, как и все возникающие по ходу этого исследования психологические отступления, представляют собой уже не часть чистой метафизики нравов, а фрагмент практической антропологии, как эмпирической части кантовской этики, и постольку — не элемент этического исследования оснований («критика практического разума», по признанию Канта, и есть единственно возможное содержание такого исследования оснований), но элемент приложения этики к человеческой природе[8]. В главе о мотивах, таким образом, происходит смещение теоретической перспективы, и потому философ, сознавая свои критические границы, говорит в ней, на самом деле, о том, трактовку чего эти критические границы нисколько не запрещают.
Заключение
Приходится сделать следующий вывод: часть того, что Кант обещал разъяснить в третьем разделе «Основоположения к метафизике нравов», по его же собственному сознанию, рациональному объяснению принципиально не поддается, ибо на этом уровне проходит последняя граница всякого практического познания разумом. Невозможность разъяснения этих вопросов обусловлена, по его собственному убеждению, не временными, исторически преодолимыми, но принципиальными границами познания разумом, удостоверяемыми этической пропедевтикой в ее качестве критики практического разума. То есть это не какая-либо случайная, но трансцендентальная непостижимость. Между тем сам факт, что «Основоположение» завершается рефлексией о последней границе всякой практической философии, имеет непосредственное отношение к изучаемому здесь вопросу о судьбе теоретического замысла «критики практического разума» в этике Канта. Ибо, если эта критика чистой воли должна полностью установить «принципы его [практического разума. — А. С.] возможности, объема и границ» [9. С. 295], то в сочинении, установившем и убедительно дедуцировавшем верховный принцип практического разума, наметившем систематику его начал и указавшем его «последнюю границу», критика практического разума произведена поистине полностью, и другой ожидать уже не следует. Если у самого Канта, несмотря на это, сохранилось сознание неполной реализации критики морального разума и потребность в ее завершении в форме особого произведения, которое, как мы постарались показать, не только явным образом не было предусмотрено Кантом в набросках философской архитектоники, созданных им в процессе критического основоположения этики, но для которого после 1785 года даже не осталось какой-либо нерешенной — и допускающей рациональное решение — этико-философской проблемы, то совершенно неудивительно, что «Критика практического разума» после критики практического разума была в значительной своей части формально и структурно видоизмененным, а кроме того, стилизованным по подобию первой «Критики» повторением пройденного, в той же части, где она вступала на поприще, однажды навсегда закрытое для философской рефлексии действительной критикой практического разума, могла в самом деле создать видимость новых философских познаний — логическими аналитизмами или остроумием знатока человеческой природы. Эти разделы второй «Критики» не были реставрацией догматической философии морали, — но мы вправе думать так только потому, что в них происходило смещение перспективы философского рассмотрения — от синтеза к анализу в одном случае, от чистой к эмпирической философии нравов в другом. Новый «флигель» трансцендентального «дворца» был вполне симметричен старому и спроектирован по тем же архитектурным «лекалам», что и старый. Одна проблема: после совершения достаточной (для целей основоположения этики) критико-философской работы в основаниях «здания» селить в нем было уже почти некого, так что оно на долгие годы осталось, подобно многим дворцам классицизма, красивым, строго симметричным и совершенно гармоничным по форме, но пустым и безжизненным «памятником архитектуры». В нем было только два новых «жильца» — учение о «фактуме разума» и теория высшего производного блага, с относящимися к ней постулатами Бога и бессмертия. Реальность обоих «жильцов», на протяжении всей истории кантовской этики, подвергается большим сомнениям (в первом случае необоснованно, с аргументами в духе просвещенского рационализма, во втором же вполне законно, с апелляцией к позициям «Основоположения»). Если, однако, и эти «жильцы» окажутся призраками — «Критика практического разума» опустеет окончательно, превратившись в архитектурную «арабеску» без нового систематического содержания. Установить, возможно ли это, мы можем только после обстоятельного исследования обоих названных сюжетов. В первую очередь нас интересует кантовская идея «фактума чистого разума», к анализу истории и существа которой мы в дальнейшем и обратимся.
1 Это было бы верно, если бы проект системы, данный Кантом в первой «Критике», мог предусматривать также и этическую пропедевтику.
2 Это, по-видимому, весьма распространенное убеждение кантоведов и вообще профессоров, читающих курс истории философии, оспаривал в свое время, как неправомерное, Л.А. Калинников, отмечая, что во второй кантовской «Критике», на основе общих соображений по логике и методологии нравственной философии, решаются только «самые общие… проблемы этики» [2. C. 21], и что развернутое изложение этих проблем можно найти только в «Метафизике нравов», но что «Метафизика» (вследствие другого, не менее старинного, предубеждения) редко обращает на себя внимание историков мысли; в результате содержание кантовской этики обедняется и сводится к теории строгого до жестокости долга.
3 Насколько можно понять, основной аргумент исследователей, считающих появление еще одного обоснования чистого морального закона после «Основоположения к метафизике нравов» предметно оправданным, состоит именно в предположении неудовлетворительности его дедукции, предложенной Кантом в «Основоположении», в том или ином отношении.
4 Тем более, что сам Кант считает критику практического разума отчасти «не так настоятельно необходимой», как критику разума спекулятивного [8. С. 53], отчасти же предполагающей возможность демонстрации единства спекулятивного и практического разума в общем им принципе, то есть такую методическую полноту системы метафизики, которой Кант, как он полагает, пока еще не достиг [8. С. 55]. Согласно распространенному мнению историков философии, подобная методическая полнота и такое сознание идеи целого достигнуты Кантом только в «Критике способности суждения». Согласно этому критерию, критика чистого практического разума была бы поэтому возможна только после 1790 года!
5 Именно потому, что этого убеждения в практических целях достаточно, и что не что-то иное, как критическое самоограничение разума, заставляет разум удовлетвориться этим объемом самокритики и не искать большего, Кант и может полагать, что критика разума (имеется в виду именно в большем объеме) «не так настоятельно необходима», и что практический разум может по собственному побуждению прийти к совершенно достаточной в практических целях определенности и обстоятельности.
6 Метафизика природы и нравов, как было там отмечено, имеет целью «узнать, сколь многого может достичь в обоих случаях чистый разум, и из каких источников черпает он сам a priori это свое поучение [8. С. 45; здесь видим указание на границы и источники разумного познания. — А. С.]; при условии строго априорного метода метафизики нравов может быть «определен объем всего этого практического или чистого познания разума, т.е. вся способность чистого практического разума» [8. С. 115; здесь речь об объеме и условиях возможности практического познания из чистого разума. — А. С.].
7 «мотив здесь должен совершенно отсутствовать» [8. C. 271].
8 В «Метафизике нравов» философ в полной мере осознает действительное систематическое место этих сюжетов, а именно значение морального чувства, уважения и совести как антропологических предпосылок чистой этики, и поэтому будет рассматривать их (во «Введении к учению о добродетели») как «эстетические предварительные понятия для восприимчивости души к понятиям о долге вообще» [10. S. 530]. То внимание, которое он уделил им прежде в «Критике практического разума», как трактате о чистой этике, побуждало и побуждает кантианцев и кантоведов думать, что эти понятия и в самом деле могут быть рассматриваемы в чистой этике на кантовских началах — без ущерба для кантианской чистоты такой этики.
Об авторах
Андрей К. Судаков
Институт философии РАН
Автор, ответственный за переписку.
Email: asudakow2015@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0001-7531-6024
доктор философских наук, ведущий научный сотрудник
Российская Федерация, 109240, Москва, Гончарная ул., 12, стр. 1Список литературы
- Паульсен Ф. Иммануил Кант. Его жизнь и учение / пер. Н.О. Лосского. СПб. : Общественная польза, 1905.
- Калинников Л.А. Проблемы философии истории в системе Канта. Ленинград : Издательство ЛГУ, 1978.
- Асмус В.Ф. Иммануил Кант. М. : Наука, 1973.
- Гулыга А.В. Кант. М. : Молодая гвардия, 1977.
- Klemme, Heiner F. The Origin and Aim of Kant’s Critique of Practical Reason // Kant’s ‘Critique of Practical Reason’. A Critical Guide. Reath A, Timmermann J, editors. Cambridge : Cambrdige University Press, 2010. P. 11-30.
- Ludwig B. ‚Die Kritik der reinen Vernunft hat die Wirklichkeit der Freiheit nicht bewiesen, ja nicht einmal deren Möglichkeit.‘ Über die folgenreiche Fehlinterpretation eines Absatzes in der Kritik der reinen Vernunft // Kant-Studien. 2015. Bd. 106. No. 3. S. 398-417. https://doi.org/10.1515/kant-2015-0038.
- Кант И. Критика чистого разума / пер. Н.О. Лосского. М. : Наука, 1998.
- Кант И. Основоположение к метафизике нравов // Сочинения в 4-х томах на немецком и русском языках. Т. III. М. : Московский философский фонд, 1997. С. 38-275.
- Кант И. Критика практического разума // Сочинения в 4-х томах на немецком и русском языках. Т. III. М. : Московский философский фонд, 1997. С. 276-733.
- Kant I. Metaphysik der Sitten // Werkausgabe in 12 Bänden. Hg. von W. Weischedel. Bd. VIII. Berlin : Suhrkamp Taschenbuch Verlag, 1997. S. 305-634.
Дополнительные файлы